Текст книги "Традиции & авангард. Выпуск № 2"
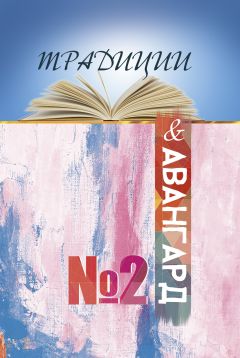
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Журналы, Периодические издания
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
Зыркает обыватель, очи вгрызлись в «пластик»,
И всякий – искусник разглагольствовать, глазить.
Но мне недосуг! У подножия вулкана
Я всего лишь мираж, именуемый Жанна.
Там, где изгородь выстроил колкий шиповник,
Дом бревенчатый жив, он один меня помнит.
Лес прозрачен, глубок. С малых лет и доселе
Я молюсь по ночам обезглавленной ели.
Щебет пташек… Бродит кто-то!
Искаженные черты.
То ли ливень, то ли хохот
Голосит: «Иду на вы!»
Пеленой зловещей застлан,
Улюлюкает бугор.
Лесовик иль чёрт горластый
Вход в леса багром подпёр?!
Черной силы рыщет свора,
Изнывает березняк.
«Погоди! Возьмём измором!» –
То ли призрак, то ль сквозняк.
У бугра таится домик –
Деревянная броня!
То ли жив он, то ли помер,
То ли сумраком объят…
К перемене погоды грусть,
Небо – ватное одеяло.
Не сложились стихи – и пусть…
Треугольники и овалы.
Лист исписан, шероховат.
Что ни день, то почти что прожит.
Вдохновение в аккурат
Сматерилось, скривило рожу.
Прицепилось словечко «гнус»,
Подтянулись «бурьян», «пылища».
И не жизнь, а сплошной надкус.
Новизны…
ищем… ищем…
Выкричать горесть, безбудущность, холод,
Возраста дискомфорт.
Где пришвартован убежище-город?
Город, ко мне!
Апорт!
Голос на счастье подай глухомани.
Привязь перегрызи!
Предпочитаю офлайн онлайну…
Голос!
Город вблизи.
Не оставляя когтей отпечатков,
Полем-перекати…
Комедиантство на обе лопатки!
Город, зол.
Город, мстит!
Холодность.
Оттепель нынче по блату
В мире тахикардий.
Непрекращающихся снегопадов
Город ждет…
Город, жди!
Взъерепенилась протока
Чешуей бурливых вод.
Жизнь от выдоха до вдоха
Жжёт пунктиром. В мыслях: «Вот…»
Удила изъели волны –
Всплеск свободы! Погляди:
Судороги небо сводят
Щупальцами вязких тин.
Утопилась бренность прока,
Облачившись в серебро.
Медной проволокой – роком
Солнце всмятку на зеро…
Не нова игра в любовь – прежде исстрадалась:
Поселение Ключи, улица Усталость.
Когда нагрянули в печали
И сотрясается округа,
Мы в вечном поиске друг друга
Произрастаем молочаем.
Перекрести меня молчаньем…
Когда выносят смысл за скобки,
А память заперта в подсобке,
Забвенье угощает чаем
Не тех… не с теми… Докучаем
Стихами, письмами, мольбами.
Друг друга расшибаем лбами
В неумолкающем рычанье
Судьбы глагольных окончаний
За неявление ночами.
Во снах друг друга обнаружим,
Увы… не ставший моим мужем.
Бездомным псом, свернувшимся клубком,
Я постигаю сущность общежитий.
Ужиться… Втечь стеною в пол. Комок
Стихов извлечь из глотки трижды. Ближе
Подвала клеть. Отгорожусь свечой
От чувств и мыследействий под копирку.
Из мира баловней, где в доску свой –
Глупец… себя я вышвырну за шкирку.
Приступ.
Вулканом эго истерит,
Кляня возню сует и пофигизма.
Пружины дней рождают ритмы рифм.
Луна-вахтерша скалит зубы, грымза…
Слякоть.
Так поглощает мысль вода.
А шар земной пронзила арматура.
Гляжу в дома и на дома, отдав
Последний грош пьянчуге сдуру. Труден
Прыжок сознанья в полынью. Влекут
Рубли разгоряченных полуночниц.
Вдыхаю одиночество. А Кутх
У совести выклёвывает очи…
* * *
Что мы имеем?
Так, плесневеем…
Мысль куёт слова в кузне подсознанья.
Вечная борьба с разумом. Осанну
Петь не стану лжи. Сердцу стихотворца
Правдою болеть. Молвят: «Цыц, оторва!
Истина грешна! Памятуй, негоже
Байки дна травить! Рвань в местах отхожих
Треба утопить!» Бьёт челом угода,
Теребит Псалтырь. Вздёрнулся с чегой-то
Праведник-немтырь. Всенощная, толпы –
Взвинчено село. Освещает торбы
Спьяну дурачьё. Дева мироточит,
Кровоточит крест. Кризис веры мощью
Похулил Завет. Поцелован Богом
В лоб грешной народ. Жизнь не вкривь, а боком…
Да и правды нет. Правда, что покойник,
Отжила своё. Нехристи, отпойте
Подлое нутро. Передёрнул карту
Пресловутый фарс… а быть может, карма
Целится в анфас. В русскую рулетку
Вздумал фаталист, поплатился лет так в…
Всё одно и то ж. В шею летописцев!
Мировая ложь вынуждает спиться.
…Вкрадчивая речь к душам горемычным
Из словес куёт ржавые отмычки.
Что померла! Лет двадцать умирала.
И не жила, и не давала жить.
Бессилием… валосердином, калом
Пропахло всё! Потрачено деньжищ.
Захоронения. И в эту гущу
Впихнули гроб. Сто фронтовых – не дрейфь!
(Век двадцать первый тщательно расплющил
Невольницу фашистских лагерей.)
Покоишься… Незримая оттуда:
– Одумайтесь!
Всё надзираешь?! Ша!
У Бога вызнай правду про Иуду.
На памятник – без возражений! – шарж!
<Анне Яковавне>
– Поведай Север, Яковавна!
– Гнездится шторм в глазницах лавы.
Не дремлют дебри: «Прочь, незваный!
С вершин спускаются обвалы!»
Крадется Кутх тропой медвежьей.
Лучи вложило солнце в ножны.
– Напой душе заиндевевшей
Легенд быльё и невозможность.
Поведай землю бубном предков,
Наполни плёс хандрой залива.
– Луна укутывает пледом
Табун оленей боязливых.
– Поведай Север, Яковавна…
– Шатун встревожил побережье.
Почуй: насупились вулканы,
Собаки лают, люди брешут.
– В твоих краях я чужестранка,
Я и своей страны не знала:
Мне Польша видится в распадках…
Напой мне Польшу, Яковавна.
– Напой снега мне, Яковавна.
Клыками стынь впилась в ладони.
– Плывут созвездий караваны,
Взывают волки, тени молвят.
– Напой ветра мне, Яковавна.
Всколышь отчаявшийся Север!
– Охотник чужестранцу Фавну
Вверяет лап еловых веер.
Чертог Луны обвит обрядом,
Упряжки мчат на шабаш нечисть.
– Звезда, взошедшая тридцатой,
Помножит чёт на сирый нечет.
Поведай Север, Яковавна!
Душа во тьме блуждать устала…
– Душа – объятие вулкана,
А слёзы… слёзы – пламень лавы.
– Восхода хлыст стегает Запад,
Я по себе истосковалась.
– Волк норовит медведя сцапать,
В берлоге фыркает лукавый.
– Не сокрушайся, Яковавна…
Я – Польши… Польши отголосок.
Всмотрись: у пропасти коварной
Возник фантом в моих обносках.
– Сроднись с Камчаткой, Яковавна,
Не предавай своих корней.
Мне тундра видится саванной
Под кровом дюжих кедрачей.
– Взгляни: старик Хемингуэя
Моря с коряком бороздит.
И вторят чайки бубну: «Эй-е!
К Сантьяго с Ойе мчится кит!»
– Угаснет день венком кипрея,
Вспорхнёт жемчужинкой луна.
– На северах не каменеют,
Сердца огнём упеленав!
– Напой Камчатку, Яковавна,
Аккордом Вывенки-реки.
– К норе ручей ведет кровавый –
Волков стреляют чужаки.
– Не убивайся, Яковавна!
Отмстим клыками гордых стай!
Сбери в ладонь запретных ягод[8]8
Волчьи ягоды – кустарник с ядовитыми красными ягодами.
[Закрыть],
Я стих прочту, ты – угощай…
– Расстаться с чуждою Камчаткой,
Сцепиться с властью в ярой схватке!
– Ты из волков – сильны повадки!
Вступись за нас, укрой Камчатку.
– Свобода в вас! Казнён глашатай,
Стихи кладбищенской оградкой.
– С верхами враждовать чревато…
Меха, лосось – «богам» уплатой.
– Дрожит земля, но что ей стоит
Встряхнуть безропотное племя?!
– В легендах заперты герои…
Валежник сыр, дымит и тлеет.
– Сражает Север зоркой глушью!
С лихвой расставлены капканы,
Зверь обойдет, а рвач – послушно.
– Грядут осадки окаянны.
– Расстаться мыслями с Камчаткой,
Прорваться волком сквозь облаву
И жизни хлёсткою цитатой
Судьбу поведать, Яковавна…
Час Волка – яви сон, явь сна.
Eugene
Eugene, я онемела… Отчего?
Нелепость болтовни похлеще хмеля
Коробит. Стеклотарою отчёт
Прими! Шучу… остроты охамели.
Стихами подвожу итог черты –
Лишь «волчий голос в поле»[9]9
Цитата из стихотворения А. К. Толстого «Край ты мой, родимый край!..».
[Закрыть]… Темь. Початый
Выплакан давно. Осточертело «ты».
Пространство странствий давит, тень – отчасти.
На пепельном следов не отыскать…
Манит южан сияньем север – Lupus
Свершает роковой прыжок. Ты как?
Наивен и растерян. Не лучше б
Нам шагнуть в позавчера? Самоубийств
Волна есть обострение депрессий.
Поэзию вливаю в вены. Убыть?
Куда?! Полярная недвижна… Пресня
В коллектор варварски заточена
В восьмом… и белый дом над ней хохочет.
Суть точки многоточием точна…
Взываю к сущему: «Помилуй, Отче!»
Отрубленная голова строки
«Палач» – мной недописанной – бормочет
И катится отверженная в скит…
Час Волка выпроваживает кочет.
И всё, что есть в тебе,
О чём не слышал я…
Eugene
В каком неистовом аду
(тебе ль не знать!) я кувыркалась.
Рыдая, проклинала ту…
(Уверена, ей там икалось!)
Нарёк меня «Принцессой Дна» –
Респект, жму руку! Дно я знаю!
Крах… Недоверие – вина
Предательств. Говоришь, таскаюсь
Как привидение… Что он
Судьбы волчицы не достоин,
Игрой в любовь опохмелён,
Увлёк… Куда? В каком из стойбищ
Меня искать? Лишь ительмен
В дуэте с бубном трансом горла
Всплачет: «Забудь о Мельпоме –
не! Нет?! К шаману… Дурь прогоркла».
Квасишь… опустошив опять
Очередной, очередную?
Во снах пытаешься обнять
Мечту-блудницу. Росчерк: «Ну их!
Руины завтрашнего дня!»
Глотаешь клофелин безумий.
Души потёмки – западня –
Мелькнувшей одичалой музы…
Сплюнь же… калейдоскоп тревог!
Засос чернильным поцелуем –
Верлибр… Merci, Eugene, его
(письмо) храню я. Избалуешь…
Помяну разлуку встречей,
Полюбив тоску глуши.
Где закат широкоплечий
Из саран пугливых сшит.
Тополя снегами схлынут,
Стрекозой взметнется пух.
А обозы мыслей ссыльных
Поглотит еловый хруст.
Помяну разлуку встречей,
Пригубив мечты настой.
И в стихах увековечу
Еле слышное «постой»…
Что скандалишь, вьюга, что декабрь тревожишь?
Запрягает звёзды полумесяц-сторож.
Прослезись, икона, помолитесь, свечи,
Покидаю пристань ради новой встречи.
(Обезумел Петер, да и я не Грета.)
Знать, тоской по дому страннице согреться.
Не гневитесь, сопки, не хворайте, ели.
Неспроста хвоинки дней заиндевели.
Серебринки пепла отпоют погосты.
Все мы в этом мире заплутавшем гости.
Сбережёт надежда помыслов порывы.
Крест моей любови из могилы вырыт…
Подивится, вспыхнув, пришлая планета:
Золотится в небе девять граммов нетто…
Не напраснуй, вьюга, тлен не растревожишь.
Упорхнули звёзды, растрепались вожжи.
Я не раскаиваюсь, нет…
И не молю о снисхожденье.
Снежинки – это просто снег,
Еловый снег и хвои жженье.
Взъерошен лес, взъерошен смех.
Лавины сход. Созвездий зелья.
С небес сорвавшееся «Эх…»
В сугробы сна и запустенья.
Лишь на пожарище светил
(Венерой Марс обезоружен)
Глядит с иконы девясил
Кошачьим взглядом равнодушным…
Андрей Рубанов

Андрей Рубанов родился в 1969 году в селе Узуново Серебряно-Прудского района Московской области. В 1982–1991 гг. проживал на востоке Московской области, в городе Электростали. В 1987–1989 гг. проходил срочную службу в ПВО. Учился на факультете журналистики МГУ. Работал корреспондентом многотиражной газеты, строительным рабочим, шофёром, телохранителем, занимался предпринимательской деятельностью.
В 1996 году заключён под стражу по обвинению в мошенничестве. В 1999 году полностью оправдан. В 1999-2000 гг. жил в Чечне, где работал пресс-секретарем первого заместителя полномочного представителя Правительства РФ в Чеченской республике.
Дебютировал как прозаик в 2005 году. Автор нескольких романов и сборников рассказов в жанре автобиографической прозы (или «нового реализма»), а также фантастики в жанре биопанк.
Финалист премий «Национальный бестселлер», «Большая книга», «АБС-премии». Лауреат премии «Ясная Поляна» за роман «Патриот» (2017).
ПацификВ конце зимы мне пришло письмо из редакции журнала «Объява».
Журнал считался самым модным в Москве, каждый его тираж – стотысячный – разлетался за считанные дни.
Журнал «Объява» задавал стандарты остроумия и художественного свободомыслия; в журнале исповедовали правило «как скажем, так и будет».
Юные девочки вырезали иллюстрации из журнала «Объява» – портреты рок-звёзд, актёров, писателей – и вешали на стены своих спаленок.
Каждый пятнадцатый пассажир московского метро, если это был молодой человек, держал в руке свежий номер журнала, жадно изучая его от корки до корки.
Журнал «Объява» напечатал обо мне несколько статей с фотографиями; он сделал меня знаменитым и даже немного модным.
Теперь этот дружественный журнал предлагал мне командировку в любую точку земного шара, на мой выбор, с условием, что я напишу о путешествии объёмную качественную статью.
Столь шикарная халява выпадала мне впервые в жизни, и я даже заподозрил ошибку. Меня, видимо, перепутали с Прилепиным или с Шаргуновым? Или с какими-либо такими же известнейшими, мелькающими в телевизоре?
Сгоряча ответил: если это не шутка и не сбой матрицы, то – да, спасибо, горд и тронут, если можно, я хотел бы побывать на острове Пасхи – в месте, максимально отдалённом от России и одновременно окружённом ореолом самых невероятных, галлюциногенных легенд.
Остров Пасхи – это было бог знает где, посреди Тихого океана, на обратной стороне глобуса; невозможно далеко.
Дальше, чем все прочие загадочные пятна на поверхности нашей миниатюрной планеты.
Дальше, чем Бермудский треугольник; дальше, чем пустыня Наска; дальше, чем Магадан.
Я помнил: на далёком тропическом острове стоят загадочные каменные изваяния, взявшиеся невесть откуда, фантастические идолы самого ужасного вида, какой только можно себе представить.
Когда-то давно, лет тридцать назад, в одной из прошлых жизней, мальчишкой, рождённым в СССР, я зачитывался книгой норвежца Тура Хейердала – книга как раз описывала остров Пасхи и каменных его истуканов.
Припомнив ту книгу и того мальчишку, его восторг, его мечты о дальних странствиях, я теперь решил, что время сбычи мечт пришло.
Чем я хуже Хейердала? Ничем вообще.
Отправив ответ, я, однако, засомневался.
И передумал ехать.
Тот мальчишка из советской, пропахшей навозом деревни остался далеко позади, я его давно изжил, сопливого, – он ничего не понимал в устройстве грубого вещного мира, а я, сорокалетний, понимал почти всё.
У взрослых людей такое часто происходит: сначала поддаёшься обаянию романтической иллюзии, потом трезвеешь. Куда я поеду, зачем, а как же работа, как же семья, быт, хлеб насущный? Больная сестра, старший сын от первого брака, пожилая мама?
Я почти передумал и собрался было написать вослед первому второе письмо, с отказом. И даже сочинил это письмо, но не отправил.
Рассказал жене и попросил совета.
– Дурак, – ответила жена. – Соглашайся немедленно. Они покупают тебе билет. Вдобавок твоя статья выйдет в лучшем журнале страны. Ты потратишься только на отель. Давай звони и подтверди согласие.
– Но это же чёртов туризм, – сказал я. – Путешествия не заменяют реальную жизнь.
– А что такое реальная жизнь? – спросила жена.
– Безвыходные ситуации, – сказал я. – Трагедии, драмы, страсти всякие. Любовь как у нас с тобой. Смерти. Драки. Войны. Тюрьмы. Допросы в прокуратуре. Вот реальная жизнь.
– Прекрасно, – сказала жена. – Сделай перерыв. Отдохни от драк и допросов. Бери билет и лети на остров или что там есть. Надеюсь, там красиво. Ты это заработал.
Мне всегда нравилось, как она поднимала мою самооценку.
На самом деле я соврал жене; мне нравилось путешествовать, и раз в год я обязательно выбирался куда-нибудь на неделю и в некоторых особо симпатичных мне городах, например в Праге или Амстердаме, бывал дважды и трижды, но поездки стоили дорого, каждый раз я расставался с деньгами в скрежете зубов: деньги трудно ко мне приходили, и расставаться с ними тоже было трудно.
В этот раз я собрался с духом и отправил второе письмо в редакцию: подтвердил, что готов, и срок поездки определил в три недели.
Журнал «Объява» работал как часы, и мне мгновенно прислали авиабилеты в оба конца, числом шесть штук: из Москвы – в Мадрид, из Мадрида – в Лиму, из Лимы – до острова Пасхи и обратно так же, только вместо Лимы с пересадкой в Сантьяго, Чили.
Как это часто бывает, решившись, я тут же изобрёл множество доводов «за» и стал ждать дня вылета с нетерпением.
«Уехать, уехать», – сладострастно думал я. К чёрту на рога, чем дальше, тем лучше. Развеять прогорклый московский дым в тяжкой голове. На пяти работах работал, в трёх тюрьмах сидел, семь раз был под следствием, написал двенадцать книг – и всё это не покидая пределов Кольцевой дороги. Конечно же, отсюда нужно сваливать при первой возможности. И ехать не за развлечениями и впечатлениями, не за «материалом» ехать, а просто для перезагрузки извилин.
В решении проблемы перезагрузки я достиг, как мне казалось, больших результатов. И мог с уверенностью сказать, что лучшую перезагрузку обеспечивает смертельная опасность: допустим, пуля, пролетающая мимо уха.
Ещё хорошо освежает пропущенный удар кулаком в скулу.
Перезагрузку могут дать также алкоголь и другие сильные допинги, но мне удалось остановиться на мелководье этого великого океана, не заходя в опасные глубины.
Хорошо обновляет человека любовь, но она приходит нечасто.
Очень хорошо освежает неожиданное богатство, то, что называется у бизнесменов «большой приход», но большие приходы бывают ещё реже, чем большая любовь.
Может быть, в дальних перелётах моё спасение, думал я, возбуждаясь всё больше и больше; может, таким образом я научусь обновляться.
Я самостоятельно разыскал в интернете контакты отеля, расположенного на острове Пасхи, дозвонился на другой конец глобуса и забронировал номер.
Мой деревянный английский никак не смутил собеседника на той стороне: собеседник владел языком международного общения немногим лучше меня; короче говоря, мы прекрасно поняли друг друга, я справился со всеми числительными и прилагательными. Для парня из деревни Узуново, выучившего язык Чосера и Шекспира в сорок лет, это было сильно. Преодоление языкового барьера – великое наслаждение.
Возбуждённый удачей, я даже отыскал в мировой сети веб-камеры, установленные на острове; то была странная и оригинальная забава, подаренная человечеству цифровыми технологиями: нажав кнопку, можно было увидеть, как будто собственными глазами, в режиме реального времени любой укромный уголок планеты, хочешь – мост Золотые Ворота, хочешь – набережную Санта-Лючия.
Но веб-камеры, обозревающие остров Пасхи, транслировали лишь непроглядную темень, рассеиваемую светом редких фонарей.
«Ага, – подумал я, – это же обратная сторона мира, у меня сейчас день, а там-то наоборот!»
Решил дождаться ночи и ещё раз глянуть, как выглядит легендарный остров при свете солнца; но потом закрутился с делами и забыл.
Дел было до хрена: я писал два сценария и примеривался к третьему, просиживал за экраном по десять часов в день, много читал и переживал, очевидно, удачные и счастливые времена.
Но неожиданная идея свалить, сбежать из этих времён, пусть и счастливых, ото всех хлопот так далеко, как только можно, уже захватила меня с головой и потрохами; я чувствовал азарт охотника.
Отдалиться на максимально возможное расстояние.
В самую что ни на есть жопу мира.
В такое место, откуда Москва будет казаться просто зыбким сном.
Глядя на себя и ситуацию со стороны, я понимал, что это так или иначе не настоящее, не до крови; не вопрос жизни и смерти, а всего только специфическая проблема из жизни интеллектуального работника, пролетария умственного труда, сравнительно благополучного, уважаемого в своём кругу. Но я придавал этой проблеме большое значение: голова у меня была одна, и она меня кормила, как ноги кормят футболиста, как ловкость кормит циркового жонглёра. Кроме собственно меня, моя голова кормила ещё четверых домочадцев. Голову я берёг и ухаживал за ней с тщанием.
Миллионы моих собратьев, двуногих прямоходящих, плюнули бы мне под ноги, узнав о моих проблемах, и ни единого из них я бы не упрекнул.
Ехать или не ехать на остров Пасхи – тоже мне дело. Так сказали бы миллионы менее успешных и менее удачливых.
Конечно, ехать.
И в начале марта я поехал.
В тот день Москву сотрясал ледяной ураган, с неба тяжко хлестало нечто среднее между дождём и мокрым снегом. Я был уверен, что рейс задержат, но ничего подобного: современную авиацию погода совершенно не смущала.
Туристический сезон ещё не стартовал, на рейсе Москва – Мадрид русских было едва четверть, основная масса выглядела как латинос, деловые люди, всякого рода бизнесмены или, может быть, юристы, а также их жёны и дети. Почему-то я насчитал неожиданно много семей – он, она и ребёнок, или мать с младенцем, оба жгуче-смуглые.
Почти все русские перед полётом основательно набухались, и по-человечески я их понял. Сам я уже пять или шесть лет не пил никакого алкоголя, сидел на зелёном чае и сигаретах. Мне нравилась трезвая жизнь, трезвое состояние рассудка – в этом было что-то серьёзное, сверхчеловеческое. В России с её культом водки, пьяного образа жизни общество с подозрением относится к трезвенникам, но мне было похер.
С большим удовольствием я отсидел первый перелёт – шесть часов из Москвы в Мадрид, затем пересел на рейс «Иберии» и рванул на второй этап – от Мадрида до Лимы, через Атлантику.
Когда ты долго летишь куда-то, через половину шара, пересаживаясь с рейса на рейс, в какой-то момент происходит полное выпадение из реальности. Ты перестаёшь понимать, день сейчас или ночь. Физическое тело человека улетело в запахе высококачественного керосина со скоростью в девятьсот километров в час, а прочие тела – тонкие, эфирные, ментальные – остались дома, позади: они не умеют так быстро перемещаться. Разъятый на несколько тел, человек временно перестаёт быть собой, и мир тоже перестаёт существовать для него; он пребывает в нигде, вне времени даже.
Перелетая через материки и океаны, вы не спрашиваете у соседа, который час. Нет ни дней, ни ночей, ни часов, ни минут – есть только преодолеваемое расстояние.
То, что хотел, я получил очень быстро, где-то в последней трети второго перелёта, когда за иллюминатором – а я сидел near window – появилась Южная Америка.
Я имел возможность обозреть её всю с высоты в десять тысяч метров, зелёную, громадную, опутанную серебряными петлями рек. Она выглядела мирно, жирно, под солнцем отливала бирюзой; она мне понравилась.
Ещё большую симпатию вызвали обитатели города Лимы, перуанцы, люди совершенно неизвестного мне племени, битком заполнившие рейс до острова Пасхи – между прочим, целый толстый «Боинг». Живущие вроде бы на обочине мира, скромно одетые, с коричневыми лицами, состоящими из острых углов, они держались с большим достоинством, и даже их маленькие дети, если они плакали, делали это как-то чрезвычайно культурно, без перебора.
Одеты все были не хуже москвичей.
Я ужасно полюбил перуанцев ещё до того, как самолёт оторвался от полосы.
Последний, третий перелёт занял пять часов – от западного побережья Южной Америки, через Тихий океан.
Четыре тысячи километров сплошной воды без единого клочка суши.
Здесь я уже сильно волновался. Неужели у меня получится?
Здесь был конец мира, дальше самолёты не летали.
Я добился своего, я забрался так далеко, как только мог.
Довольный собой, после двадцати двух часов полёта я сошёл с трапа поздним вечером десятого марта.
На острове Пасхи начиналась осень.
Было примерно плюс тридцать при абсолютной влажности.
Одноэтажный деревянный аэропорт в течение двух часов проглотил всех приехавших.
От жары я быстро вспотел, куртку и свитер снял.
Меня никто не встречал, да я и не заказывал встречу: судя по карте, от аэропорта до отеля можно было дойти пешком за четверть часа.
Перед полётом и во время его я, разумеется, изучил все карты, какие нашёл. Остров Пасхи представлял собой вершину древнего вулкана, поднявшегося над поверхностью в незапамятные времена и со временем обросшего какой-то землёй, принесённой ветром. Здесь был всего один населённый пункт – столица, административный центр, он же город и порт, с населением в пять тысяч человек, из которых большая часть – коренные жители, самостоятельный этнос, приблизительно принадлежащий к красной расе, к полинезийской группе народов, но, разумеется, совершенно отдельный от других, ибо до ближайших соседей – полинезийцев, микронезийцев, меланезийцев – было ещё пять тысяч миль пустой воды.
Приблизительно как от Москвы до Парижа.
Масштабы расстояний в этой части великого океана меня совершенно потрясали.
Здесь можно было бесследно утопить всю Евразию.
И одновременно на самом острове люди жались друг к другу.
Я закинул сумку за спину и зашагал в темноту; в руке сжимал распечатанные карты с указанием масштаба; я точно знал, где мне повернуть.
Было темно. Я оказался в одноэтажной, но весьма богатой деревне с белыми деревянными домиками под шиферными крышами, с мощёнными камнем дорогами, с тротуарами и канавами вдоль обочин.
Для уверенности я закурил.
После двадцати двух часов полёта покурить хорошо.
Свет в домах не горел. Был поздний вечер или ночь, а может, раннее утро; я, прилетевший с другой стороны мира, не понимал и не чувствовал местного времени и просто шагал в выбранном направлении. Берега и океана не видел – океан шевелился где-то в стороне; справа и слева тянулись одноэтажные домики. Какое-то время я шёл в темноту, непрерывно сверяясь с картой, подсвечивая её фонариком телефона, потом сзади хрюкнул сигнал, подвалило самое настоящее такси, и дядька лет шестидесяти, похожий на всех таксистов в мире, узнав адрес, в три минуты довёз меня до места, взял десять долларов и газанул, удовлетворённый.
Хозяина отеля звали Мэлвис, он имел рост под два метра и выглядел чрезвычайно доброжелательным дядькой, моим ровесником, с внешностью настоящего инопланетянина; всё время, пока мы разговаривали и пересчитывали деньги, я наблюдал за его мимикой и движениями ярких белков; в зависимости от угла взгляда и от освещения хозяин выглядел то негроидом, то полинезийцем, то испанцем; узкоплечий, лишённый мускулов, мягкотелый, он походил на большой кусок тёплого масла, его хотелось намазать на хлеб.
Первым делом хозяин Мэлвис объявил цену, оговоренную заранее, и, когда я кивнул, он спросил, намерен ли я заплатить ему традиционные чаевые в размере десяти процентов. Я кивнул повторно. «Тогда, – сказал хозяин, – заплати их сейчас».
Я вытащил бабло, заплатил и заселился.
Денег было не жалко. Я уже понимал, что попал в правильное место.
В отеле было четыре номера, разделённых фанерными перегородками, и терраса с плетёной мебелью и кафельным полом; и, разумеется, вай-фай – куда без него?
Перед тем как уснуть, написал жене, что добрался, что всё круто и что остров Пасхи невероятно красив.
На местном языке остров назывался Рапа-Нуи.
Так же именовал себя и здешний народ числом в пять тысяч мужчин и женщин.
Остров имел форму треугольника, от угла до угла – примерно двадцать пять километров. Единственная асфальтовая дорога опоясывала его.
С утра хозяин Мэлвис напоил меня хорошим кофе и поинтересовался, будет ли гость брать в аренду автомобиль, но я отказался; спросил, нет ли мопеда или скутера, – не было ни того, ни другого; сошлись на велосипеде.
Велосипед стоил пятьдесят долларов в день.
Велосипеды я не любил. В детстве год потратил на занятия шоссейными велогонками – это достаточно тяжёлый вид спорта; тяжелее, наверное, только лыжи. Но для изучения острова Пасхи велосипед подходил идеально. Я оседлал поскрипывающий, видавший виды снаряд и покатил.
За день – с утра и до заката – объехал весь остров, сделал несколько десятков фотографий, сильно обгорел на осеннем мартовском солнце.
Я получил что хотел: это был край земли. Последний полустанок. Дальше обрывались все дороги.
На острове были две маленьких бухты, где человек мог войти в воду, не рискуя тут же погибнуть. Вся прочая береговая линия представляла собой нагромождение вулканических глыб; волны, каждая размером с трёхэтажный дом, бешено и неостановимо расшибались о чёрную остроугольную твердь, готовые растерзать любого, кто вздумает шутить с океаном.
Я шутить не собирался. Я был преисполнен уважения к большой воде.
Я мысленно посылал океану сигналы: прими меня, я знаю, что ты громаден, а я ничтожен.
Мне было важно, чтоб он принял меня за своего.
Океан – благословенный Пацифик, величайший из водоёмов планеты, бесконечный, смертоносный – был повсюду, его поверхность сверкала то золотом, то медью.
Я, как всякий сухопутный человек, обожествлял океан; мне казалось, что как только я коснусь его текучего тела, он тут же сообщит мне некие важные истины, одарит какими-то уникальными энергиями.
Солнце жарило вовсю.
Пахло необычно, странно – сладким картофелем.
Когда я, умаявшись давить педали, слезал с велосипеда и отходил с дороги в сторону, закуривал и оглядывался, я ощущал под ногами пустоту, как будто ходил по натянутой поверхности циклопического барабана. Весь остров представлял собой вершину вулкана, залитую напластованиями лавы. Почву, сырую землю – всё нанесло ветрами, понемногу за тысячи лет. В одних местах плодородный слой составлял двадцать сантиметров, в других – больше метра. Под тонким слоем грунта ноги угадывали обман, пористое ничто.
Повсюду были рассыпаны куски вулканического стекла – обсидиана, чёрные, блестящие, с острыми – можно бриться – краями; я насобирал целую сумку.
Были времена, здесь росли дикие леса, но аборигены, однажды расплодившись, вырубили рощи под корень, и в своё время это стало причиной природной катастрофы. Нет леса – нет и почвы; однажды остров пережил эрозию; ветра, принёсшие на остров частицы земли, теперь так же унесли, сдули эту же самую землю; островитяне едва не погибли.
Но человек живуч. Слишком живуч, я бы сказал. Никакая земная тварь не умеет так драться за себя, как дерётся разумный человек.
Однажды, в XIX веке, на остров приплыли с континента колонизаторы, вооружённые огнестрельным оружием, – они забрали всё мужское население: официально – подрядили работать, а на деле – превратили в бесправных невольников.
Почти все уехавшие на континент островитяне скончались от болезней: у них не было иммунитета ни к холере, ни к оспе, ни к туберкулёзу.
Немногочисленные уцелевшие рапануйцы смогли вернуться домой, но теперь, в свою очередь, они привезли на себе болезнетворные бактерии, и радостно встретившие их родственники в последующие годы также массово вымерли от тех же самых инфекций.
В худшие времена народ рапа-нуи насчитывал едва несколько сотен человек.
Легендарные каменные истуканы именовались «моаи». Слово не склонялось, но я решил, что мне, рязанскому человеку, удобнее склонять: один моай, два моая, пять моаев. Учёные нашли и описали почти тысячу идолов разного размера и разной степени сохранности. Самых крупных было примерно полторы сотни, стояли они редко поодиночке, чаще шеренгами на особых капищах – выложенных камнями постаментах, называемых «аху». Я, рязанский человек, сразу же срифмовал это со словом «охуеть» – а как ещё? Наиболее внушительное капище состояло из пятнадцати идолов, каждый высотой в три человеческих роста, весом до двадцати тонн. На головах у некоторых покоились отдельные громадные глыбы в форме цилиндров. Они выглядели как нелепые шапки, но на самом деле изображали волосы. Это было объяснимо: все древние культы придают волосам мистическую нагрузку. Волосы символизируют жизнь, силу и здоровье; лишиться волос, обрить голову в большинстве мировых духовных систем значит перейти на тёмную сторону, вступить в контакт с богом смерти.
Истуканам было по триста лет, их изготовил сам народ рапа-нуи собственными руками.
Всю территорию острова делили меж собой несколько родов, каждый род имел свой участок земли и свой кусок береговой линии, и каждый род поставил на берегу своё капище.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































