Текст книги "Философия И. В. Киреевского. Антропологический аспект"
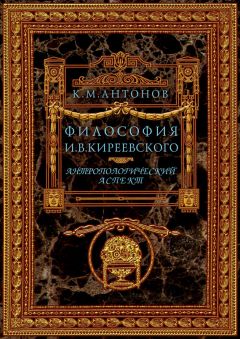
Автор книги: Константин Антонов
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
§ 4. И.В. Киреевский и полемика К.Д. Кавелина и Ю.Ф.Самарина. Славянофильство и западничество
Мы видели, что славянофильство и западничество возникли в конце 30-х – начале 40-х годов как различные философии русской истории. Эти расхождения, так же как и атмосфера полемики, спора по основным вопросам различных, конкурировавших между собой жизненных и творческих программ, создавали предпосылки для теоретического и организационного оформления этих позиций. Однако в течение долгого времени никакого размежевания не происходило, поскольку общие ценности свободы мысли и творчества, общее противостояние деструктивным тенденциям и силам были в это время особенно сильны. Эта ситуация сохранялась до момента смерти Пушкина. Ее значение хорошо передано Киреевским в «Обозрении современного состояния литературы», главной статье из серии 1845 г.: «…наша литература могла иметь полный смысл до конца жизни Пушкина, и не имеет теперь никакого определенного значения» [3, с. 202].
То есть смерть Пушкина, несмотря на всю ее общественную значимость[58]58
Об общественной значимости предсмертного поведения Пушкина, как защите чести и достоинства частного человека, литератора и гражданина писали Н.Я. Эйдельман и М.Ю. Лотман [211, с. 375; 120, с. 178–180].
[Закрыть], внесла в свободную русскую литературу момент дезориентации уже тем, что эта литература оказалась лишенной своего признанного лидера. Поле свободной мысли, созданное Пушкиным, лишилось своего центра, став, тем самым, открытым посторонним влияниям. Из этих слов явствует также и то, что сами славянофилы ясно ощущали свою преемственность по отношению к Пушкину и его литературной программе.
Именно около этого времени в русскую литературу вливается новая группа деятелей, новое поколение, к которому можно отнести членов кружков Н.В. Станкевича и А.И. Герцена. В своем духовном развитии они прошли мимо позднего Пушкина, который, по свидетельству Н.Я. Эйдельмана, так и не нашел с ними общего языка: они прочли, но «не захотели понять» [211, с. 346] его поздние стихи. К тому же, усвоив уроки декабристов и опубликованной части «Философических писем» Чаадаева, который (не без иронии) называл иногда Герцена и Грановского «своими учениками» [177, с. 300], они принесли с собой значительный заряд резко отрицательного отношения и к режиму, и к той культуре, которая сделала возможным его появление. Взаимодействие этого поколения с предыдущим, происходившее все в том же Елагинском салоне, и привело к теоретическому (вначале), а затем и к бытовому и организационному размежеванию славянофилов и западников.
Замечание В.А. Кошелева о том, что славянофильство возникло из полемики, вполне справедливо [105, с. 29]. Его первое свидетельство – статья Хомякова «О философическом письме» – возникает как ответ Чаадаеву в конце 1836 г. Однако убеждения Киреевского к тому времени еще не сложились. Повесть «Остров» (1838 г.) и «Записка о направлении и методах первоначального образования в России» (1839) дают нам возможность проследить этапы становления «православно-словенского направления». В том же году, пытаясь оказать воздействие на молодежь, Хомяков и Киреевский создают (опять-таки в рамках дискуссии) первые программные документы славянофильства: «О старом и новом» и «Ответ Хомякову». Славянофильство предстает здесь именно как философия истории и культуры, проникнутая религиозным началом, имеющая под собой солидный гносеологический фундамент и исходящая из вполне определенных и отрефлектированных онтологических и антропологических предпосылок. Усилия старшего поколения не пропадают даром – в орбиту славянофильства вовлекаются К.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин, Д.А. Валуев и др. Но одновременно возникает и оформляется как оппозиция молодежи западничество, приобретающее черты строгой теории и полную основательность несколько позже – в начале и середине 40-х годов[59]59
Пожалуй, можно согласиться с мнением А. Балицкого, который ограничивал время существования классического западничества 1842–1848 гг.: от полемики В.Г. Белинского с К.С. Аксаковым по поводу «Мертвых душ» до смерти Белинского и перехода Герцена на позиции «русского социализма» [33, с. 186–187].
[Закрыть].
Итак, можно сказать, что в основании славянофильства лежал опыт русской литературы и творческого усвоения философии Шеллинга (Киреевские) и Гегеля (К.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин), переосмысленный на основе опыта христианской духовной жизни в Православии. В основании западничества – опыт литературной и политической оппозиционности, осмысляемый в рамках более или менее радикально истолкованного гегельянства.
Как представителей честной интеллигенции их объединяла с представителями предыдущих поколений общая творческая позиция – стремление к суверенитету русской мысли и русской литературы, принцип самоценности художественного и интеллектуального творчества. Различие состояло в том, что славянофилы стремились религиозно обосновать эту позицию, а западники – создать социальные и политические условия для ее реализации в общественной практике. Отстаивая ее, они отделяли себя от групп «официальной народности», придерживавшихся в Петербурге (Ф.В. Булгарин) скорее «западнических», а в Москве (М.П. Погодин и С.П. Шевырев) скорее «славянофильских» ориентаций, и более или менее убежденно выполнявших правительственный идеологический заказ[60]60
Хотя невозможно, конечно, ставить знак равенства между «Москвитянином» и «Северной пчелой» именно по причине искренности первого. О сложностях, связанных с идентификацией подлинной позиции М.П. Погодина и С.П. Шевырева писал В.А. Кошелев в статье «Славянофильство и официальная народность» [167, с. 122–135].
[Закрыть].
Само это разделение способствовало внесению раскола в ряды интеллигенции. Так, провокацией была, например, печальная история с передачей Погодиным Киреевскому своего журнала «Москвитянин» – славянофилы на время оживили умиравший журнал, но зато дали повод Герцену и Белинскому для объединения их в одну позицию с прежней редакцией [104, с. 15–29]. Аналогичным образом К. Аксаков объединял порой «Отечественные Записки», где активно сотрудничал В.Г. Белинский, с «Северной пчелой» Булгарина [12, с. 116]. О полемической заостренности этих сближений говорит то, что даже Герцен (правда, уже в «Былом и думах») отмечал существенную разницу между Булгариным и Погодиным именно в отношении искренности их убеждений [51(5), 165].
Все это вело к расшатыванию первоначальной общности творческих и этических позиций, к обесценению объединяющего «благородства убеждений», взаимным упрекам и подозрениям, и, в конце концов, к разрыву личных отношений [104, с. 40–41]. Несмотря на это, попытки объединения на общей платформе личной и творческой честности не прекращались, особенно со стороны славянофилов. Однако то, что эти попытки не увенчались успехом, определялось не только внешними, но и внутренними причинами, выявившимся со временем существенным расхождением не только теоретических, но и жизненных позиций.
За различием философий истории стояли принципиальные и непримиримые расхождения в антропологии, различные, но равно глубоко пережитые понимания человека, его природы и задач. Мы увидим это на примере полемики К.Д. Кавелина и Ю.Ф. Самарина 1847 года. История ее вкратце такова: в конце 1846 г. «Современник» перешел в руки В.Г. Белинского, Н.А. Некрасова и А.В. Никитенко. В начале следующего 1847 г. в нем были опубликованы программные статьи: «Взгляд на юридический быт древней России» Кавелина, «О современном направлении русской литературы» Никитенко и «Взгляд на русскую литературу 1846 года» Белинского – содержавшие как основные положения философии истории и эстетики западников, так и полемические высказывания о славянофильстве. Тогда же Ю.Ф. Самарин «счел необходимым написать развернутый ответ на статью своего давнего знакомого, который выражал бы точку зрения славянофилов» [166, с. 569]. Этот ответ – статья «О мнениях “Современника”, исторических и литературных», был напечатан во второй книге «Москвитянина» за 1847 год. Самарину отвечали Белинский и Кавелин – их статьи под одинаковым названием «Ответ “Москвитянину”» вышли соответственно в 11 и 12 номерах «Современника» в том же году. Эта полемика рассматривалась в работах В.К. Кантора, Н.И. Цимбаева, Е.И. Анненковой, С.Н. Носова. Предпосылки для рассмотрения ее с антропологической точки зрения можно найти в посвященном Самарину разделе «Истории русской философии» Зеньковского. Значение этой полемики в истории русской мысли весьма велико. В статье Самарина впервые в более или менее систематическом виде излагались для широкой публики историко-философские и эстетические взгляды славянофилов, а так же подвергались критическому рассмотрению связанные с этими взглядами предрассудки. Полемика в целом выявила важность понятия «личность» и стимулировала его последующую разработку Киреевским, непосредственным продолжателем которого в этом отношении выступил впоследствии опять-таки Самарин [52, с. 119; 73(1.2), с. 30–31]. В то же время она стала важным этапом западнической разработки этого понятия – тем же К.Д. Кавелиным, П.Л. Лавровым, Н.К. Михайловским. Понятием «личность» в 40-е годы оперировали главным образом западники – Кавелин, Герцен, Белинский, в то время как славянофилы, наоборот, подвергали его критике. Что же стояло за этим понятием?
К.Д. Кавелин – убежденный, но умеренный западник. По современной терминологии он, конечно, не революционный демократ, но явный либерал. В 30-е – начале 40-х гг. он формировался под сильным влиянием славянофилов, точнее сказать, атмосферы елагинского салона [80, с. 598–599]. Вероятно, поэтому его мысль все время перекликается с мыслью Киреевского – и с «Девятнадцатым веком», и с «Ответом А.С. Хомякову». Его статья «Взгляд на юридический быт древней России» может считаться программным документом по философии истории западничества, документом, получившим одобрение всей редакции «Современника», в том числе и Белинского, который активно использовал идеи Кавелина в своих статьях. Характерно, что центральными понятиями этой философии истории были понятия чисто антропологические: «личность» и «человек». Именно они вызвали наиболее принципиальные возражения со стороны славянофилов.
Общую логику этой философии истории можно представить следующим образом: первоначальный патриархальный родовой строй (тезис – это, скорее, еще праистория) разлагается под воздействием войн и других неблагоприятных моментов, в результате чего ему на смену приходит новое начало истории (уже собственно истории) – личность (антитезис) [80, с. 16–22]. При этом ясно, что «мирные» славяне были по существу неисторическим народом, а история совершалась прежде всего германцами, обладавшими развитым «чувством личности» [80, с. 22]. При этом в определении основных начал европейской культуры Кавелин в общем (подобно Киреевскому в «Девятнадцатом веке») следует Гизо (христианство, античность, варварство), но распределяет их по-своему: первое место отводится именно германцам, а христианство и античность выполняют функцию «облагораживания» [80, с. 21][61]61
Ближе к Киреевскому оказывается в этом отношении Белинский [80, с. 546].
[Закрыть]. Исторические задачи обоих племен, по утверждению Кавелина, сугубо различны: задача германцев – «развить историческую личность в личность человеческую», т. е. заполнить личность как форму идеальным содержанием. Задача славян – «создать личность», правда, непонятно какую – историческую или человеческую? Тем не менее «и мы, и они должны были выйти и в самом деле вышли на одну дорогу» – превращения личности во всесторонне развитого человека и «глубокое внутреннее примирение» [80, с. 23] личностей между собой – таким образом достигается синтез, отнесенный однако, в будущее.
Помимо уже указанной схемы, черты сходства с ранними идеями Киреевского видятся здесь и в других моментах. Прежде всего, это касается истолкования различия русской и европейской истории как различия бессмыслицы и смысла. Как в «Девятнадцатом веке» и «Языкове» Киреевского, личностное бытие человека определяется у Кавелина наличием представляемой им мысли, идеи, «во имя» которой личность «отрицает» все связывающие ее узы – прежде всего родовые и семейные [80, с. 48]. В конечном счете, все эти идеи оказываются моментами становления мысли о бесконечном достоинстве человека. Таким образом, мы имеем здесь дело со своеобразным романтическим истолкованием Гегеля, близким Фейербаху и младогегельянцам. Понимание реформы Петра как перехода от исключительной национальности к общечеловеческой жизни – еще один момент пересечения с «Девятнадцатым веком» [80, с. 59–61; 3, с. 96–99].
Любопытны и пересечения мысли Кавелина с «Ответом Хомякову» – связь понятия личности с моментом отчуждения и идеей общественного договора. И у Киреевского, и у Кавелина личность или «лицо» возникает из противопоставленности человека остальному миру, предыдущей среде его обитания – родовому строю и устанавливает новый порядок общественных отношений, основанный на «общественном договоре» [80, с. 21–22, 66; 3, с. 149–150]. Только для Киреевского этот процесс равнозначен торжеству негативных тенденций европейской истории, отождествляемых им с «рационализмом», в то время как Кавелин, наоборот, отождествляет с этим процессом саму историю, понимаемую как прогрессивное движение от рода через личность к человеку. Соответственно, если Кавелин и в своем понимании истории и в своем понимании человека во многом следует Гегелю, то Киреевский, наоборот, занимает по отношению к последнему критическую позицию, хотя, как мы увидим в возражениях Самарина, в середине 40-х гг. славянофилы еще не проводят эту линию достаточно последовательно.
Близость первоначальных позиций славянофилов и западников в понимании основных антропологических и исторических категорий, вероятно, объясняет тот факт, что Киреевский в первых работах славянофильского периода избегает употребления слова «личность», из-за чего его воззрения в этот период приобретают оттенок традиционализма, о чем уже было сказано в предыдущем разделе. Именно столкновение Кавелина и Самарина, возможно, приведет его к осознанию необходимости разработки христианского учения о личности.
Противоречивость и нечеткость в трактовке понятия «личность» у Кавелина становятся центральными объектами славянофильской критики. Для нашей темы чрезвычайно важно, что все рассматриваемые в этой полемике чисто исторические вопросы и проблемы – крещение Руси, характер Ивана Грозного, преобразования Петра, междоусобия князей и др., – преломляясь через проблематику социальной и религиозной философии, в конечном итоге упираются в принципиальные расхождения в понимании человека, его сущности и предназначения, которые собираются вокруг понятий «личности» и «человека».
Но вернемся к К.Д. Кавелину. С одной стороны, он делает попытку дать философскую интерпретацию христианского понимания личности, причем, как мы только что указали, следует здесь не столько Гегелю, сколько Фейербаху и младогегельянцам: «Когда внутренний духовный мир получил такое господство над внешним материальным миром, тогда и человеческая личность должна была получить великое, святое значение, которого прежде не имела… Так возникла впервые в христианстве мысль о бесконечном достоинстве человека и человеческой личности» [80, с. 19, 20].
Понятие личности здесь однозначно увязывается с открытием внутреннего духовного мира человека и утверждением его абсолютной значимости.
Самарин указывает на недостаточность такого истолкования: «Ваше определение не только не исчерпывает сущности христианства, даже не исчерпывает его участия как исторического агента в прошедших судьбах человечества… это только отрицательная сторона христианства… Вы забыли положительную его сторону, забыли, что прежнее рабство оно заменяет не отвлеченною возможностью иного состояния, но действительными обязанностями, новым игом и благим бременем, которые налагаются на человека самым актом его освобождения» [166, с. 416–417].
Самарин пытается принять правила игры своих противников и интерпретировать христианство в историко-социальном плане. К сожалению, однако, оно и у него оказывается к этому плану сведенным, только результат Самарина противоположен кавелинскому:
«„Христианство внесло в историю идею о бесконечном, безусловном достоинстве человека“, – говорите вы, – человека, отрекающегося от своей личности, прибавляем мы, – и подчиняющего себя безусловно целому Это самоотречение каждого в пользу всех есть начало свободного, но вместе с тем безусловно обязательного союза людей между собою. Этот союз, эта община, освященная вечным присутствием Св. Духа, есть Церковь» [166, с. 417].
Нет сомнения, что гегельянство присутствует в мысли Самарина не в меньшей степени, чем у Кавелина, но по-другому: целое предстает здесь как то общее, тот синтез, в котором снимаются составляющие его частные моменты, т. е. отдельные личности, или как субстанция, в отождествлении себя с которой отдельные субъекты обретают самотождественность.
Нельзя сказать, что Самарин полностью редуцирует мистическое начало в христианстве. Именно наличие этого начала позволило Кавелину в «Ответе „Москвитянину“» охарактеризовать его взгляд на религию как «несовременный» [80, с. 80] и проигнорировать тем самым основную мысль его возражения. Однако у Самарина мистический элемент христианства присутствует только на уровне общинной, церковной жизни, в то время как личная мистика веры, богообщения и обожения у него отсутствует. Это вносит в мысль Самарина, как и в славянофильство вообще, известную сбивчивость. Из цитированного отрывка хорошо видно, что Самарин в богословском плане хорошо понимает сверхъестественный характер церковной жизни, однако попытка построения на этой основе не только философии истории, но и некой социологии общины ведет к тому, что в дальнейшем рассуждении этот момент сверхъестественности утрачивается, хотя сам автор его, по-видимому, все время подразумевает. Это и дает Кавелину возможность в «Ответе…» проигнорировать его и, не втягиваясь в богословскую дискуссию, обвинить Самарина в утопизме и «полном пренебрежении действительностью» [80, с. 73–75]. Та же нечеткость создает повод и для дальнейших недоразумений. С одной стороны, это обвинения в натурализме со стороны богословов (П.И. Линицкий, позже о. Г. Флоровский). Последний писал: «Общественность и церковность, – при всем сходстве, эти два порядка не соизмеримы между собой… В славянофильском мировоззрении эта несоизмеримость не была распознана и воспризнана вполне» [187, с. 250–251]. С другой стороны, злосчастная опечатка – «принижение» вместо «примирение» – не случайно была воспринята всеми оппонентами как действительное выражение позиции Самарина [166, с. 569, 575]; отсутствие у него христианского учения о генезисе личности создавало основу для такого восприятия.
Кавелин следует далее Гегелю, пытаясь описать переход этого начала личности из области религиозной в «мир гражданский» и связывая его с германским племенем, уже обладавшим «развитым чувством личности» [80, с. 21]. Однако, раскрывая генезис личности у германцев, Кавелин как бы забывает собственные слова о христианском начале личности и выводит ее из совершенно противоположных христианству вещей – войны, враждебности, т. е. противопоставленности, отчужденности человека от мира и социума. Такой генезис личности задает вполне определенный ее образ: личность у Кавелина – человек, обладающий определенной внутренней силой, пропорциональной его способности к рефлексии, благодаря которой он сознательно и творчески участвует в историческом процессе, как носитель некоторой идеи.
Тем самым понятие личности увязывается с тем или иным, но всегда наличным объемом власти. Эта логика проявлялась не столько в теории, сколько на практике, не столько в текстах, сколько в действиях западников – как либералов, так и революционеров. Отсюда их принципиальная оппозиционность и политизированность – несоответствие уровня сознания наличному объему власти переживалось как трагедия и порождало требование радикального общественного переустройства. Ярким примером этого может быть герценовское «Да будет проклято царствование Николая во веки веков, аминь!» [51(4), с. 150]. И в разговорах, и в дневниках, и в «Былом и думах» – Герцен тщательно выискивает политическую мотивацию в деятельности своих друзей-противников, что вызывает у последних лишь удивление и иронию: «Забавно то, что они предполагают в нас свои чувства» (А.С. Хомяков) [104, с. 43].
Напротив, именно эта мотивация поступков начисто отсутствовала у славянофилов, которые, даже превращаясь в «профессиональных» политиков (как, например, тот же Самарин), оставались литераторами и «общественниками», что также определялось их противопоставлением земли, т. е. общины, и государства. В этом отношении западники выступили как последователи декабристской и демократической платформы, а славянофилы – пушкинской, что заставляет согласиться с известными мыслями М.П. Погодина, выстраивавшего традицию русской литературы через «дружеские связи» старших славянофилов «с представителями старшего перед ними поколения, Пушкиным, Баратынским, Плетневым, равно как те примыкали к Жуковскому, кн. Вяземскому, Дашкову, Блудову, Гнедичу, Тургеневым и пр.» и далее через Карамзина, Дмитриева, Державина, Хераскова, Фон-Визина к Сумарокову и Ломоносову [22, с. 467–468][62]62
Ср. известные высказывания Ф.М. Достоевского (Пушкин – «начало и начальник славянофилов») и В.И. Ленина («декабристы разбудили Герцена»).
[Закрыть]
Отстаивая свободу художественного и интеллектуального творчества личности от посягательств «правительства», т. е. государства и церкви, западники (и это хорошо видно и у Кавелина, и у Белинского, и у Герцена, и у Бакунина) падают жертвой собственной чрезмерной политизированности: превозносимая ими «свободная личность» на деле оказывается в значительной мере иллюзией сознания, поскольку, не успев возникнуть, она уже вынуждена жертвовать своей свободой во имя «партийной дисциплины», «интересов народа» и т. п. Славянофильская критика создавала возможность для разоблачения этой иллюзии, получившей окончательное закрепление позже – в концепции «критически-мыслящей личности» П.Л. Лаврова, и воплотившейся на практике в деятельности революционных партий. Интересы литературы ставились здесь в более или менее прямую зависимость от интересов «тайного общества». Именно эта политизированность, в совокупности с провокационной деятельностью представителей «официальной народности», привела в конце концов к разрыву отношений между членами обоих кружков в середине 40-х годов.
Именно такое, не просто продуманное, но глубоко пережитое понимание личности кладется западниками в основание их философии истории и описания «юридического быта», т. е., по преимуществу, внешней области межчеловеческих отношений, построенных на договорной основе. Неудивительно, что христианство не играет в дальнейших построениях Кавелина никакой роли – ни в Европе, ни в России.
Именно в этом, в упущении «влияния христианства и Византии», которое «едва ли могло остаться без влияния на развитие личности и юридических отношений», упрекает его Самарин [166, с. 433]. Он понимает этот исторический недосмотр как следствие основной, по его мнению, теоретической предпосылки Кавелина: принятия за нечто само собой разумеющееся мысли о том, что «сознание приобретается отрицанием». Для Самарина это проявление зависимости Кавелина от немецкой мысли, точнее, все от того же Гегеля, попытка искусственно навязать русской истории европейские формы развития. Эта методологическая предпосылка жестко связана у Кавелина с другой, антропологической предпосылкой, которую разделяет Самарин, тезисом о тождестве личности и сознания. Взятые вместе они дают следующую картину: «примирение личностей есть последняя цель; путь к ней – вражда; личность непременно должна сознавать себя; сознание приобретается отрицанием, не логическим, разумеется, а полным практическим отречением от всех определяющих ее отношений» [166, с. 424].
Самарин, поставив под сомнение всеобщность германского пути становления личности «через отрицание», пытается различить «личность с характером исключительности, ставящей себя мерилом всего, из себя самой создающей свои определения (т. е. германскую романтическую личность. – К.А.), и личность как орган сознания» [166, с. 423].
По его мнению, ошибка Кавелина состоит именно в их неразрывности, из которой вытекает неразрывность германства и человечности: «…германцу оставалось вырабатывать себя в человека; русский должен был сперва сделать из себя германца, чтобы потом научиться от него быть человеком». Но в действительности «в национальный быт славян христианство внесло сознание и свободу» [166, се. 425, 443].
Но сам Самарин не сделал даже попытки обрисовать генезис христианской личности, просто постулировав ее «свободное и сознательное отречение от своего полновластия» [166, с. 443] в общине. Движущие силы, условия возможности этого акта он не рассматривал. Он возражал Кавелину и Белинскому, противопоставляя «личности», понятой как рефлексивность, «человека», как целостного субъекта, оставаясь в рамках природного бытия человека и не выходя на уровень «ипостаси», т. е. опять-таки игнорируя христианское понимание личности. Вместе с недостаточно разработанным различением народного и церковного общинного начала это сильно ослабило его позицию, создав предпосылки для ее истолкования именно в смысле «принижения».
Отсюда проистекают неточности в проведении обоими авторами столь существенных для них различений, как различения между понятиями «личность» и «человек» и «ассоциация» и «община». По Кавелину, личность должна просветить свое изолированное бытие идеальными началами и «стать человеком», что в свою очередь должно привести к общественному примирению. Эта задача равно стоит и перед германским, и перед славянским миром. Со своей стороны, Самарин критикует утопичность этого взгляда: личность, возникшая из вражды, никогда не станет человеком, она замкнется в своем самоутверждении. Ассоциация, т. е. союз подобных личностей, основанный на формальном договоре, никогда не станет общиной, т. е. союзом, основанным на примирении и самоотречении [166, с. 422–423]. Кавелин, в свою очередь, критикует утопичность самаринского подхода, указывая на отсутствие «абсолютной родовой нормы личности», которую она могла бы признать стоящей над собой [80, с. 73–74], не замечая, что это возражение бьет и по его собственной идее конечного примирения.
Р.И. Иванов-Разумник справедливо указывает, что разница между ними есть разница этического (славянофилы) и социологического (западники) подхода [76(3), с. 111–112]. Впрочем, мы имеем здесь дело скорее с различными аспектами единого идеала, по-разному обнаруживающими свою утопичность. Круг «консервативной утопии»: Самарин указывает на то, что идеал общины уже осуществлен в славянском быту; и круг «либеральной утопии»: примирение, по Кавелину, предстает конечной целью истории, – в сущности, как справедливо указал А. Балицкий, образуют один и тот же круг [33, с. 180–191]. Вырваться из него, оставаясь в рамках поисков посюстороннего социального идеала было (и остается) невозможно. Из этого круга был (и есть) только один радикальный выход – указание на внутренние, несоциальные источники и движущие силы становления личности и эсхатологизация социального идеала, т. е. радикальное перенесение его из естественной социальной области в область сверхъестественной благодатной церковной реальности, что и было в конечном итоге осуществлено Киреевским.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































