Текст книги "Философия И. В. Киреевского. Антропологический аспект"
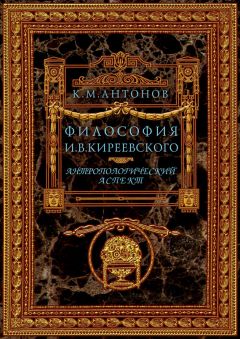
Автор книги: Константин Антонов
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
Ощущение Присутствия, индивидуальное чувство «тихого благоговения» противостоит здесь в качестве основы и сути религии «шумному» культу и «скучной» догматике. Психологистически истолкованная религиозность ставится здесь явно выше, чем вера, как онтологическое отношение к Богу. Романтики ценят в религии особые, ни к чему иному не сводимые, переживания, которые затем служат материалом для эстетических переживаний и рефлексий. Такое эстетическое отношение романтиков к религии вызвало в свое время бурный протест Кьеркегора.
В этом же принципиально отличаются от романтиков и славянофилы. Как мы увидим, они преодолевают романтизм именно в том, что их «религиозная философия сознательно создавалась как церковная философия, т. е. основанная на церковном мистическом опыте». Для них «характерна эволюция от романтического истолкования религии как жажды веры и чувства бесконечного к православно-мистическому онтологизму» [173, с. 125, 127]. Киреевский, с его постоянной обращенностью к духовному наследию Св. Отцов, – один из ярких представителей славянофильства в этом отношении.
В своем стремлении к целому гений, предельно отчужденный от буржуазного социума, обращается помимо Природы также и к народу, чья жизнь становится для него источником вдохновения и эстетического опыта. Именно романтики первыми (после Гердера) обратились к изучению народной культуры. Народ в своем быту, с одной стороны, органически укоренен в универсуме, а с другой – и именно благодаря этому, становится подлинным носителем и творцом настоящей культуры, ее фольклорной и героической традиции. Если современная культура, с ее культом рациональности, – интернациональна и безлична, то народные культуры – личностны и своеобразны. Каждая из них обладает своим «духом», имеющим в истории свои определенные задачи и опосредующим отношение гениальной личности, как своего выразителя, к универсуму.
Творящий культуру народ пребывает в общем потоке человеческой истории, его историческая задача – ступень для реализации задачи общечеловеческой. Это означает, что приобщение к народности было для романтиков не только эстетическим, но и историческим опытом. Оно стимулировало их обращение к иным эпохам и культурам, пробуждение у них исторического мышления. История, как и Природа, становилась союзницей романтиков в их борьбе. Их чувство исторического верно описано Жирмунским: «В том, что является для романтиков задачей личного пути, они чувствуют себя органически связанными с судьбами всего человечества, с развитием всего мироздания» [68, с.112].
Постижение отечественной и всемирной истории было понято как этапы личного самопознания, необходимые ступени становления самосознания человека. Однако историзм романтиков пронизан их же эстетизмом, связанным с принципом иронии. Находя органическое родство с любой культурой, с любым историческим явлением, стремясь к возможно более полному пониманию его, романтик со своей эгоцентрической «бесконечной точки зрения» усматривал затем его историческую ограниченность и относительность. Он принимал все противоположности, ничего не принимая всерьез, как свое собственное, как обязывающее [46, с. 120–121].
Эти взгляды, несмотря на все вариации, были общими для романтиков, Шеллинга и даже Гегеля. Мощное влияние они оказали также и на русских романтиков, стимулировав их интерес к проблемам философии истории и понятию «народности» как исторической, социальной и эстетической категории. С этой философией истории связана социальная философия романтиков, которую резюмирует тот же Жирмунский: «Эпоха Просвещения… имела дело с абстрактным человеком и с отвлеченным человечеством; романтизм, напротив, исходит из понимания индивидуальности, и тем самым он пробуждает все те сложные дремлющие связи, которые соединяют между собой в жизни такие индивидуальности… Романтики не в состоянии помыслить существования, оторванного от других… Совместная жизнь, как истинный элемент развития определяет, в общем, их культурный идеал. Такое стремление к органичности, такая первоначальная связь всего человеческого рода, всего мироздания… может быть обоснована только мистически» [68, с. 113].
Романтизм жил этой органической связью. Не имея возможности осуществить ее в полном объеме, он стремился культивировать ее в узком кругу общения, сочетая это с особого рода просветительством. Отвлеченности, рационализму и отчуждению, господствовавшим в буржуазном социуме, противопоставлялось особого рода интимное, «экзистенциальное» общение, «коммюнотарность», пользуясь термином Н.А. Бердяева, на уровне микросоциума; «единомыслие», понятое скорее как общий путь искания истины, чем как одинаковость мнений. Это хорошо видно из переписки романтиков: «Давайте, по крайней мере, соединимся в один мир, и вы увидите, что есть прекрасная музыка сфер, и что мы все будем счастливы» (Ф. Шлейермахер – Генриетте Херц и Фр. Шлегелю). «Судьба свела меня с человеком, из которого может выйти все. Он очень понравился мне, и я обратился к нему, ибо скоро он открыл мне святилище своей души. Я пребываю теперь в нем и изучаю его» (Фр. Шлегель – А.-В. Шлегелю о Новалисе) [133, с. 20; 207(2), с. 394][38]38
Кроме того, см.: [206(2), с. 406, 408].
[Закрыть].
Так возникают культы мистической любви и дружбы как путей обнаружения этой органичности: «вечное единство конечного с бесконечным видит любящий в любимом существе, как явное чудо» [68, с. 89].
Это ведет к образованию на уровне микросоциума замкнутых кружков – основной формы сообщества романтиков, переходящей иногда в «тайное общество», как правило революционное – как вырожденную форму такого сообщества.
Стремясь преодолеть свое отчуждение, кружок устремляется «в мир», начиная просветительскую деятельность, основной целью которой становится приобщение «масс», «публики», к мистическому опыту членов кружка (аналогично, но более радикально, действует и революционное общество, стремящееся приобщить к своему опыту всех и сразу) и установление верного соответствия между уровнем самосознания и масштабом деятельности и могущества членов социума. Романтики ведут борьбу за право мыслящей личности, гения, не только переосмыслять мир, но и переустраивать его. Мы уже видели и увидим еще, как эти свойства проявлялись в истории русской интеллигенции.
В этом принципиальное отличие романтического кружка от монастыря или общины верных, для которых этого исходного отчуждения не существует, которые не прерывают своей связи с телом естественного макросоциума, но представляют собой инстанцию, служащую проводником в мир реальности трансцендентного порядка (Церкви, Царства Божия), в том числе и через посредство просветительской (издательской и писательской) деятельности, если они (как Оптина Пустынь) занимаются таковой. Некую переходную форму от романтического кружка к своеобразному «монастырю в миру» представляло собой славянофильство [173, с. 130].
2. Основные антропологические понятия в патристике и романтизме
Обратимся теперь к рассмотрению основных антропологических понятий патристики и романтизма. Остановимся подробнее на значении таких понятий, как дух, душа, тело, ум, сердце.
Прежде всего, необходимо сказать, что в платоническом дуализме души – активной, самодвижущейся и «самодостаточной субстанции» и тела – ее инертной, движимой «темницы», Св. Отцы усматривали лишь психологическую, феноменальную, а не онтологическую истинность. Сами они предпочитали рассматривать человека как «психосоматическую целостность». Хотя центр тяжести этой целостности лежит в душе, тело также выступает как ее необходимая природная, хотя и подчиненная, составляющая. Авва Дорофей (популярный на Руси аскетический мыслитель, в издании творений которого Оптиной пустынью (1856 г.) Киреевский принимал непосредственное участие) сравнивает бытие души по исходе из тела с пребыванием в темной келье без еды, сна и общения, переворачивая таким образом известную платоническую максиму σωμα – σημα [65, с. 147].
Жизнь души выражается в теле. Тело удовлетворяет потребность человека воздействовать на окружающий мир, преобразовывать его, общаться с другими людьми. Тело соучаствует в Богообщении, молитве, таинствах, просвещается и освящается благодатью, соучаствует в воскресении из мертвых. Догматическая основа этого «дискурса тела» – учение о воплощении Бога и апофатическое богословие, устанавливающее трансцендентность Бога не только вещному, но и духовному миру, Его равную (ибо бесконечную) удаленность от всего тварного и одновременно Его всецелое пребывание во всем (в том числе и в телесной реальности).
Характерно, что основным объектом аскетического действия в христианстве оказывается не тело и не душа сама по себе, а именно их совокупность; и главная задача аскетики – установление должного отношения между душой и телом, а не освобождение от последнего.
В отличие от патристики, романтизм, сформировавшийся на основе запад но-христианских представлений о человеке, находился под сильным влиянием и платонического, и картезианского дуализма. Первый воспринимался романтиками и непосредственно (один из самых знаменитых переводов Платона принадлежит Шлейермахеру), и опосредованно через различные варианты западноевропейской мистики. Второй – через призму Спинозы, Лейбница, Канта и Фихте.
Понятие «душа» не имеет в романтизме одного устойчивого значения. Это и индивидуальное самосознание, и «бессмертная душа» в смысле Платона и западного христианства, и мировая душа, как низший этап становления интеллигенции, как вселенская чувственность – результат рецепции неоплатонизма. Так же как и в христианской аскетике, основным предметом воспитательной заботы в романтизме остается душа, но характер этого воспитания существенно меняется. Утрата реалистического представления о первородном грехе, шиллеровская идея «прекрасной души» и эгоцентричное противопоставление себя окружающему сообществу, нормы которого воспринимаются как путы, приводит к замене аскетического самоограничения и самоотречения стремлением к максимально свободному развитию всех тех потенций души, которые воспринимаются как творческие.
Основным средством воспитательного воздействия становится воздействие эстетическое, облагораживающее, возвышающее и, естественно, очищающее душу. При этом творческая личность, как правило добровольно, в порядке самовоспитания, накладывает на себя ряд ограничений, цель которых – победить «плоть мещанскую» (А.П. Чехов), грубое, бессознательное, животное, антиэстетическое начало в человеке, подняться до высших ступеней самосознания, освободить и наилучшим образом подготовить к деятельности творческое начало в себе. Эти ограничения, впрочем, сугубо индивидуальны и ситуативны: в зависимости от идеологии конкретного романтического сообщества, от той ступени самосознания, стоящим на которой осознает себя данный романтик, соотношение ограничиваемых и культивируемых черт может меняться вплоть до противоположного[39]39
С этим связан и феномен «чисто артистической морали», описанный Ж. Маритеном в «Ответственности художника»: эстетическая незаинтересованность и созерцательность ведут здесь к экспериментам, «ставящим цель с помощью чар поэзии сообщить невинность тем самым вещам, которые запрещаются Богом» [127, с. 191].
[Закрыть].
Тело – соотносительно душе, в «вечной гармонии универсума» они не есть «исконно и извечно различные» начала [207(1), с. 342]. Это – христианский мотив у романтиков. В самом устроении мужского и женского тела указан для людей путь истинной жизни, путь к реализации собственно человечности, независящей от разделения полов. Но у романтиков проявляется и «мрачная» сторона другого, платонического, отношения к телу. Оно, хотя и прекрасно, через причастность душе, но тем не менее бренно, и расставание с ним в какой-то момент может стать желанным для достижения полноты гармонии с универсумом. Ярким примером такого отношения к телу и смерти у романтиков может быть совместное самоубийство Клейста и его подруги Генриетты Фогель, совершенное отнюдь не от безысходности, но, напротив, в состоянии высокой гармонической радости, близком к мистическому экстазу [181, с. 392–408].
Исток этих весьма неоднозначных различий лежит не столько в теории, сколько в различии жизненных практик, образов жизни и связанных с ними антропологических позиций.
До сих пор мы рассуждали в рамках дихотомии «тело-душа», но многие Св. Отцы предпочитают трихотомию «дух – душа – тело», где «|/г>%г|, как субъект личной (точнее индивидуальной. – К.А.) жизни, имеет в 7iv£t>pa свой высший богоподобный принцип» [72, с. 377].
В рамках трихотомии душа как субъект и источник жизни занята преимущественно телом, его приспособлением к условиям окружающей среды, «удовлетворением потребностей» и пр. [72, с. 227]. В противоположность душе в этом смысле дух как начало разума, творчества и свободы занят более высокими видами человеческой деятельности, не связанной с телесными нуждами, или, говоря более ясным языком, устремлен горе. Он выступает и как принцип богоподобия человека и как орган богообщения, как проводник божественной энергии в человеческом существе. Согласно пред. Максиму Исповеднику (Киреевский опять-таки участвовал в работе над изданием его творений Оптиной Пустынью), в правильно устроенном (до грехопадения или после восстановления) человеке дух, питающийся от Духа (он же «ум», чья истинная пища – «духовное ведение»), питает душу и, через ее посредство, – тело, не нуждающееся в «чувственном питании», тело, которое становится тогда проводником в мир благодатных энергий обожения. В реальном же человеке, природа которого извращена грехопадением, подчинена чувственности и «плотским влечениям», эти три начала выступают как соперники, борющиеся за преобладание, их противоборство вносит в человека беспорядочность и порождает страсти [66, с. 76–77, 80–82, 137]. Соответственно, прилагательные «духовный», «душевный», «плотской» обозначают преобладание в человеке склонности к тому или иному началу, определенное качество жизни, определенную «интенциональность» его энергий.
Романтизм и здесь обнаруживает любопытные точки соприкосновения и расхождения с патристической мыслью. Мы говорили уже о его укорененности в философии Нового Времени. Соответственно, за точку отсчета принимается здесь cogito ergo sum. Душа и дух рассматриваются как этапы становления cogito, мыслящего субъекта, т. е. «Я» в собственном смысле слова. При этом эмпирическое «я» рассматривается лишь как один из необходимых этапов становления трансцендентального ego («интеллигенции», как говорит Шеллинг), которое, в свою очередь, есть лишь предпоследняя ступень к полному тождеству субъекта и объекта в Абсолютном. Именно в человеке – но не всяком, не всякий и призван это осуществлять (в отличии от патристики, где к обожению призван всякий), а достигшем определенного уровня сознательности – Абсолют (он же Универсум – т. е. мир, но рассматриваемый не как совокупность эмпирически данных объектов, а как органическое целое) достигает своего самосознания (важный пункт, объединяющий романтизм с идеализмом, включая и Гегеля). С точки зрения самого человека это выглядит как откровение, получаемое и достигаемое духовным человеком – гением, философом, мистиком – в акте интеллектуальной интуиции. Это и есть, по преимуществу, область духа. Она же, по существу, есть и область культуры, ибо культура, по мысли Фр. Шлегеля, есть необходимое условие возрастания человеческого сознания, и, вместе с тем, место, где творческая интуиция находит свое завершение в творчестве, место пребывания высших ценностей, делающих человека человеком: «Лишь благодаря культуре человек становится вполне и повсюду человечным и проникнутым человечеством»; она «Высшее благо и истинно полезное»; «Духовное лицо как таковое пребывает лишь в мире незримом… У него лишь одно желание на земле – формировать конечное для вечного, так что как бы не называлось его дело, он всегда пребудет художником» («Идеи») [207(1), с. 360, 359, 358], т. е. творцом культуры, хотя, конечно, само понятие «культура» здесь переосмыслено и возвышено.
Если в патристике дух по преимуществу молится, то в романтизме он по преимуществу переживает, совершенствуется и творит. Основная задача человека у отцов – очищение и построение «внутреннего человека» и достижение богоподобия и богопознания через личное богообщение (что ни в коей мере не подразумевает эгоизма, поскольку с необходимостью предполагает и восстановление истинных отношений с другими людьми). Задача романтического человека, по Шлегелю, хотя и формулируется в тех же терминах – «очищение» и «богоподобие» – но по существу имеет в виду совсем другое: «Всякий хороший человек все более и более становится богом». «Бог – это всецело изначальное и высшее, следовательно, это индивид в высшей потенции. Но разве природа и мир не являются индивидами?» («Фрагменты», «Идеи») [207(1), с. 305, 359].
Божественное мыслится здесь не исходя из реальности Его Откровения, а как человеческое и мировое, возведенное на высшую мыслимую ступень. Романтизм остается, таким образом, всецело в рамках логики развития, в рамках трансцендентализма.
«Человек – это творящий взгляд природы на себя самое» [207(1), с. 358], – пишет Фр. Шлегель, подводя итог нашим рассуждениям. Творчество гения он уподобляет производящей способности универсума. Гений творит себя, совершенствует свой дух, восходя по ступеням самопознания и самопосвящения, чтобы потом посредством способностей души и тела творить иное себе – культуру (религию, философию, поэзию и пр.). По сравнению с эпохой Просвещения, это, конечно, уход внутрь, по сравнению с Отцами – это все же забота о внешнем. Различие конечных целей человеческого существования определяет различное понимание основных антропологических категорий и их соотношения.
В писаниях Св. Отцов – аскетов и мистиков – дух отождествляется с терминами «ум» (νους) (платонизирующее направление, идущее от Оригена и Евагрия Понтийского) или «сердце» (кαрδία) (направление, восходящее к корпусу «Духовных бесед», приписываемых прей. Макарию Великому). По указанию Зарина, «νους и кαрδία употреблялись в качестве символов и понятий взаимозаменяемых» у свв. Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Нисского и того же Макария, вместе с «духом», для обозначения «высшей стороны природы человека», «владычественного» души [72, с. 379]. Зарин видит здесь стремление к согласованию библейских и философских воззрений. О. Иоанн Мейендорф, напротив, говорит не только о двух системах словоупотребления, но «о двух антропологиях, Платона и Библии, между которыми, чтобы заложить основы внутренне согласованной духовной жизни, необходимо было сделать выбор» [135, с. 192].
Обращение Киреевского можно рассматривать в этом смысле как выбор, который он совершил вслед за Св. Отцами, выбор библейского представления о человеке и его целостности, включающей в себя не только духовные и интеллектуальные, но и психофизические характеристики. Между преодолением романтизма в славянофильстве и преодолением оригенизма в патристике просматривается вполне отчетливая параллель – то же удержание идеалистической проблематики и терминологии при радикальном их переосмыслении.
Интересно, что уже после синтеза этих направлений в аскетике вновь возникает традиция различения «ума» и «сердца». Это видно уже у прей. Исаака Сирина (VII век), великого сирийского аскетического писателя, оказавшего (через перевод с греческого) большое влияние на русскую духовную культуру, хорошо известного Киреевскому (опять-таки участвовавшему в издании Оптиной пустынью его творений (1854 г.)), а также К.Н. Леонтьеву, Ф.М. Достоевскому и др. Творения прей. Исаака сыграли, вероятно, очень большую роль в обращении Киреевского, и уже в 1839 г. он упоминает о нем как о «глубокомысленнейшем из философских писаний» [3, с. 152].
Преп. Исаак различает «чистоту ума» и «чистоту сердца»: «Ибо ум есть одно из душевных чувств, а сердце обнимает в себе и держит в своей власти внутренние чувства. Оно есть корень, а если корень свят, то и ветви святы, т. е. если сердце доводится до чистоты, то ясно, что очищаются и все чувства». То есть, видимо, и ум. Но ум отличается самодеятельностью, активностью: «Если ум приложит старания к чтению Божественных Писаний или потрудится несколько в постах, бдениях, в безмолвиях, то забудет свой прежний образ мыслей и достигнет чистоты, как скоро удалится от скверного жития» [78, с. 24].
Таким образом, «чистота ума» есть прежде всего новый «образ мыслей», отличный от прежнего, «скверного». Здесь важно, что даже этот образ мысли не есть результат исключительно интеллектуальной работы, но так же и известного аскетического усилия, изменяющего сам образ жизни, «житие», человека. Здесь речь идет скорее об «убеждении» как «итоге всей жизни», которое Киреевский отличает от «мнения» как «вывода из логических соображений» [3, с. 281].
Итак, речь идет не только о «системе христианского миросозерцания», но о христианстве как образе жизни, в корне отличном от «скверного жития». Тем не менее ум сам по себе «не будет иметь постоянной чистоты, – продолжает преп. Исаак, – потому что, как скоро очищается, также скоро и оскверняется» [78, с. 24].
«Чистота сердца» не просто требует особого аскетического усилия. Она достигается лишь постепенно, в процессе духовной жизни, где человек не столько действует сам, сколько претерпевает: «Сердце же достигает чистоты многими скорбями, лишениями, удалением от общения со всем, что в мipe мiрского, и умерщвлением себя для всего этого» [78, с. 24].
Именно скорби и лишения очищают сердце при условии правильного к ним отношения, которое и есть дело человеческой активности, активности очищенного и пытающегося поддержать эту чистоту ума. По многим свидетельствам, очищение корня происходит незаметно для самого подвижника, на «дорефлективном уровне». Здесь происходит изменение не просто образа жизни, но ее качества, приобретающего новое, богочеловеческое измерение, которое и придает этой чистоте особую прочность: «Если же достигло оно (сердце. – К.А.) чистоты, то чистота его не осквернится чем-либо малым, не боится великих, явных браней, разумею брани страшные» [78, с. 24].
Весь этот отрывок явно подразумевает под собой известную евангельскую заповедь о чистых сердцем, которые зрят Бога. Тем не менее сердце зрит Бога умом: «Кто зрение ума своего сосредоточивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю Духа. Кто возгнушался всяким парением ума, тот зрит Владыку своего внутрь сердца своего» [78, с. 37].
«Внутрь» означает здесь не только духовное, но и эмпирическое пространство. Это видение Бога умом в сердце напоминает об известной практике «умного делания», «сведения ума в сердце», «упражнения во внутреннем внимании» (Киреевский), о котором говорят позднейшие аскетические писатели, в том числе современники Киреевского, святители Игнатий Брянчанинов (1807–1867) и Феофан Затворник (1815–1891). Можно предположить, что оформление, закрепление и распространение этой практики вызвало необходимость новых терминологических различений.
Остается выяснить, в каком отношении стоят эти понятия к ди– и трихотомическому делению. Поскольку Св. Отцы не стремились к единообразию своей терминологии, попытка конструирования общей схемы может быть здесь более продуктивна, чем попытка согласования отдельных цитат.
Св. Исаак, например, практически не употребляет существительное «дух» применительно к человеку, но зато четко различает ведение «плотское», «душевное» и «духовное», что позволяет говорить о том, что он придерживался, скорее, трихотомии, т. е. различал три уровня, точнее, может быть, три степени, качества, формы, человеческого существа и человеческой жизни. На каждом из этих уровней ум и сердце обнаруживают себя как соотносительные принципы. Сердце – как бытийная основа, – дорефлективная, бессознательная, пассивная, источник жизни, чувств и страстей. Ум – как ее сознательное, активное раскрытие, обладающее относительной свободой и способностью воздействия на основу. В сердце рождаются помыслы и живут страсти, но борется с ними, принимает или отвергает, сознает движения сердца – ум. Сердце может рассматриваться как центр телесной жизни, место и источник душевных и духовных чувств, переживаний и состояний, ум – как активная, сознательная сила, способность к самосознанию, рефлексии, самопознанию и познанию мира, дискурсивному – на уровне души, интуитивно-мистическому, соответствующему вере, как Богообщению, – на уровне духа.
Их взаимодействие и взаимоотношение на всех уровнях, связанные с общей устремленностью человеческого существа (в данном случае можно сказать – сердца), определяют «энергийный образ» человека. Отсюда и забота подвижников об их согласовании, «сведении ума в сердце» посредством внимания.
Романтизм, исходивший из духовного и художественного опыта его создателей, также, как и патристика, не был интеллектуалистическим философствованием. Напротив, он активно стремился включить в себя и осмыслить все иррациональное в человеке, прежде всего область чувства как основы эстетического опыта.
Большое внимание уделяется душевным (обыденным, жизненным) и духовным (мистическим, творческим) чувствам, переживаниям, ощущениям. И в тех и в других пытаются найти бесконечное в конечном. Именно к этой области сердца сводится религия – в новом, романтическом ее понимании, обоснованном Шлейермахером. Это религия бесконечного, как центр культуры, понятой как универсальная духовная деятельность [44, с.74–75].
В основе этой «религии сердца» лежит чувство – чувство зависимости от бесконечного универсума. «Религиозное чувство слагается для Шлейермахера из созерцания бесконечного и сопровождающего его эмоционального элемента» [68, с. 157]. Это созерцание есть переживание бесконечного, строго индивидуальное для каждого человека, точнее, опять-таки, для каждого религиозного гения. Отсюда – вывод об истинности всех религий и о возможности бесконечного числа их форм. Выше говорилось о том, что этот психологизм романтиков – частный случай западного психологизма вообще, сущностно отличается от онтологизма славянофилов и патристики. Здесь же можно увидеть и корень этого психологизма – понимание сердца как чувства, в отличие от патристики, где сердце понимается онтологически, как «место» чувств, к числу которых относится и ум. Отсюда и противопоставление ума и сердца в романтизме.
Область сердца непосредственно связана с творчеством как бессознательной продуктивной деятельностью субъективности.
Однако было бы неверно сводить романтическую концепцию творчества к бессознательному самовыражению индивида, особенно учитывая все, что говорилось выше о романтическом понимании культуры.
«Человек есть нечто большее, чем цвет земли, он разумен, а разум свободен, разум – не что иное как вечное самоопределение в бесконечном» (Фр. Шлегель). В творчестве человек совершает жертвоприношение, преодолевая свою конечность ради бесконечного. Это достигается в освобождающем акте самоограничения, ибо «пока художник вдохновенно что-то придумывает, он находится в несвободном состоянии» [207(1), с. 363, 282].
Это самоограничение достигается рефлективной, ограничивающей деятельностью разума. Укорененность романтизма в традиции трансцендентальной философии прослеживается здесь совершенно отчетливо. Наибольшей систематичности это учение достигает у Шеллинга в «Системе трансцендентального идеализма», откуда его позаимствовал Киреевский для своих первых статей. Однако со временем в словоупотреблении романтиков происходят значительные перемены. Если первоначально, в период расцвета йенского и гейдельбергского романтизма им свойственно совмещение, причем терминологически нечеткое, классической традиции различения νους и διανοια или intellectus и ratio, с кантианской Verstand (рассудок) и Vernunft (разум), то в последствии, по мере эволюции крупнейших мыслителей романтизма в сторону религиозного миросозерцания, в этом словоупотреблении происходят существенные перемены.
Так, например, Фр. Шлегель и Шеллинг в поздний период их философского творчества возвращаются к докантовскому употреблению слова Verstand как высшего духовного понимания, включающего интуицию, постижение целого[40]40
Аналогичную перемену мы видим у Шеллинга в «Системе мировых эпох» [202, с. 114].
[Закрыть]. При этом, хотя термины Verstand и Vernunft и сохраняют у Фр. Шлегеля некоторые черты соответствующих кантовских понятий (Vernunft как «рефлектирующая» и «умозаключающая» способность; Verstand как начало единства в познавательной деятельности мышления в противоположность многообразию чувственно-воспринимаемого мира), однако Verstand (вместе с волей) относится к духовным способностям, Vernunft (вместе с фантазией) к душевным. В целом отношение между ними приближается к отношению между νους и διανοια в греческой философии. Фр. Шлегель пишет: «Согласно более древнему словоупотреблению не разум, (Vernunft, ratio, διανοια) общий всем и повсюду один и тот же, но ум (Verstand, intellectus, νους) представляет собой то место в познавательной способности человека, где совершается высшее озарение» [207(2), с. 418–419].
В этом отношении Киреевский близок Шлегелю: он так же критикует «рациональное мышление» именно за то, что оно «отвлекается от всякой личной особенности», «доступно всем» [4, с. 282]. У русского мыслителя эта концепция восходит, с одной стороны, к позднему Шеллингу (проделавшему отчасти аналогичную шлегелевской, но философски более обоснованную, эволюцию от романтизма к вере), а с другой – к различению плотского, душевного и духовного ведения у пред. Исаака Сирина и других Св. Отцов.
Здесь уместно вкратце проследить историю отношения Киреевского к Шеллингу, который был для него, конечно, гораздо более актуальным мыслителем, чем Фр. Шлегель, хотя для демонстрации логики романтизма последний намного показательнее. Эта история подробно изложена Э. Мюллером в статье «И.В. Киреевский и немецкая философия». Мы воспользуемся его анализом.
«В „Девятнадцатом веке“… Киреевский подводит итоги мюнхенскому летнему семестру» Шеллинга, излагая резюме лекций, слышанных им в 1830 г. и разъяснений, полученных им от Шеллинга лично. Здесь он вполне отождествляет свою позицию с позицией мэтра.
«В 1845 г., в период редактирования „Москвитянина“, Киреевский, в статье „Речь Шеллинга“ дает компиляцию ряда печатных и рукописных текстов», касающихся философии мифологии и религии позднего Шеллинга, «поражающую своей предельной аутентичностью как в отношении стиля и понятийного аппарата, так и в отношении понимания и развития проблемы».
В дискуссии 40-х годов «он примыкает к „эмпирически“ ориентированной фракции антигегелевской партии (поздний Шеллинг, гербартианцы, Тренделенбург, Стеффене), энергично ведущей критическую разработку проблемы отношения между идеалистической философией и положительной религией. Но поскольку эта полемика нацелена не на разрыв, но на поиск изначально-разумного философского разрешения этой антиномии, Киреевский, ищущий такого разрешения, примыкает, в конечном итоге, к сторонникам идеалистической идеи, стремящимся к построению целостной спекулятивной системы» [142, с. 118–119, 125].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































