Текст книги "Философия И. В. Киреевского. Антропологический аспект"
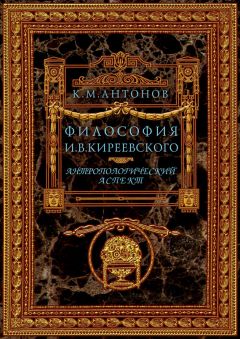
Автор книги: Константин Антонов
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
«Я бы думал тогда, что… эта сердечная музыка не мое расположение духа, а отголосок, сочувствие, физическое ощущение чужой мысли, но я этого не думаю, потому что не верю таким чудесам» [5, с. XXXV].
Это романтическое понимание веры само должно было исчезнуть, чтобы уступить место более трезвому и глубокому духовному опыту.
Здесь-то Киреевский и сталкивается с феноменом святости, носителями которого выступили духовные наставники его жены, старцы Филарет Новоспасский и Макарий Оптинский. Святость выступила здесь как самосвидетельство мира о реальности и ценности его собственного и Божественного бытия, к которым человек может быть приобщен не только умозрительно, но и всем своим существом.
Познавательное отношение к миру и Богу перестает осознаваться им как единственное и даже как главное.
Это был путь к освобождению, обретению под ногами новой почвы. Прежний идеал целостности вновь возник перед Киреевским, но уже совсем в ином виде. Его «практикой» становится духовная жизнь под руководством старца и углубленное освоение святоотеческих писаний (приобщение к Преданию) через участие в переводческой и издательской деятельности Оптиной пустыни. Его последующая философия вырастает как рефлексия постижения им различных моментов духовной жизни. Однако в общем строе его жизни и деятельности ей принадлежит теперь подчиненное место.
Результатом этого становится коренное изменение всего миросозерцания мыслителя и, в частности, его представления о человеке, места человека в системе его мысли. Значимость этой проблематики постепенно, но неуклонно растет. В «Отрывках» уже отчетливо видно, что именно антропология, точнее даже учение о личности, оказывается в центре его внимания.
§ 3. Между романтизмом и традиционализмом. И.В. Киреевский, П.Я. Чаадаев, кн. В.Ф. Одоевский
Однако это происходит далеко не сразу. Сам характер обращения Киреевского не способствовал пониманию нового опыта жизни в терминах личностного отношения. Уходя от скептицизма, он искал достоверности, прочности. Поэтому к его первоначальной трактовке применимо скорее понятие «Традиции» как определенной, в своих существенных чертах социокультурно передаваемой и наследуемой формы соотнесения человеком себя с «Высшими Принципами Бытия», выраженными в системе ценностных установок данной культурной общности[53]53
Более полное определение традиции см. в: Аверьянов В. Три аспекта традиции. М., 1988. О традиционализме см. так же выше – сноска 48, с. 109.
[Закрыть]. Это соотнесение позволяет человеку сориентировать себя в бытии, так сказать «правильно себя поставить». И наоборот, отказ от такого соотнесения приводит к дезориентации человека (и соотносительной ему культурной общности), когда изначально присущие ему особенности перестают уравновешиваться сознанием целого, получают чрезмерное преобладание и приводят сначала к деформации, а затем к саморазрушению данного человека или общности. В статьях второго периода (начиная с 1839 г.) Киреевский постоянно прослеживает эту логику, прежде всего на примере Западной Европы.
В 40-е годы термином «личность» активно и с успехом пользовались западники – Герцен, Белинский и др., что компрометировало его в глазах славянофилов. Чтобы взять его на вооружение, им потребовалось его радикально переосмыслить.
В своем традиционализме славянофилы, как указывал А. Балицкий, перекликаются с течением немецкой романтической социальной философии второй половины XIX века, связанным с именем Тенниса[54]54
Впрочем, необходимо отметить, что для славянофильства традиционализм может рассматриваться либо как один из этапов становления, либо как один из элементов более широкой доктрины.
[Закрыть]. В этом пункте довольно неожиданно обнаруживается общая основа идей славянофила Киреевского и западника Чаадаева.
Мы говорили, что мысль Чаадаева лежала в рамках шеллингианской философии истории. От нее во многом зависели построения Киреевского, Погодина, Полевого и др. По мысли о. В. Зеньковского, творчество Чаадаева стало важным побудительным мотивом возникновения и славянофильства, и западничества, как особых философий русской и мировой истории [73(1.1), с. 182–184, 186]. Конечно, его философия существовала в едином потоке русской исторической мысли начала и середины 30-х гг., где его взгляды занимали, правда, исключительное место по своей оригинальности, разработанности и уровню теоретичности.
Однако П.Н. Милюков, В.В. Зеньковский, Б.Н. Тарасов связывают Чаадаева, помимо Шеллинга, также с Ж. Де Местром и другими представителями французского традиционализма XIX века – ультрамонтанства [138, с. 137–138, 143–144; 177, с. 180; 73(1.1) с. 166], а М.О. Гершензон также с оккультной мистикой популярного немецкого писателя Юнга-Штиллинга [53, с. 33]. Однако понять внутреннюю логику его мысли, что необходимо для уяснения ее отношения с мыслью Киреевского, можно только из существа его собственных воззрений, проистекавших, прежде всего, из его личного духовного опыта. Б.Н. Тарасов подробно останавливается на личных и идейных отношениях Чаадаева и Киреевского в конце 20-х – начале 30-х гг., которые он мыслит как отношения старшего и младшего единомышленников, близкие к отношениям учителя и ученика [177, с. 262–267].
Уже Пушкин хорошо понимал, что философия истории Чаадаева не была чем-то самодостаточным, но обретала свой настоящий смысл только в общем контексте системы: «Мне кажется, что начало слишком связано с предшествовавшими беседами, с мыслями, ранее развитыми, очень ясными и несомненными для вас, но о которых читатель не осведомлен» [154(10), с. 838].
Ее действительным источником была, что характерно для русской мысли, рефлексия автора над своим личным духовным опытом. И что так же характерно для России, в этом личном и глубоко личностном опыте автор находил свое сознание укорененным в интерсубъективных структурах, а себя самого – неразрывно связанным с человечеством в целом. При этом (и здесь существенное отличие Чаадаева от позднего Шеллинга) человек у него не имеет непосредственного отношения к Абсолюту, который совершенно (и здесь отличие Чаадаева от романтиков) трансцендентен мировому и человеческому бытию. Только «мировое сознание, которое соответствует мировой материи», понимаемое «как совокупность всех идей, которые живут в памяти людей», имеет отношение к Богу. Традиция – форма существования этого сознания, транслирующая через века первоначальное откровение.
«Вот этот-то Божественный глагол к первому человеку, передаваемый от поколения к поколению… вводит человека в мир сознаний и превращает его в мыслящее существо». «Тем же действием, которое Бог совершал, чтобы извлечь человека из небытия, Он пользуется и сейчас для создания всякого нового мыслящего существа. Это именно Бог постоянно обращается к человеку через посредство других людей» [194(1), с. 382, 385].
Цель человека состоит, таким образом, в том, чтобы изменить свое сознание, в инициации приобщиться единому универсальному сознанию, воплощенному в Традиции, получить знание высших законов, управляющих духовным миром, подобно тому, как закон Всемирного Тяготения и Отталкивания управляет миром материальным [194(1), с. 371].
«Христианин… влечется к одной только небесной традиции; искажения, внесенные в нее людьми, для него дело второстепенное… сохранение этих основ, их передача из века в век, от поколения к поколению определяется особыми законами…» [194(1), с. 353–354].
Это знание хранится и передается в инициатической организации. То, что Чаадаев такой организацией считал Церковь, а инициацию отождествлял с таинствами, обрядами и вообще благочестием, не имеет для нас принципиального значения, поскольку нас интересуют основные структуры его сознания и мысли и их общая логика, а не ситуативное приложение.
Таким образом, центр тяжести воззрений Чаадаева лежит в его мистике и философии религии, а философия истории – наиболее яркая их часть – оказывается как бы выводом из более общих представлений. Она базируется на основном противопоставлении Традиции (духовной культуры – иудаизм, христианство, преимущественно в форме католичества) и антитрадиции (культуры чувственной – преимущественно античность, Индия, Китай). Собственно история состоит в воплощении в реальную жизнь человечества их идеальных структур – вплоть до окончательной реализации духовной культуры, понимаемой как установление Царства Божия на земле.
Именно в этом месте исторические воззрения Чаадаева обнаруживают точки пересечения и соприкосновения с мыслью Шеллинга и Киреевского. Это происходит благодаря отождествлению Традиции с разумом, свободой и порядком, а антитрадиции с чувственностью, необходимостью и хаосом. (Ближайшим аналогом может служить понимание иранства и кушитства в «Семирамиде» А.С. Хомякова).
Однако если для Чаадаева антикультурность России представляет собой угрозу историческому процессу (см. помимо «Философических писем» так же отрывок «L’ Univers»), то для Киреевского ее некультурность означала лишь то, что она становится той ареной, где этот процесс совершается. Это толкование отличается большей тонкостью и, вероятно, ближе к Шеллингу, но понимание Чаадаева обусловлено, как мы видели, не только Шеллингом, но имеет и другие, в том числе и нетеоретические, источники (впрочем, и у Чаадаева встречаются более тонкие и оптимистические толкования). Если Чаадаев воспринимал историю мистически, как место борьбы сверхчеловеческих сил, как проекцию метаисторического процесса, то Киреевский рассматривал эти силы как результирующие человеческой деятельности.
Это не означает, что в ранний период своей деятельности Киреевский был совершенно чужд мистицизма. Наоборот, можно только присоединиться к мнению П.Н. Сакулина, писавшего: «Мистицизм нужно считать одним из самых значительных течений умственной жизни этой эпохи… Чаадаев, Ив. Киреевский и Одоевский – именно они трое и могут считаться крупнейшими представителями русской мистики в 30-х годах, причем каждый из них имеет свои специфические особенности; Одоевский стоит ближе к Киреевскому, чем к Чаадаеву» [161, с. 607–608].
Личная дружба и идейная близость связывала Киреевского с Одоевским еще со времен кружка любомудров. Основные черты их мистицизма сформировались под влиянием русского масонства и немецкого романтизма. Но оккультные интересы Одоевского оставались, по-видимому, чуждыми для Киреевского, который предпочитал, вероятно, иные, чисто философские и этические, средства самосовершенствования. В целом, они стремились в большей мере к достижению личного самосовершенствования и соединения с универсумом, чем к обретению сверхчеловеческого гнозиса. Их мистицизм носит пантеистический характер, и именно эти черты отличали их от Чаадаева.
Уже говорилось, что в середине 30-х гг. Киреевский переживает тяжелый скептический период и затем обращение. После этого он расходится с Одоевским. Интерес последнего к «Добротолюбию», к проблематике личности и «верующего разума», – о чем пишет П.Н. Сакулин [161, с. 614–616], – хотя и возник, возможно, отчасти под влиянием Киреевского, но без религиозного обращения в собственном смысле, по сути, вне Церкви, оно имело совершенно другой смысл. Об этом хорошо сказал о. Г. Флоровский: «Интересно сопоставить пути И. Киреевского и В. Одоевского. В начальных предпосылках и этапах они совпадают… Но Одоевский так и не вышел никогда из замкнутого романтического круга. Его теософический и алхимический мистицизм не открывал ему подлинного и религиозного выхода. Одоевский не выходит за пределы мечтательной и ментальной спекуляции… Из этого тесного круга Киреевский вышел вперед только силою „религиозного отречения“, в опыте веры» [187, с. 256].
Поначалу, однако, Киреевский истолковывает «путь веры» так, что неожиданно сближается с Чаадаевым. Это сближение не в конкретных мнениях, а в самом понимании веры. Вера понимается Киреевским пока (в конце 30-х – начале 40-х гг.) не как личный опыт Богообщения, а как новый порядок жизни, организованный в соответствии с новыми убеждениями. Его главный опыт этого времени – даже не столько перемена убеждений, сколько мучительная борьба с самим собой за перемену образа жизни. В первом произведении нового периода, в «Ответе А.С. Хомякову» (1839), он писал: «…никто больше меня не ценит тех удобств жизни общественной и частной, которые произошли от того же самого рационализма. Да, если говорить откровенно, я и теперь еще люблю Запад, я связан с ним многими неразрывными сочувствиями. Я принадлежу ему моим воспитанием, моими привычками жизни, моими вкусами, моим спорным складом ума, даже сердечными моими привычками; но в сердце человека есть такие движения, есть такие требования в уме, такой смысл в жизни, которые сильнее всех привычек и вкусов, сильнее всех приятностей жизни, и выгод внешней разумности, без которых ни человек, ни народ не могут жить своею настоящею жизнию» [3, с. 145].
Именно переорганизацию распорядка жизни Чаадаев рекомендует адресату «Философических писем», Е.Д. Пановой, причем о личном богообщении речь там также не идет: «Ничто так не укрепляет разум в его верованиях, как строгое выполнение всех относящихся к ним обязанностей. Впрочем, большинство обрядов христианской религии, проистекающее из высшего разума, является действенной силой для каждого, способного проникнуться выраженными в них истинами» [197, с. 322].
Православие у Киреевского и «христианство» у Чаадаева предстают прежде всего как Традиция, организующая жизнь отдельных людей и народов и просвещающая их через это своими «высшими началами», «источником, из коего проистекают все убеждения»[55]55
О том, что славянофильство Киреевского было связано с «проблемой национально-религиозной традиции», см. также в статье С.И. Бажова [20, с. 13].
[Закрыть]. В той же статье Киреевский пишет: «Бесчисленное множество этих маленьких миров, составлявших Россию, было все покрыто сетью церквей, монастырей, жилищ уединенных отшельников, откуда постоянно распространялись повсюду одинакие понятия об отношениях общественных и частных. Понятия эти мало-помалу должны были переходить в общее убеждение, убеждение – в обычай, который заменял закон, устроивая по всему пространству земель, подвластных нашей Церкви, одну мысль, один взгляд, одно стремление, один порядок жизни» [3, с. 148–149].
Мы видим здесь две цепочки: Церковь – народ – Россия (народ обустраивает Русскую Землю под руководством Церкви) и понятия – убеждения – обычай (выработанные в Церкви понятия переходят в «общее убеждение» народа, а те выражаются в единообразном обычае, обусловливающем единство Земли, которая мыслится здесь как «подвластная» Церкви).
Аналогичная схема, только отнесенная к Европе и католичеству, присутствует и у Чаадаева, при сохранении того же отношения подвластности. Весьма возможно, что Киреевский (вероятно, бессознательно) использовал в своих первых славянофильских опытах чаадаевскую схему, применяя ее к России с необходимыми поправками и уточнениями. Однако в том же «Ответе Хомякову» Киреевский усматривает главную болезнь Запада в связи рационализма с «самовластностью отдельного лица» и конкуренции отдельных воль и властей. В 1842 г. в полемической переписке с последователем Чаадаева, перешедшим в католичество кн. Ив. Гагариным, главной претензией Киреевского к католической церкви будет именно ее включение в эту конкуренцию[56]56
Их переписка была опубликована в журнале «Символ» (№ 3, 1980, с. 157–174, № 4, 1980, с. 171–187, № 5, 1981, с. 152–158).
[Закрыть].
Характерные черты традиционалистской антропологии сохраняются и в цикле работ 1845 г., связанном с редакторством Киреевского в «Москвитянине». Здесь прежде всего привлекает внимание образ монаха из рецензии «„Лука да Марья“, сочинение Ф. Глинки». Как новая попытка создать образ целостного человека в его существенных чертах, он непосредственно соотносится с образом Веневитинова из «Обозрения… 1829 г.», о котором уже говорилось.
Эти два образа бытия совершенно различны по своим основным характеристикам. Ранняя антропология Киреевского антропо– и эгоцентрична. Поставив себя самого в центр мироздания, человек (гений) делает самого себя его мерой и точкой отсчета. Он стремится изменить свое сознание, выявить в нем структуры, изоморфные миру, познать его в себе и стать его самосознанием, но в конечном счете не в силах преодолеть разрыв, присущий субъект-объектному отношению.
Образ инока принципиально отличен от образа поэта. Здесь человек постоянно стоит, точнее вновь и вновь ставит себя перед «высшей премудростью». Он познает себя и мир в соотнесенности с Абсолютным Бытием, присутствующим в мире через Священное Писание и Предание – объективацию духовного опыта и знания Церкви. На их суд он отдает свои собственные опыт и знание: «В тишине уединенной кельи смиренный инок, отрекшийся от всех посторонних целей, не развлекаясь волнением надежд и страхов, радостями и страданиями жизни, предавался вполне изучению высших духовных истин, соединяя умозрение с молитвой, мысль с верою, дело самоусовершенствования с делом самопознания и стараясь таким образом не одним отвлеченным понятием, но всею полнотою своего бытия утонуть в постижении высшей премудрости, открывающейся ему в Божественном Писании и в богомудром помышлении святых отцов» [3, с. 227].
Здесь, конечно, уже налицо учение о становящейся цельности духа. Человек участвует в Традиции всем своим существом, «всею полнотою своего бытия». Это подчеркивается парами умозрение – молитва, мысль – вера, самопознание – самоусовершенствование. Если первый их член относится к созерцанию, к уровню сознания, то второй – к деятельности, к «экзистенциальной практике».
Здесь легко просматривается то, что Р. Тенон называл «инициатическим моментом»: гнозис, «изучение высших духовных истин» приводит к решительным переменам в человеке, возвышает его над обычным человеческим уровнем, ведет его к сверхчеловеческому образу бытия. Причем в отличие от самопосвящения романтиков это изменение может происходить только в рамках определенной структуры. Духовные истины мыслятся здесь как бы существующими самостоятельно, как предельная онтологическая реальность, к которой может прикоснуться человек, стремящийся отождествить себя с Традицией.
Таким образом, если для романтизма человек по-преимуществу это гений, то для традиционализма – это гностик. В этом случае система «духовных истин» функционирует как некоторый миф, придающий реальности ее последний смысл и упорядочивающий хаос бытия и вне человека и внутри его.
Как видно из приведенного отрывка, главным делом для Киреевского остается трансформация сознания, понятая здесь как «умозрение»; «молитва» же и «вера» берутся не в своем действительном смысле (как предстояние и обращенность), но как обозначение деятельностной составляющей участия в Традиции – необходимой, но второстепенной, служебной (то же и у Чаадаева).
Механизм действия Традиции предстает здесь, по сравнению с «Ответом А.С. Хомякову», несколько усложненным: «Вокруг смиренного инока собирались мало-помалу слушатели-ученики, вокруг них – народ из всех классов общества. Умозрение, которому предавались отшельники из мира, было вместе и основанием, и венцом всего мышления в мире. Высшие сословия, находясь в живом и близком соприкосновении с монастырями и основывая убеждения свои на тех же началах, развивали в деле жизненных отношений те же понятия, которые в деле чистого умозрения развивались в уединенной келье. Простой народ, не имея ни довольно времени, ни довольно средств, чтобы самому образовывать свои понятия, принимал их по частям, отрывками, но всегда проникнутыми одинаким смыслом, из монастырей и из высшего класса. Таким образом, понятия одного сословия были дополнением другого, и общая мысль держалась крепко и цело в общей жизни народа, истекая постоянно из одного источника – Церкви» [3, 227].
Мы имеем здесь дело с несколько более сложной схемой, чем предыдущая: личность – община (монастырь) – Церковь – народ – Земля. Причем Церковь выступает как благодатная, духовная жизнь Земли, а народ с его сословиями – как ее общественная жизнь. Таким образом, Церковь и народ предстают как два измерения (впрочем, вопреки о. Г. Флоровскому, отнюдь не смешивавшихся в сознании славянофилов) одного и того же субстрата – «Земли», пользуясь терминологией К. Аксакова. Этот путь распространения «общей мысли» в «общей жизни» есть для Киреевского также путь осуществления в мире сверхчеловеческой реальности Царства Божия. Земля, в которую упирается этот путь, предстает как конкретизация мира, где народ осуществляет свою миссию. Сам же путь – оправдание всечеловеческой значимости этой миссии. Его раскрытие и описание – оправдание личного творчества писателя, философа или проповедника[57]57
См. рецензию Киреевского на «Молитву Св. Ефрема Сирина» и «О грехе и его последствиях» преосвященного Иннокентия (1845 г.) [2(2), с. 123–127].
[Закрыть] «как живого выражения народности».
Мы не будем прослеживать ход распадения этого традиционного устройства, как его описывает Киреевский. Скажем только, что, проследив его на уровне конкуренции «новой» и «старой» «образованности», он затем прослеживает его вновь на индивидуальном уровне, уровне семьи и «лица» [3, с. 228–229].
Итак, целостности внутренней жизни человека традиции соответствует целостность общественного устройства. Основой этой целостности служит здесь уже не власть Церкви (как в «Ответе Хомякову»), а живущая в Ней личная святость, «просвещенность» «смиренного инока». Сложный механизм распространения «общей мысли» в «общей жизни» венчается одной личностью (хотя Киреевский еще не употребляет этого слова). Эти две особенности отвечают и направлению мысли самого Киреевского (ее субъектности), и самой сущности христианства, для которого такой односторонний традиционализм, неизбежно, на наш взгляд, приходящий к гностицизму и мифологизации Благой Вести, неприемлем. Он с необходимостью должен дополняться таинством личного Богообщения, изменяющим не только сознание человека, но и сам образ его бытия.
Сами эти особенности уже говорят о том, что, несмотря на сходство с Чаадаевым, и ряд сближений с традиционализмом вообще, Киреевский никогда не был традиционалистом в полном смысле слова. Традиционализм выступил у него как временная форма, неадекватная его основной внутренней интуиции. В то же время, она, вероятно, соответствовала определенному этапу его собственной духовной жизни и понимания им существа духовной жизни вообще, поскольку, как мы уже говорили, его философия вырастала из рефлексии этой духовной жизни.
На этом этапе его мысль еще не достигла точности, еще не нащупала слова, через которое она могла бы выразиться соответственно самой себе.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































