Текст книги "Философия И. В. Киреевского. Антропологический аспект"
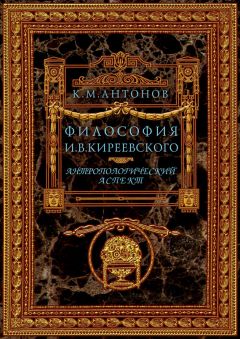
Автор книги: Константин Антонов
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
Бытию индивидуумов, наоборот, соответствует разобщение, дурная множественность «периферии» круга, где благое «различие» переходит в дурное «разделение», где господствует война всех против всех, как проявление неограниченной воли к господству, принудительно вводимой в рамки закона путем «общественного договора»[48]48
См. об этом у Киреевского в «Ответе Хомякову» [3, с. 149–150].
[Закрыть].
В своих статьях, особенно в статье «О характере просвещения…», Киреевский пытается дать культурологическое прочтение этой дилеммы: если европейское просвещение строится на принципе индивидуализма, разделения, «раздвоения», «рассудочности», то древнерусскому, точнее православному просвещению соответствует принцип личного бытия, «цельности» и «разумности» [3, с. 290].
В «Отрывках», если воспринимать их как нечто целостное, он переходит к непосредственному изложению антропологических оснований этого учения о различии типов просвещения, но останавливается преимущественно на аспекте личностного бытия и его становления, особенно на моменте интеграции, собирания личности путем веры и ее распада, в случае отсутствия таковой.
Учение позднего Киреевского (и славянофилов вообще) при попытке описать его в виде краткой формулы, обнаруживает поразительное сходство с учениями Св. Отцов. Мы имеем по сути одну и ту же структуру: личность – Церковь – народ, понимаемую как путь реализации Царства Божия в мире, т. е. в культуре (древнерусское просвещение, христианский эллинизм) и в Космосе (Русская Земля). Эта реализация нисколько не понимается как хилиазм, но как временное обновление начал человеческого бытия в мире, ничего не говорящее о его конечной судьбе. Этот путь есть необходимое и достаточное условие мессианского служения народа (русских, ромеев) и созданного им государства – Империи (хотя Киреевский был, может быть, самым большим государственником среди славянофилов[49]49
Об этом ярко свидетельствуют опубликованные недавно документы: «Каких перемен желал бы я в теперешнее время в России?» и «Записка об отношении русского народа к царской власти» [5, с. 27–31, 49–82].
[Закрыть], другим же, особенно К. Аксакову, был свойственен некоторый анархизм). Раскрытие же различных сторон этого пути – условие оправданности личного творчества, как «живого выражения народности», проникнутой церковностью. Во всем этом вера как основа духовного опыта личности именно в силу своей истинности и изначальное – ти есть условие жизненности народа.
В обоих случаях личность и ее вера, изначальный духовный опыт, основа Богообщения, служат фундаментом всей структуры.
Таким образом, мы видим, что славянофильство сближается с романтизмом там, где они движутся в одном направлении – от «современности» к общим христианским истокам европейской культуры. И наоборот, оно преодолевает романтизм там, где последнему не удается выполнить это движение до конца.
Все предыдущее творчество Киреевского неуклонно шло к выявлению этих основ. К изучению сделанных им попыток осмысления этих областей на фоне современной ему русской мысли мы и переходим.
§ 2. Ранняя антропологическая позиция И.В. Киреевского
Только что сказанное относится к позднему периоду творчества Киреевского. Но чтобы наше исследование было полным, необходимо показать, из чего вырастает эта антропология, выявить точку отсчета, которую ему впоследствии придется покинуть, – тот идеальный образ человека, который вдохновлял автора в ранний период и указать пути радикального изменения этого образа в связи с общей духовной эволюцией мыслителя.
Представляется, что определяющее влияние на формирование позиции Киреевского оказали сформировавшиеся в сознании мыслителя образы четырех выдающихся его современников – Пушкина, Веневитинова, Жуковского и Баратынского. С одной стороны, его самовоспитание в этот ранний период творческой жизни строилось на подражании им как образцам[50]50
В этом отношении особенно важным представляется отношение Киреевского к В.А. Жуковскому, который не только был личным другом и «ангелом-хранителем» семьи Елагиных-Киреевских, но и сыграл огромную роль в воспитании ее младшего поколения. Для Киреевского его жизненная практика не только в детстве и юности, но и позже оставалась как бы реальным воплощением того шиллерианского представления об идеальном человеке, установившем «внутреннее согласие» чувственной и духовной природы, гармонически соединявшем «прекрасную душу» и «возвышенный образ мысли», которое сформулировал Ф. Шиллер в «Письмах об эстетическом воспитании» и в статье «О грации и достоинстве».
[Закрыть]. С другой – рефлексия над их обликом, над их (как, впрочем, и над своим) внутренним миром, творчеством и «местом в жизни», осмысление самого факта появления таких людей (поэтов-мыслителей) в такое время (первая треть XIX века) в таком месте (Россия) было главной темой размышлений начинающего философа и литературного критика.
В основе этих размышлений лежал воспринятый Киреевским в кружке Веневитинова трансцендентальный идеализм Шеллинга и постепенно изживаемый им общелитературный романтизм с присущей последнему не только литературой, но и жизненной программой. Именно эта программа, речь о которой шла в предыдущем разделе, задавала весьма нетривиальное отождествление мышления и бытия. С одной стороны, конкретные лица безжалостно (хотя иногда неявно) подгоняются под некоторый набор основных категорий. С другой – сами конкретные лица в ходе своего жизнестроительства стремились соответствовать некоторым заранее заданным или избранным образцам, которые, в свою очередь, возникали на основе тех категорий, в которых проводился анализ.
Таким образом, как уже говорилось, в противоположность экзистенциализму своего современника Кьеркегора, романтики «жили в тех категориях, в которых мыслили». И поскольку эти категории обеспечивали их отделенность, возвышали их некоторым образом над публикой – им придавался особый статус эзотеричности и таинственности, который распространялся и на все философское знание как таковое. Да и сама публика не была готова воспринять высокую философскую речь – в силу этого для нее предназначался такой жанр, как литературная критика.
Единственной фигурой, не укладывающейся в эту схему, был Пушкин, всегда старательно отделявший создаваемый им для публики и литературной критики образ от самого себя, сознательно создававший себе особую литературную биографию, существенно отличающуюся от реальной [120, с. 71]. Киреевский был знаком с Пушкиным не только формально, как критик с поэтом, но и лично, как последователь и друг. Известные права на подобную близость он имел благодаря большому количеству общих друзей и знакомых, среди которых на первое место следует поставить, конечно, Жуковского, а затем Баратынского, Чаадаева, Соболевского и др. Он мог, таким образом, отчасти видеть, отчасти угадывать не только внешнюю, литературную эволюцию поэта, но и внутреннюю, духовную.
Образ поэта, существовавший в сознании мыслителя, принципиально не укладывался в рамки тех средств, которыми располагал последний для того, чтобы его реконструировать. Пушкин не укладывался ни в романтическую систему образов, ни в трансцендентально-идеалистическую систему категорий. Его образ не находил здесь своего адекватного отражения, так как на вершинах своего творчества (литературного, языкового, жизненного) поэт достигал совершенно иных измерений человеческого существования и, воплощая их, тем самым приоткрывал их отчасти для своих современников, которые (и в том числе Киреевский) не находили им, однако, места в своем языковом пространстве.
Условием возможности этого прорыва стали, по словам Ю.М. Лотмана, «отказ от романтического эгоцентризма и психологическая возможность учета чужой точки зрения» [120, с. 99]. В разборе «Бориса Годунова» Киреевский отмечает неспособность как романтической, так и философской эстетики понять смысл пушкинской трагедии по причине их «предубежденности системою» [3, с. 106]. Не подлежит сомнению, что это стремление понять Пушкина, помимо других, чисто внутренних – собственно философских и духовных причин, – повлияло на тот крутой поворот, который совершил Киреевский во второй половине 30-х годов.
Веневитинов, напротив, подходит к схеме почти идеально. Неудивительно поэтому, что текст, наиболее характерный для антропологии Киреевского того периода, связан именно с ним. Этот отрывок из статьи «Обозрение русской литературы 1829 г.», посвященный посмертному выходу сборника стихотворений поэта, может быть обозначен условно как «Слово о Веневитинове»: «Веневитинов был создан действовать сильно на просвещение своего отечества, быть украшением его поэзии и, может быть, создателем его философии. Кто вдумается с любовью в сочинения Веневитинова (ибо одна любовь дает нам полное разумение); кто в этих разорванных отрывках найдет следы общего им происхождения, единство одушевлявшего их существа; кто постигнет глубину его мыслей, связанных стройной жизнию души поэтической, тот узнает философа, проникнутого откровением своего века; тот узнает поэта глубокого, самобытного, которого каждая мысль согрета сердцем, которого мечта не украшается искусством, но само собою родится прекрасное, которого лучшая песнь есть собственное бытие, свободное развитие его полной, гармонической души. Ибо щедро природа наделила его своими дарами и их разнообразие согласила равновесием. Оттого все прекрасное было ему родное; оттого в познании самого себя находил он разрешение всех тайн искусства и в собственной душе прочел начертание высших законов и созерцал красоту создания. Оттого природа была ему доступною для ума и сердца: он мог
В ее таинственную грудь
Как в руку друга заглянуть.
Созвучие ума и сердца было отличительным характером его духа, и самая фантазия его была более музыкою мыслей и чувств, нежели игрою воображения. Это показывает, что он был рожден еще более для философии, нежели для поэзии…» [3, с. 66–67].
Здесь мы, несомненно, имеем дело с антропологией, т. е. с учением о человеке, некоторым представлением о том, каким должен быть человек, что он есть по существу и каким он является. Данная антропология антропоцентрична, кроме того, она эгоцентрична. В ее основе лежит идея самосовершенствования, самообновления, самостроительства человека, постепенно переходящего в богостроительство. Она подчинена логике развития человеком самого себя «снизу», логике «свободного развития его полной гармонической души». Для нас, изучающих творчество Киреевского и сравнивающих ранний и поздний этапы этого творчества, важно сейчас, что она полностью противоречит логике божественных блаженств: блаженны кроткие, нищие, плачущие, преследуемые – т. е. те, кто не имеет возможности развивать себя сами – но они-то поистине блаженны постольку, поскольку они открывают возможность для действия Другого. Эта вторая логика, логика благодати, «сверху» требует отречения от развития во имя служения, отказа от роста за счет другого существа в условиях, когда это «за счет» необходимо для любого возрастания. Саморазвитие неизбежно обречено оставаться только «жизнью-в-культуре», которой противостоит христианская жизнь в Боге, до которой это саморазвитие никогда не может дорасти, поскольку они принципиально несоизмеримы.
Этими двумя логиками конституируются две противоположные антропологические позиции, в свою очередь ложащиеся в основу противоположных путей творческой деятельности и культурного строительства. В результате возникает парадоксальная ситуация, при которой в каждом культурном регионе, в который вторгается христианство, «существует, – по слову о. Василия Зеньковского, – не одна, а две культуры. Есть культура, которая хочет быть верной Христу и видеть все “в свете Христовом”, – но есть культура, выросшая вне Церкви, боящаяся Церкви и чуждая ей, вовсе и не ищущая того, чтобы глядеть на мир в свете Христовом» [74, с. 75].
Именно этой противоположностью определяется разница между ранним и поздним творчеством Киреевского, в преодолении этой непреодолимой грани состоит его жизненный и философский подвиг.
Не случайно поэтому, что как в разбираемом отрывке, так и вообще в ранних произведениях Киреевского речь о Боге не идет никогда, хотя там присутствует, отчасти даже в явном виде[51]51
Приведем определение религии, данное Киреевским в статье «Девятнадцатый век»: «Нет, религия не один обряд, и не одно убеждение. Для полного развития не только истинной, но даже и ложной религии необходимо единомыслие народа, освященное яркими воспоминаниями, развитое в преданиях односмысленных, сопроникнутое с устройством государственным, олицетворенное в обрядах однозначительных и общенародных, сведенное к одному началу положительному и ощутительное во всех гражданских и семейственных отношениях» [3, с. 87]. Это определение и связанная с ним характеристика движения религиозных идей Европы в XIX в. довольно ясно показывает, что, полностью отдавая себе отчет в значении религии для развития и жизни культуры, Киреевский лично отказывается принимать в ней какое-либо активное участие. Вопрос об истинности религии заключается им в скобки не только методологически, но и лично, экзистенциально.
[Закрыть], целая концепция философии религии. Антропология, на которой она основана, ориентирована в рамках системы «человек-мир», элементы которой существенным образом изоморфны друг другу. Человек, точнее его «душа», «свободным развитием» приводит в гармонию свои способности, силы, стремления – одним словом, деятельности, и через это достигает изоморфизма, гармонии с миром. Тем самым человек получает возможность познавать мир через самопознание. В то же время этот изоморфизм изначален в том смысле, что и человеческая индивидуальная интеллигенция, и природа конституируются (как тогда говорили «полагаются») развертыванием диалектики трансцендентального субъекта, представляющей собой, по Шеллингу, «непрерывную историю самосознания», где «параллелизм природы и интеллигенции» раскрывается в «последовательности ступеней созерцания, посредством которых Я поднимается до сознания в его высшей потенции» [201(1), с. 228–229]. То есть чем выше потенция сознания, тем более высокий уровень природы (бытия) может быть постигнут им, причем в конце концов он познается как им же и созданный, «продуцированный», а более высокие уровни осознаются как внешние, обладающие независимым существованием.
Что касается идейного содержания «Слова о Веневитинове», то в нем необходимо отметить еще три момента: 1) Основным отношением между человеком и природой мыслится познавательное отношение, т. е. они выступают как «интеллигенция», субъект и «природа», объект, причем именно эта доступность природы для ума и сердца мыслится здесь как определяющая цель познания, именно потому, что как бы подтверждает их изначальное тождество. 2) Человек оказывается в центре созерцаемого им мира. 3) Мир познается с его идеальной стороны (высшие законы и красота создания). Эти три момента, взятые вместе предполагают в качестве основы всего рассуждения философию тождества, особенно в том ее изводе, который связан с натурфилософией, «Системой трансцендентального идеализма» и «Философией искусства» Шеллинга.
В интерпретации Киреевского (а, возможно, и в собственной самоинтерпретации), Веневитинов как поэт – гений именно в том смысле, в каком это понимается Шеллингом [201(1), с. 474–475]. В нем субъективная и объективная, соответственно, сознательная и бессознательная деятельности интеллигенции «должны абсолютно совпасть», стремление к чему лежало уже в самом начале диалектического движения – в стремлении к созерцанию. В силу изначальности этого стремления его совершенное достижение означает также достижение «бесконечной умиротворенности». Гений, достигнув высшей ступени, которой мог достичь человек, может с ее высоты созерцать все предыдущее развитие в самом себе, как некую гармонию и единство. Это самосозерцание и есть философия – как бы рассказ о том странствии, которое совершило сознание.
Особенностью изложения Киреевского остается отсутствие «специальной» германизированной философской терминологии, о причинах чего уже говорилось. Однако эвфемизмы автора вполне прозрачны: «ум» соответствует здесь субъективной, сознательной деятельности интеллигенции; «сердце» – объективной, бессознательной; намеки на интеллектуальное созерцание и самосозерцание как результат их высшей согласованности и единения – тоже вполне прозрачны. Возможность прямых соотнесений такого рода говорит о том, что причина здесь – не только указанный выше эзотеризм, который как раз склонен избегать однозначности и определенности, но и совсем иное, исходящее из другого, пушкинского, круга литературной деятельности, стремление к созданию собственной, «нашей» философской терминологии. Разработка такой терминологии с необходимостью должна предшествовать разработке собственно философской проблематики. Такова задача, поставленная творчеством Веневитинова и всею деятельностью любомудров перед русским просвещением, и такова поправка, вносимая Пушкиным в этот проект. Не случайно разработка эта начата именно в области литературной критики – «наша» философия начинается с рефлексии «нашей» литературной традиции.
Итак, в самосозерцании изоморфный человеку мир (характер этого изоморфизма мы уже некоторым образом прояснили) предстает как результат диалектического развертывания противоположных деятельностей трансцендентального Я, высшим продуктом которого оказывается поэт, который обнаруживает это в качестве философа, через открытие и истолкование структуры ego cogito.
Отсюда видно, что сходство следующего за «Словом о Веневитинове» абзаца, посвященного необходимости создания «нашей философии» [3, с. 67–68] с последующим славянофильством оказывается мнимым – эта философия мыслится как продолжение дела Веневитинова, т. е. остается в рамках трансцендентализма. Вопрос о том, не выведет ли «наша жизнь», из которой должна родиться «наша философия» за эти рамки, – пока не может быть даже поставлен Киреевским. Этот момент остается в рамках единого жизненного и философского опыта романтической индивидуальности, обосновывающего эгоцентризм как жизненную позицию и трансцендентализм как позицию философскую. В самой литературе только некоторые особенности далеко не бесспорной в то время пушкинской программы создавали качественно иные возможности.
Итак, для описанной выше позиции характерно вполне определенное понимание положения человека в мире. Исходя из первичности и самоочевидности бытия мыслящего субъекта, она очень скоро приходит к обнаружению первичности самой мысли, по отношению к которой субъект начинает выступать только как носитель или выразитель, вполне безразличная точка приложения. Это характерно именно для такой субъектноориентированной мысли, какой была мысль Киреевского. В глубине изучаемого субъекта, в «средоточии его бытия» он стремится увидеть то, что составляет это средоточие, ту сверхиндивидуальную мысль, которую несет в себе человек, которую он выражает своим творчеством. Первоосновой этой мысли, тем, что связывает литературную традицию воедино и выстраивает ее в строгую последовательность, оказывается то, что может быть названо «диалектикой становления общественного самосознания», «поток жизни» которого играет главную роль в формировании всех феноменов литературы, просвещения, культуры в целом, как выражений этой жизни, диалектических моментов развертывания жизни этого духа (дух здесь именно в смысле немецкого идеализма, как производящее, становящееся самосознание некоторой общности). Даже когда он (Киреевский) занят отдельной личностью (например в статье «Нечто о характере поэзии Пушкина», где фактически реконструируется творческая биография поэта), – эта личность предстает перед нами как выразитель безличного духа, вселенского сознания, воплощающий некоторый его момент, мысль, категорию (например «народность»), в которой в данный момент сосредотачивается эта жизнь, и истолкователем которой выступает критик-философ, в чьем лице это сознание возвышается до самосознания.
В самом зрелом произведении этого периода, в статье «О стихотворениях Языкова» (1834 г.), Киреевский следующим образом формулирует задачи литературной критики: ее дело «при разборе стихотворцев заключается в том, чтобы определить степень и особенность их таланта, оценить их вкус и направление, показать, сколько можно, красоты и недостатки их произведений…».
Никакие собственно герменевтические усилия здесь не прилагаются – их не к чему прилагать.
«…Но когда является поэт оригинальный, открывающий новую область в мире прекрасного и прибавляющий таким образом новый элемент к поэтической жизни своего народа, – тогда обязанность критики изменяется. Вопрос о достоинстве художественном становится уже вопросом второстепенным; даже вопрос о таланте является не главным; но мысль, одушевлявшая поэта, получает интерес самобытный, философический; и лицо его становится идеею, и его создания становятся прозрачными, так что мы не столько смотрим на них, сколько сквозь них, как сквозь открытое окно; стараемся рассмотреть самую внутренность храма и в нем божество, его освящающее» (курсив мой. – К.А.) [3, с. 137].
Именно на этой ступени критика получает герменевтическое задание – истолкование литературного явления в свете выраженной в нем идеи. Здесь возможно сопоставление с герменевтикой Шлейермахера, чьи лекции Киреевский слушал в Берлине в 1830 г. С другой стороны, в различении «стихотворца» и «поэта» чувствуется влияние различения таланта и гения в «Философии искусства» Шеллинга: «Гений отличается от всего, что есть лишь талант, тем, что последний обладает только эмпирической необходимостью, в конечном счете представляющей случайность, между тем как первый – абсолютной необходимостью. Каждое подлинное произведение абсолютно необходимо: такое произведение искусства, которое одинаково могло бы быть и не быть, этого имени не заслуживает» [204, с. 162–163].
Каковы же основания герменевтики Киреевского? Храм – личность, и творчество поэта освящается его божеством – присутствующею в нем мыслью. «Лицо» обретает свою значимость тогда, когда оно «становится идеею», поэт значителен тогда, когда он возвышается до мысли, имеющей самобытный, философический интерес. Здесь несомненно родство с гегелевской «Историей философии» (которую Киреевский тоже, как уже неоднократно говорилось, слушал в Берлине), где каждый значительный мыслитель оказывается олицетворением некоей категории, которая в свою очередь есть не что иное, как момент становления Абсолютного Духа, и его «Эстетикой», для которой прекрасное есть лишь инобытие истинного.
В программной работе этого периода – статье «Девятнадцатый век» – отношение между мыслью и человеком, носителем и выразителем этой мысли, строится аналогичным образом. Здесь это служит основанием того предпочтения, которое автор отдает Европе в сравнении с Россией: «И тут и там идет борьба за национальность, независимость и целость; но там просвещение уже развитое, следовательно, знаменем борьбы, целью стремления является всегда мысль религиозная или политическая; тут место мысли заступает лицо, частное событие, самозванец» [3, с. 96].
Это последнее слово весьма знаменательно. Хотя оно взято из русской истории, но смысл его здесь определяется совершенно «на европейский аршин» (выражение М.П. Погодина). Здесь «самозванец» – тот, за кем не стоит никакая мысль, и кто тем самым лишен права на место в историческом процессе, но, тем не менее, на него претендует. Киреевский следует здесь этой идеалистической схеме истории как развертывания и взаимодействия мыслей, идей. Общий вектор этой истории – движение от раздора к гармонизации, к целостности. В этом отношении Киреевский предстает как непосредственный предшественник западников 40-х гг. Понимание истории Запада как борьбы стремящихся к могуществу личностей и «партий» скрыто от него. Он очень близко подойдет к нему в статьях 50-х гг.: «…история европейских государств хотя представляет нам иногда внешние признаки процветания жизни общественной, но в самом деле под общественными формами скрывались постоянно одни частные партии, для своих частных целей и личных систем забывавшие о жизни целого государства. Партии… постоянно боролись в европейских государствах, стараясь каждая перевернуть его устройство согласно своим личным целям. Потому развитие в государствах европейских совершалось не спокойным возрастанием, но всегда посредством более или менее чувствительного переворота. Переворот был условием всякого прогресса, покуда сам сделался уже не средством к чему-нибудь, но самобытною целью народных стремлений» [3, с. 266].
Таким образом, то, что раньше было «мыслью», теперь обнаружило себя как «частное мнение» партий и лиц; то, что раньше виделось источником гармонизации истории, теперь предстало основой ее разорванности и дисгармонии. В 1856 г. Киреевский идет еще дальше и объявляет (в духе позднешеллинговского различения негативной и позитивной философии) исторические закономерности – «мнимые законы разумной необходимости» – «только законами разумной возможности», придавая решающее значение «свободной воле человека» [3, с. 313–314].
Столь же любопытны слова «частное событие» – сюда попадают события самые страшные – бессмысленные, непросветленные светом Абсолютной идеи: история Иова, внутренние трагедии Кьеркегора, Чаадаева, смерть Пушкина, судьба самого Киреевского. И все же именно в этих событиях личное отношение Бога к человеку становится по-настоящему ощутимым как «личное откровение»[52]52
Здесь я пользуюсь более поздним термином Ю.Ф. Самарина, возникшим, однако под влиянием позднего учения Киреевского о вере [167, с. 505, 515].
[Закрыть], в них человек получает уникальную возможность отвечать Ему тоже как личность. Но этот опыт не мог пока найти своего места в мысли Киреевского.
Однако, как мы уже говорили, субъектность мысли Киреевского самым явным образом проявляется и в этих ранних статьях. Киреевский и здесь анализирует не столько состояние культуры, сколько положение творящего ее человека. Это относится и к пониманию целостности. «Чисто практический» характер нового просвещения Европы обеспечивает европейскому человеку возможность полноты не только внутренней, но и внешней жизни, точнее, полноты проявления внутренней жизни вовне: «Человек нашего времени уже не смотрит на жизнь как на простое условие развития духовного, но видит в ней вместе и средство и цель бытия, вершину и корень всех отраслей умственного и сердечного просвещения. Ибо жизнь явилась ему существом разумным и мыслящим, способным понимать его и отвечать ему, как художнику Пигмалиону его одушевленная статуя». Залогом цельности оказывается здесь то, что «частная жизнь составляет одно с жизнью общественной» [3, с. 89, 88].
Здесь можно видеть соединение романтических (жизнь как существо) и гегельянских (тождество субъекта и субстанции) влияний, но гораздо важнее увидеть здесь глубокую рефлексию личного опыта жизни за границей, в которой Киреевскому удалось преодолеть резко отрицательные переживания непосредственных впечатлений, о которых он сообщал в своих письмах. Однако когда эта рефлексия направляется на собственное существование автора, она выявляет его глубокую дисгармоничность. Об этом свидетельствует горький отрывок, который мы вполне можем считать автобиографичным:
«В противном случае – то есть когда просвещение общего мнения в разногласии с основными мнениями людей просвещенных – жизнь идет по одной дороге, а успехи ума по другой, и даже в людях необыкновенных, составляющих исключение из своего времени, эти две дороги сходятся редко и только в некоторых точках.
И может ли один человек образовать себе жизнь особую посреди общества, образованного иначе? Нет, в жизни внутренней, духовной, одинокой будет он искать дополнения жизни внешней и действительной. Он будет поэтом, будет историком, разыскателем, философом и только иногда человеком, ибо в тесном кругу немногих сосредоточено поприще его практической деятельности» [3, с. 88].
Аналогичная ситуация имеет место и в статье «„Горе от ума“ на московском театре». Существование образованного человека русского общества предстает в обоих случаях как глубоко расколотое, причем причины этой расколотости усматриваются автором в ненормальных условиях существования, при которых свободная практическая деятельность этого человека оказывается невозможной. Мы видим здесь тот же раскол между уровнем сознания личности, уровнем ее властных притязаний и ее реальными возможностями. Киреевский как истинный любомудр ведет здесь борьбу за право философа свободно осмыслять и разумно переустраивать тот мир, в котором он живет. Эта борьба делает его посредником между декабристами и любомудрами 20-х годов и западниками 40-х.
С другой стороны, именно рефлексия по поводу своего существования приведет его впоследствии к осознанию глубокой внутренней противоречивости той культуры, частью которой он был, которую он впоследствии назовет «европейско-русским просвещением».
Апофеоз самой европейской культуры также был кратковременным. Идеал гармонии, «естественного равновесия противуборствующих начал», оказался, как и опасался Киреевский, «мечтой». Итоги революции 1830 г. оказались в высшей степени неудовлетворительными и в политической, и в общественной, и в духовной жизни. Осознание этого стало одной из движущих сил перемен в России и одним из мотивов поворота самого Киреевского. Об этом свидетельствуют автобиографические места его последних статей. Как справедливо отмечал Б. Парамонов, отказ «от надежды на построение целостной культуры в рамках духовных возможностей Европы» стал одним из мотивов перехода Киреевского на «славянофильские» позиции [148, с. 12].
Разочарование в западном просвещении было связано для него (как и для многих других) с тяжелым духовным кризисом, с разочарованием в избранном пути жизни вообще. Рефлексия, которая была в течение долгого времени основной формой его духовной жизни, обнаружила свою безосновность. На некоторое время он погружается в стихию скептического отрицания, воспринимая ее как основной результат западноевропейского мышления, вехами которого выступают у него Декарт, Юм, Кант и немецкие классики. Он упирается в проблему интеллектуальной интуиции, которая представляется ему неразрешимой чисто теоретическим путем, в то время как пути практические для него, как для чистого мыслителя, закрыты. Вместе с западной философией он оказался в таком положении, «что ни далее идти по своему отвлеченно-рациональному пути она уже не может, ибо сознала односторонность отвлеченной рациональности, ни проложить себе новую дорогу не в состоянии, ибо вся сила ее заключалась в развитии именно этой, отвлеченной рациональности» [3, с. 270–271].
Именно в этом лежала причина скепсиса Киреевского – состояния, которое охватило его в середине 30-х гг., следы которого мы обнаруживаем в «Записке об обращении Ивана Васильевича».
Свою собственную несчастливую литературную и личную судьбу он воспринимает как знамение общего, совершенно невыносимого положения дел. Та жизненная программа, которую он с такой тщательностью создавал и выстраивал, соединяя наиболее актуальные, с его точки зрения, элементы самых перспективных европейских и русских философских и литературных программ, оказывается бессильна изменить что бы то ни было в окружающем его мире. Любая попытка практической реализации этих программ либо не удается, либо приводит к самым неудовлетворительным результатам – что равно характерно для Европы и для России. Для Киреевского это становится поводом для пересмотра философских оснований своей позиции, для признания их неудовлетворительными. Убеждения, выработанные с помощью философского дискурса, оказываются крайне непрочны. По крайней мере в 1852 г. он «еще живо помнил ту эпоху в собственной жизни, когда… процесс искусственного мышления сладостно утолял для него жажду умственного успокоения» [3, с. 269]. В какой-то момент эта эпоха кончилась. Добродушная насмешка над самим собой, с которой Киреевский в этом признается, весьма показательна – она говорит о том, что когда эта эпоха кончилась – убеждений у него не осталось.
Осталась потребность в убеждениях, потребность в вере. Однако иметь потребность в вере и верить – вещи разные, и Киреевский это очень хорошо понимал. Неслучайно, излагая в «Девятнадцатом веке» шеллинговскую идею «исторической философии», он тщательно оставлял за скобками ее религиозный смысл. «Зачем неспособен я верить!» – восклицает он в письме к Кошелеву.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































