Текст книги "Философия И. В. Киреевского. Антропологический аспект"
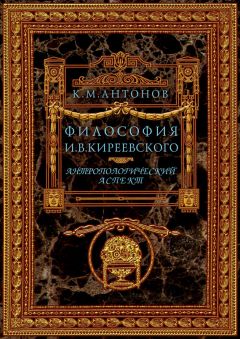
Автор книги: Константин Антонов
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
Здесь нас будет интересовать ряд отрывков, начинающихся в издании Гершензона двумя заголовками:
«Отношение веры к разуму, или какую степень знания составляет вера?
Различные отношения внутреннего самосознания к Богопознанию» [2(1) с. 279].
Очевидно, что здесь намечена разработка некоей типологии, которая, однако, осталась незавершенной. Киреевский только намечает ряд ее основных черт или степеней. Исходным пунктом служит «сознание всепроникающей связи и единства вселенной», которое «предшествует понятию о единой причине бытия и возбуждает разумное сознание единства Творца». Далее, это знание о Боге как о едином Творце углубляется через познание его атрибутов, рождающееся так же из созерцания творения: «Неизмеримость, гармония и премудрость мироздания наводят разум на сознание всемогущества и премудрости Создателя» [2(1) с. 279].
Фактически, речь здесь идет о том, что в докантовской «рациональной теологии» называлось «доказательствами бытия Божия». Киреевский же, вполне в святоотеческом духе, сохранившемся и в высокой схоластике, говорит о них как о путях, ведущих наш разум к Богу: они «возбуждают», «наводят разум», отсылают его к сознанию о Боге, без принудительности, присущей логическому доказательству[82]82
См. об этом [7, с. 373]. Впрочем, необходимо отметить, что в и Средние века, и в Новое время (например у Лейбница или у Гегеля, в русской философии у В.Д. Кудрявцева-Платонова и Н.О. Лосского) эти доказательства рассматривались не только как способы наведения разума на мысль о Творце, но и как аргументы, имеющие логическое значение. В настоящее время этот вопрос также не может считаться окончательно разрешенным.
[Закрыть].
Все наше знание о мире оказывается тем самым вовлеченным в процесс Богопознания, в движение человека по пути к вере. Однако результат такого «естественного» богопознания оказывается ограниченным и «отвлеченным». Рубеж веры для него непереходим, а только перейдя его, можно увидеть, как отвлеченность знания вовлекается в целостность веры, от которой оно первоначально «отвлеклось». Тогда становится возможным говорить о том, что знание относится к вере, как часть к целому, или, используя сравнение, популярное в начале XX века – как потенциальная бесконечность к актуальной. Но говорить и свидетельствовать об этом призвана не сама вера и не наука, как представитель «знания», но философия, о чем Киреевский говорит в статье «О… философии»: «Философия не есть одна из наук, и не есть вера. Она общий итог и основание всех наук и проводник мысли между ними и верою» [3, с. 321].
В новом контексте получает большую определенность противопоставление веры и внешней образованности как двух типов мышления, каждый из которых стремится «переработать» другого в своем духе. Орудием «переработки» в обоих случаях выступает философия. В этом поединке возможны два исхода: «или образованность вытеснит веру, порождая соответственные себе убеждения философские; или вера, преодолевая в мыслящем сознании народа эту внешнюю образованность, из самого соприкосновения с нею произведет свою философию, которая даст другой смысл образованности внешней и проникнет ее господством другого начала» [3, с. 322].
Так мыслится место, назначение и сущность христианской философии – перед ней стоят задачи понимания и интерпретации, т. е., по существу, герменевтические задачи. Если современная герменевтика в лице, например, П. Рикера, ставит себе задачу разоблачения иллюзий сознания путем интерпретации символических рядов, опираясь при этом на работу, проделанную Марксом, Ницше и Фрейдом, то христианская герменевтика может добавить к этому еще одну фундаментальную задачу: разоблачение иллюзий неверующего сознания путем расшифровки присущего ему специфического символизма[83]83
В этом отношении П. Рикер ограничивается только констатацией положительного значения этой атеистической герменевтики для самого христианского сознания: освобождая его от мифологических иллюзий, оно делает его более сознательным и ответственным. См. напр. Рикер П. Конфликт интерпретаций. М., 1995. С. 202 ел.
[Закрыть]. К этой задаче уже приступала русская религиозная философия, начиная с Ю.Ф. Самарина – непосредственного продолжателя Киреевского – и затем, особенно в лице Вл. Соловьева (см. его этюды о Конте и Ницше), С.Н. Булгакова (работы о Фейербахе, Герцене и др.), Л. Шестова[84]84
См об этом мои статьи «Элементы психоанализа в философской публицистике С.Н. Булгакова» // Философия хозяйства. 2002, № 2 и «Творчество Ф. Ницше в интерпретации Л. Шестова. Проблема атеизма» // Историко-философский ежегодник 2000. М., 2002.
[Закрыть] и пр.
Но вернемся к рассматриваемым отрывкам. Созерцание внешнего мира, «рассматривание творений» (Римл. 1,19) может сообщить нам, как уже говорилось, только внешнее же, отвлеченное знание о Боге, которое соответствует столь же отвлеченному самосознанию. Опасность отвлеченного мышления, которую мыслитель испытал сам на себе, состоит в том, что оно ведет к ложному успокоению, что видно из цитированного пассажа о Декарте. Борьба с этим ложным успокоением, с «самодовольством» составляет существеннейший момент деятельности славянофилов, особенно К.С. Аксакова. Этот пафос перекликается, с одной стороны, с романтическим бунтом, а с другой – с такими важными моментами святоотеческой аскетики, как учения о прелести, помыслах и страстях.
В «Отрывках» Киреевского эта мысль получает дополнительное, антропологическое, освещение: «Мышление, отделенное от сердечного стремления, есть так же развлечение для души, как и бессознательная веселость. Чем глубже такое мышление, чем оно важнее по видимому, тем в сущности делает оно человека легкомысленнее. Потому, серьезное и сильное занятие науками принадлежит к числу средств развлечения, средств для того, чтобы отделаться от самого себя. Эта мнимая серьезность, мнимая деятельность, разгоняет истинную. Удовольствия светские действуют не так успешно и не так быстро» [2(1) с. 280–281].
Так мыслится русским философом результат стремления отвлеченного мышления к самодостаточности. Начиная с 1839 года, Киреевский в разных работах разрабатывал различные аспекты этого вопроса. Вслед за ним к этим темам обращались Ф.М. Достоевский и особенно Л. Шестов, который сделал тему бегства философа от самого себя одной из основных в своем творчестве. Этот отрывок может так же служить одним из примеров той герменевтической функции христианской философии, о которой было сказано выше.
Такое обожествление собственного разума ведет к утрате целостности человеческого существа и разрушению личностного самосознания. Развлекаясь тем или иным способом, человек «отвлекается» от изначального онтологического отношения, от веры. Тем самым он неизбежно впадает в предметное мышление в рамках субъект-объектных отношений. Его собственное «Я» оказывается в центре мира, оно становится последним критерием истины и лжи. Тем самым устанавливается эгоцентризм как жизненная, и трансцендентализм, как философская позиции.
Но в то же время, именно на вершинах своей деятельности разум имеет шанс познать свою собственную ограниченность.
Это произошло с Шеллингом, Стеффенсом, Паскалем и др., это произошло и с Киреевским.
Здесь, в «Отрывках», он судит уже с высоты открывавшегося ему мира веры, и потому как бы задним числом, говорит о недостаточности не только научного, но и философского мышления для ее обретения: «Но единство, всемогущество, премудрость и все другие понятия о Божественности первой причины, которые разум может извлечь из созерцания внешнего мироздания, еще не внушают ему того сознания о живой и личной самосущности Создателя, которое дает существенность нашим умственным к Нему отношениям, перелагая само внутреннее движение наших мыслей и чувств к Нему из сферы умозрительной отвлеченности в сферу живой, ответственной деятельности» [2(1) с. 279].
В рамках той же типологии различных видов знания и их отношения к вере, Киреевский отмечает существование разрыва между знанием, как совокупностью частей, потенциальной бесконечностью, и верой, как целым, как бесконечностью актуальной. Необходим, таким образом, новый прорыв «внутреннего самосознания», прорыв человека к самому себе. Он не может быть осуществлен собственными человеческими силами, но влечет за собой существенное изменение положения человека по отношению к Богу и миру. Чтобы отвлеченность сменилась существенностью, необходим разрыв логических структур и связей сознания, необходимо Откровение, об особой логике которого уже говорилось.
К познанию внешнего мира здесь с необходимостью присоединяется познание мира внутреннего: «Это сознание, совершенно изменяющее характер нашего Богомыслия, и которое мы не можем извлечь прямо из одного созерцания внешнего мироздания, возникает в душе нашей тогда, когда к созерцанию мира внешнего присоединится самостоятельное и неуклонное созерцание мира внутреннего и нравственного, раскрывающего пред зрением ума сторону высшей жизненности в самых высших соображениях разума» [2(1) с. 279].
Речь идет все о том же «трансцендировании во-внутрь». В этом отрывке смыкаются два аспекта в подходе Киреевского к человеку, о которых писал Котельников: «Первый – трезвый и бескомпромиссный анализ реальной этической личности в себе самом и в окружающих… Второй – своеобразная теория личности, теория сознательной духовной жизни человека» [99, с. 15].
Результаты анализа, созерцания внутреннего мира становятся данными теории. В позднем творчестве Киреевского можно без труда заметить черты, характеризующие сознание нового, только еще зарождающегося этапа развития русской литературы, связанного с именами Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского.
Для самого Киреевского это нравственное сознание есть необходимый этап «стремления к целостному мышлению», лежащему в основе «православно-христианской образованности». Это «целостное мышление» ни в коем случае нельзя путать с тем идеалом «цельного знания», к которому стремился впоследствии В.С. Соловьев. Киреевский имеет в виду прежде всего акт, или последовательность актов сознания, логику его жизни. Соловьев же говорит о «системе знания», иерархической организации всей совокупности человеческих знаний, во главе со свободной теософией. Проблема внутренней перестройки носителя этих знаний остается у него как бы на втором плане (хотя, разумеется, и не отсутствует), в то время как у Киреевского именно эта проблема оказывается центральной. Познания же о внешнем и внутреннем мире служат лишь ступенями, по которым человек восходит к своей основной цели – вере и целостному мышлению. Отсюда – постоянное взаимное непонимание между Соловьевым и его последователями, с одной стороны, и духовными и философскими наследниками славянофильства – с другой[85]85
Хотя у некоторых последователей Соловьева мы можем наблюдать очевидное стремление к синтезу обоих направлений – например у кн. С.Н. Трубецкого и С.Л. Франка. Особенный интерес в этом отношении представляет также о. П. Флоренский, у которого концепция всеединства и, соответственно, идеал цельного знания («органического мышления»), сочетается с явно восходящим к соответствующим идеям Киреевского учением об исторической изменчивости разума, зависимости его образа действия как от предмета, так и от духовного состояния субъекта [186, с. 821–826].
[Закрыть].
«Это стремление к умственной цельности, как необходимое условие разумения высшей истины, всегда было неотъемлемою принадлежностью Христианского любомудрия. Со времен Апостолов до наших времен оно составляет его исключительное свойство. Но с отпадения Западной Церкви оно осталось преимущественно в Церкви Православной. Другие Христианские исповедания хотя не отвергают его законности, но и не считают его необходимым условием для разумения Божественной истины» [2(1) с. 275].
Таким образом, вера и неверие, как две основополагающие антропологические позиции, «религиозные установки» (С.Л. Франк), связанные одна – с «утверждением метафизического монизма», т. е. «цельности», а другая – «дуализма» [190, с. 418], т. е. «раздвоенности»[86]86
Хотя, конечно, степень соответствия мысли Киреевского мысли Франка должна быть предметом особого исследования.
[Закрыть], определяют собой те образы человека, уровни его самосознания, способы его мышления и типы создаваемой им культуры, «образованности», в основе которых они лежат.
§ 4. Вера и личность, по учению И.В. Киреевского
Теперь мы можем приступить к рассмотрению и истолкованию отрывка, который, занимая, по своей важности, центральное место, может показаться как неким итогом всей проделанной в «Отрывках» работы, так и очередной попыткой вновь сформулировать основную мысль:
«Сознание об отношении живой Божественной личности к личности человеческой служит основанием для веры, или, правильнее, вера есть то самое сознание, более или менее ясное, более или менее непосредственное. Она не составляет чисто человеческого знания, не составляет особого понятия в уме или сердце, не вмещается в одной какой-нибудь познавательной способности, не относится к одному логическому разуму, или сердечному чувству, или внушению совести: но обнимает всю цельность человека, и является только в минуты этой цельности и соразмерно ее полноте. Потому главный характер верующего мышления заключается в стремлении собрать все отдельные части души в одну силу, отыскать то внутреннее средоточие бытия, где разум, и воля, и чувство, и совесть, и прекрасное, и истинное, и удивительное, и милосердное, и весь объем ума сливается в одно живое единство, и таким образом, восстановляется существенная личность человека в ее первозданной неделимости.
Не форма мысли, предстоящей уму, производит в нем это средоточие сил; но из умственной цельности исходит тот смысл, который дает настоящее разумение мысли» [2(1) с. 274–275].
Здесь перед нами встает вопрос о соотношении само– и Бого-сознания человека. Первое, с чем мы здесь сталкиваемся, это еще одно, и основоположное, «определение» веры – главного слова, характеризующего, по Киреевскому, это отношение: «Сознание об отношении живой Божественной личности к личности человеческой служит основанием для веры, или, точнее, вера есть то самое сознание, более или менее ясное, более или менее непосредственное».
Это определение отражает очень значительное колебание мысли Киреевского, настолько значительное, что он не просто продумал его, но и вынес в текст, сочтя, вероятно, что оно отражает важные смысловые нюансы самой проблемы. Это колебание касается проблемы соотношения веры и непосредственного опыта Богообщения. Различие между ними, сначала проведенное довольно отчетливо, затем – едва ли не уничтожается, зато становится возможным говорить о степенях непосредственности, т. е. как бы о степенях самой веры.
Пред. Исаак Сирин различает, не разделяя, веру и «духовное ведение», и связывает их с непосредственным присутствием Духа Святого, действующего в человеке и просвещающего его изнутри [78, с. 128, 130–132]. Следуя этому учению, Киреевский делает упор на «непосредственности» опыта Богообщения, и, значит, веры, как «сознании об» этом опыте, которое именно в силу этой непосредственности не может быть отделено от опыта.
Можно попытаться проинтерпретировать мысль Киреевского так, что опыт Богообщения есть не само отношение существ, поскольку оно, как таковое, не может быть прервано в силу самого понятия о соотношении сотворенной и несотворенной природы и в силу неотменимости таинства крещения для христианина; но «более или менее непосредственное» «сознание об отношении», т. е. сознательное отношение (а другим живое отношение личностей, постольку, поскольку они суть личности, быть не может), которого требовали многие Святые Отцы (особенно пред. Симеон Новый Богослов). Этот осознанный, а, значит, уже проинтерпретированный опыт и «служит основанием для веры».
Мы имеем, таким образом, структуру из трех уровней: отношение личностей (опыт) – сознание о нем – вера. Затем эта структура сокращается, не без колебаний со стороны автора: «или, правильнее, вера есть то самое сознание». Это сокращение как раз должно удержать элемент ясности и непосредственности опыта, сохраняя вместе с тем, его «сознательность». Тем самым Киреевский стремится обеспечить свое пребывание в стихии одновременно двух традиций – православной духовности и западноевропейской философии, причем так, чтобы последняя обрела в первой свое новое, но, в то же время, изначальное основание. Проинтерпретированность опыта сознанием не означает его нереальности, символичность не отменяет реальности и непосредственности. В акте веры человек имеет дело именно с реальностью Божественной личности, но если он думает, что его опыт исчерпывает эту реальность, – он ошибается. Герменевтический круг, возникающий между опытом и его интерпретацией, означает, в данном случае, не тотальную сконструированность опыта, а его способность к бесконечному углублению.
Если, однако, наш опыт богообщения изначально проинтерпретирован нашим сознанием, и, в то же время, это непосредственный опыт, – то, с введением степеней непосредственности встает вопрос о соотношении непосредственности и сознательности.
Дело представляется так: существует некий опыт человека, фундаментальный и определяющий для его образа бытия. Этот опыт, будучи отрефлексирован, интерпретируется сознанием как «отношение живой Божественной личности к личности человеческой». Это сознание служит основанием для веры[87]87
Подробнее об этом говорится в указанном сочинении Ю.Ф. Самарина, согласно мысли которого, к самому содержанию идеи Бога относится восприятие человеком воздействия с Его стороны, как некоторого факта, приятие или неприятие действительности которого и составляет основу веры [167, с. 505].
[Закрыть].
Когда мы, вслед за Киреевским, говорим, что «вера есть то самое сознание, более или менее непосредственное», – это означает две вещи. Во-первых, в акте веры Божественная личность присутствует непосредственно, не отождествляясь, вместе с тем, с «субъектом», а лучше сказать, с «автором» этого акта – человеческой личностью. Может быть, еще точнее будет сказать, что акт веры, по Киреевскому, есть произведение двух соавторов-личностей – Бога и человека, в котором оба присутствуют непосредственно и в меру своей цельности – всегда относительной со стороны человека («более или менее») и всегда абсолютной со стороны Божества. Если же говорить об акте веры как акте сознания – Божественная личность становится предметом его интенции, непосредственной данностью сознания. Во-вторых, это означает, что эта интенция не может осуществиться вполне, но лишь «более или менее», как выяснится потом, – в меру цельности человеческого существа, в меру реализованности в нем личностного начала.
Взятые вместе, оба эти положения опять отсылают нас к учению св. Григория Паламы о различении сущности и энергии в Боге, а отсутствие соответствующей терминологии скорее подтверждает единство мысли Киреевского с магистральной линией православного предания. По словам Котельникова, «Киреевский создает свою антропологию, философски эксплицируя те представления о человеке, которые нес в себе оптинский опыт и питающие его традиции» [102(3), с. 7]. Можно сказать, что учение св. Григория представляет собой богословскую интерпретацию того же самого опыта, философское обобщение которого намечается здесь Киреевским[88]88
Киреевский знал, по крайней мере, некоторые (главным образом, по-видимому, аскетические) творения св. Григория. Во всяком случае, прей. Макарий присылал ему какую-то рукопись, о которой Киреевский писал, что в ней «есть некоторые места очень темные» [5, с. 320]. О возможном происхождении этой рукописи см. [5, с. 547–548].
[Закрыть].
Итак, если первая часть указанной дилеммы остается как будто вполне в рамках традиционного идеалистического дискурса, то вторая явно отсылает за его пределы, так как сознание, имеющее предметом своей выполненной интенции Самого Бога в Его энергиях, радикально отличается от того, которое исследуется в трансцендентальном идеализме. Ясно, что такое сознание имеет свою особую логику и отсылает к совершенно иным условиям бытия, прежде всего к целостности человеческого существа.
Это бытие, бытие личности, обладает для Киреевского самодостоверностью, которая, как свидетельствует пассаж о Декарте, лишь замутняется и скрывается иллюзиями сознания. Если он говорит о вере как сознании, то потому, что для него необходимо включить трансцендентальный идеализм, понимаемый максимально широко, как философия сознания, или как «сфера рационального отвлеченного мышления» [3, с. 328], в свое рассуждение. Для этого он создает соответствующие проекции понятий, занимается переводом понятий с одного языка на другой и обратно. Немалые сложности возникают и из-за принципиально различных требований к формализованности философского языка и разной степени терминологической разработанности.
Ключевые понятия новой философии в языке старой должны проваливаться: ускользать от точных определений, вызывать вопросы, тем самым открывая двери в новые области бытия. Именно таково здесь понятие «веры», рассматриваемой как акт сознания.
«Она не составляет чисто человеческого знания, не составляет особого понятия в уме или сердце, не вмещается в одной какой-либо познавательной способности, не относится к одному логическому разуму, или сердечному чувству, или внушению совести, но обнимает всю цельность человека и является только в минуты этой цельности и соразмерно ее полноте» [2(1) с. 275].
Мы переходим здесь к новой характеристике личности и веры, которая может быть названа «экзистенциальной». Эта характеристика – цельность и стремление к полноте этой цельности. Она дополняет предыдущую, «интенциональную» характеристику, и, взятые вместе, они могут быть названы «всецелой обращенностью» – слово, которое, мне кажется, лучше всего отражает суть учения Киреевского.
Чем полнее обращение человека к Богу, чем больше сил и сторон его личности участвуют в этом обращении, чем более цельным выступает в этом акте его дух, тем непосредственнее «сознание об отношении живой Божественной личности к личности человеческой», тем живее вера. Предстоять Богу лицом к Лицу, видеть Его, как Он есть, – может только целостный человек в единстве и единственности своей личности. Здесь снимается вопрос о непосредственности и интерпретации – интерпретация возникает из непосредственного опыта как единственно возможная, как его адекватное описание, оставляющее, в то же время, возможность для дальнейшего теоретизирования.
Это теоретизирование не было, однако, для него чем-то самоценным. Главной задачей верующего мышления была практическая задача, оно понималось философом именно как практика, направленная на онтологическое изменение самого мыслящего: отыскание «внутреннего средоточия бытия», восстановление «существенной личности человека в ее первозданной неделимости» [2(1) с. 275].
Очень любопытно, что словарь Киреевского остался неизменным с 1830 года. Еще в «Обозрении русской словесности 1829 года» он писал о «средоточии бытия» поэзии Жуковского [3, с. 59]. Но при этом самым существенным образом изменилось направление его внимания: оно обращено теперь не вовне, на явления культуры и природы, но на внутренний мир человека. Конечно, человек и его внутренний мир не только не были обойдены вниманием Киреевского-романтика, воспитанного в культурной среде пушкинской эпохи, но и находились постоянно в фокусе этого внимания. Он, однако, не мог рассматривать их иначе, чем как нечто в конечном счете вторичное, производное от жизни духа народа, мирового духа, идеального универсума или каких-либо иных надындивидуальных структур тварного бытия. Теперь, после обращения, основная интуиция Киреевского получает, наконец, возможность полного раскрытия – в учении о самоценности человеческой личности как предельного начала сотворенного мира. В средоточии бытия этой личности оказываются заключены все его идеальные богатства, все «логосы сущего», употребляя слово прей. Максима Исповедника.
Этот особый метод верующего мышления противопоставлялся Киреевским методу «римских богословов и философов», для которых «кажется, достаточно было, чтоб авторитет Божественных истин был однажды признан, для того, чтоб дальнейшее разумение и развитие этих истин могло уже совершаться посредством мышления отвлеченно-логического» [2(1) с. 275].
Это противопоставление не случайно – сам текст Киреевского не может быть правильно понят без обращения к той духовной традиции, к которой принадлежал автор, – к духовной традиции Православия. Когда мы говорим, что верующее мышление понимается Киреевским как практика, мы имеем в виду не только тот общий смысл, согласно которому любое философствование изменяет сознание и сам способ существования своего субъекта (это было значимо и для раннего этапа творчества Киреевского), но и смысл более конкретный. Описание Киреевского имеет ряд общих черт со вполне определенной и специфической для православной духовности практикой «умной молитвы» с ее «сведением ума в сердце» – «особым процессом концентрации, сосредоточения или центрирования сознания» [195, с. 95].
О сердце в русской философии писали многие, достаточно назвать имена П.Д. Юркевича и Б.П. Вышеславцева. В своем понимании сердца, как «средоточия бытия» человеческой личности, они следуют Киреевскому (хотя последний редко пользуется этим словом – очевидно, из-за присущих ему романтических ассоциаций).
Выше уже говорилось о понимании «сердца» у прей. Исаака Сирина, приведем теперь еще несколько свидетельств современников Киреевского и более поздних авторов. Вот что писал в своей статье о значении сердца (1860 г.) П.Д. Юркевич (1827–1874), младший современник Киреевского, представитель духовно-академической мысли: «…священные писатели определенно и с полным сознанием истины признавали сердце средоточием всех явлений человеческой телесной и духовной жизни». «В сердце человека лежит основа того, что его представления, чувствования и поступки получают особенность, в которой выражается его душа, а не другая, или получают такое личное, частно-определенное направление, по силе которого они суть выражения не общего духовного существа, а отдельного живого действительно существующего человека». «Понятие и отчетливое знание разума, поколи – ку оно делается нашим душевным состоянием, а не остается отвлеченным образом внешних предметов, открывается или дает себя чувствовать и замечать не в голове, а в сердце; в эту глубину оно должно проникнуть, чтобы стать деятельною силою и двигателем нашей духовной жизни» [212, с. 73, 82, 86].
Юркевич – философ, как и Киреевский. Данные Св. Писания, которые он использует в этой статье, для него – свидетельства о духовном опыте его авторов, как для Киреевского – писания Св. Отцов. Оба они укоренены в одной традиции, хотя и принадлежат к разным ее ответвлениям: отсюда большая близость их результатов. Я имею в виду, прежде всего, учение о «средоточии», о личности и ее «непосредственном самосознании», о внутренних истоках человеческого мышления [212, с. 91, 82–83] и др.
Приведем еще свидетельства писателей-аскетов, современников Киреевского. Мы увидим, что он на своем уровне и языке, в своем модусе речи, выражал то же сознание Церкви, что и они. Так, например, св. Феофан Затворник (1815–1894) в «Письмах о духовной жизни» писал: «Ум, оставаясь в голове, сам собою все в душе хочет уладить и всем управить…, за всем гоняется и только терпит поражения» [185, с. 182].
Здесь опять уместно вспомнить критику Киреевским западного богословия (методы и рационалистический дух которого были в значительной мере заимствованы и православной духовной школой)[89]89
Среди славянофилов эту мысль с особой настойчивостью проводил Ю.Ф. Самарин в своей диссертации о Стефане Яворском и Феофане Прокоповиче, и далее – в Предисловии к богословским сочинениям А.С. Хомякова. Вслед за ним об этом в XIX–XX вв. писали многие богословы, философы и духовные писатели.
[Закрыть]: «В этом логическом изложении, из отвлеченно-рассудочного разумения догматов, тоже, как отвлеченный вывод, раздались требования нравственные. Странное рождение живого из мертвого! Мудреное требование силы во имя мысли, которая сама не имеет ее» [2(1) с. 275–276]. «Единственный выход – по св. Феофану – уму не остаться в голове, а низойти в сердце» [185, с. 182]. То есть, комментирует современный мыслитель, ум «перестает быть головною активностью (чистым теоретизированием, умствованием. – К.А.), внешней по отношению к «сердцу», а актуально переходит к нему, соединяясь с ним воедино» [195, с. 96].
Здесь же можно упомянуть и М.А. Новоселова[90]90
В 2000 году прославлен Русской Православной Церковью как новомученик.
[Закрыть], малоисследованного, но интересного мыслителя и церковного деятеля, в начале XX века возглавлявшего «Кружок ищущих христианского просвещения», непосредственное отношение к которому имели такие мыслители, как о. П. Флоренский, С.Н. Булгаков, В.Ф. Эрн. Новоселов неоднократно ссылается на Киреевского в своих сочинениях. С его точки зрения, «школьное богословие» «в своем крайнем схематизме решительно не видит живой души человеческой с ее запросами, муками, сомнениями. Оно не берет человека с его наличными духовными требованиями и не возводит, его осторожно и проникновенно пестунствуя, на высшую ступень самосознания и самочувствия» [147, с. 50].
Это явно соотносится с вышеприведенными строками Киреевского, который и сам относился к современному ему богословию достаточно критично: «удовлетворительного Богословия у нас нет», – писал он Кошелеву в 1853 году [92(2), с. 100]. Основная причина этой критичности – отсутствие антропологического измерения.
Еще разительнее изложение этапов благодатной жизни у св. Игнатия Брянчанинова, одного из наиболее ярких и значительных духовных писателей, связанных с Оптиной пустынью и традицией пред. Паисия Величковского: «От блаженного действия Святаго Духа в человеке, сперва начинает веять в нем необычная тишина, является мертвость к миру, к наслаждению его суетностью и греховностью, к служениям посреди его. Христианин примиряется ко всему и ко всем при посредстве странного, смиренного и вместе высокого, духовного рассуждения (выделено мною. – К.А.), неизвестного и недоступного плотскому и душевному состоянию. Он начинает ощущать сострадание ко всему человечеству и к каждому человеку, в частности. Сострадание переходит в любовь. Потом начинает усугубляться внимание при молитве его: слова молитвы начинают производить сильное, необычное впечатление на душу, потрясать ее. Наконец, мало-помалу сердце и вся душа двинутся в соединение с умом, а за душею повлечется в это соединение и само тело. Такая молитва называется
Умною, когда произносится умом с глубоким вниманием, при сочувствии сердца;
Сердечною, когда произносится соединенными умом и сердцем, причем ум как бы нисходит в сердце, и из глубины сердца воссылает молитву;
Душевною, когда совершается от всея души, с участием самого тела, когда совершается из всего существа, причем все существо соделывается как бы едиными устами, произносящими молитву» [30(2), с. 218].
Здесь мышление (духовное рассуждение) предельно сближается с молитвой, и это дополнительное свидетельство позволяет нам заключать о природе такого мышления.
Основной инструмент этого самособирания человека – внимание. Его результат – формирование новых «принципов организации и механизмов работы сознания, в которых энергии умственные и душевные образуют единую структуру» [195, с. 95]. Именно формирование этой новой единой структуры описывает Киреевский в своем отрывке.
На основании веры как состояния всецелой обращенности к Божеству и посредством внимания верующее мышление, подобно молитве, собирает все духовные силы человека, восстанавливая тем самым единство человеческой личности, разрушенное грехопадением.
Личность может быть восстановлена только в горизонте обращения к Божественной личности. Кажется несомненным, что практика внутреннего внимания, сведения ума в сердце, стала здесь отправной точкой мысли философа, попытавшегося обобщить ее результаты и показать их общезначимость с точки зрения учения о человеке.
«Не форма мысли, предстоящей уму, производит в нем это сосредоточение сил, но из умственной цельности исходит тот смысл, который дает настоящее разумение мысли» [2(1) с. 275].
Так несколько загадочно заканчивает Киреевский свой отрывок.
Это значит: мысль как некое привходящее содержание сознания сама по себе бессильна, какой бы глубокой, возвышенной, прекрасной, удивительной, желанной, справедливой или милосердной она ни была. Приходящая извне, навязывающаяся сознанию мысль не может воссоединить все разрозненные силы ума, захватить человека целиком. Только собравшись воедино, соединившись с сердцем, «пережив» мысль, сделав ее «своею», как бы «родив» ее, верующий ум оказывается способным придать мысли ее настоящий смысл в его цельности, развернуть мысль полностью, со всеми ее предпосылками и следствиями, их «беспрестанно изменяющемуся сцеплению и разрешению» [5, с. 280], во всей силе ее пафоса. Здесь уместно вновь обратиться к Юркевичу: «Задачи, которые решает мышление, происходят в своем последнем основании не из влияний внешнего мира, но из влечений и неотразимых требований сердца… жизненность и глубина нашего мышления и сознания лежит в том душевном существе, которого явление мы знаем непосредственным внутренним опытом только в наших сердечных влечениях…» [212, с.82–83].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































