Текст книги "Философия И. В. Киреевского. Антропологический аспект"
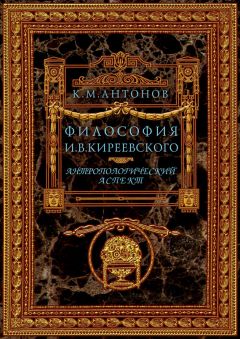
Автор книги: Константин Антонов
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
Это создает уникальную возможность построения целостной культуры, где ликвидирован момент отчуждения, в которой принимает участие целостный человек в полноте своих сил, в непосредственности связи с жизнью, «которая явилась ему существом разумным и мыслящим, способным понимать его и отвечать ему, как художнику Пигмалиону его одушевленная статуя» [3, с. 88–89].
Итак, примирение враждующих начал ведет к возникновению качественно новой культуры, в которой отчуждение снято, а человек впервые становится человеком в полном смысле слова. Примерно через десять лет эту же самую схему истории воспроизведет западник К.Д. Кавелин. Характерно, что схемы Кавелина и Киреевского, различные в исторических частностях, совпадут в своих антропологических основах, несмотря на то, что один вдохновлялся Шеллингом, а другой – Гегелем и Фейербахом.
Неудивительно, что Киреевский ощущает себя на стороне Петра, который ввел стремление к просвещению (т. е. к такому идеалу) «в виде внешней силы, противуположной нашему прежнему быту, сражающейся с нашей национальностью на жизнь и смерть», стремящейся «победить ее, покорить своему владычеству» [3, с. 97]. Русская национальность представляется ему «китайски особенной», а европейское просвещение – «просвещением в истинном смысле слова» [3, с. 96]. Критикуя «обвинителей создателя новой России» [3, с. 98], Киреевский выступает против всей «самобытнической» (В. Кожинов), пред славянофильской тенденции в послепетровской русской истории. Борьбу пушкинской литературной среды с массой равнодушной полуобразованной публики он рассматривает как продолжение петровской реформы.
Через двадцать лет его позиция радикально изменится: главное заблуждение Петра окажется в том, что источник просвещения он «видел в одной Европе» [3, с. 250]. Для самого Киреевского понятия «общечеловеческое» и «европейское» больше не однозначны. Это позволит поставить вопрос о ценности петровского переворота, о генезисе, отношениях, судьбе и сравнительной значимости европейского, европейско-русского и древнерусского просвещения.
Но пока он пишет как продолжатель Карамзина и последователь Пушкина. Пушкин и Жуковский, вслед за Карамзиным, обращались к высшему свету и дворянской интеллигенции. Отсюда проистекали идеи «литературной аристократии», необходимости для литератора принадлежать к «хорошему обществу». Этих же мыслей придерживался Киреевский в письме к Кошелеву: «Мы возвратим права истинной религии, изящное согласим с нравственностию, возбудим любовь к правде, глупый либерализм заменим уважением законов и чистоту жизни возвысим над чистотою слога» [3, с. 336].
Литераторы – высший свет – дворянство – народ – такова схема распространения «естественного света» культуры, расширения просвещения, которая при этом подразумевается. Демократизация литературы, начатая декабристами, продолженная бр. Полевыми и Булгариным, в очень короткий срок ставит под угрозу все эти планы. Перед Киреевским, как и перед Чаадаевым, неожиданно открывается пропасть, их жизненная задача оказывается утопией[32]32
Отсюда большая близость Киреевского и Чаадаева в эти годы, отмеченная Б.Н. Тарасовым [177, с. 262, 265] (см. также письмо Чаадаева Киреевскому 1832 г. [197 (2), с. 74–75].
[Закрыть]. Вместе с Чаадаевым он «открыто признает невозможность найти в русском прошлом задатки всемирно-исторического будущего» [178, с. 262]. Удивительным образом шеллинговский провиденциализм спасает его от полной безнадежности, позволяет создать оптимистическую (в отличие от чаадаевской) концепцию русской истории.
По Шеллингу, история есть процесс необходимым образом двусторонний: в нем сочетаются начала рациональности, свободы, сознательности, с одной стороны, и иррациональности, необходимости, бессознательности – с другой. Начало смысла, мысли, воплощенной в остатках древнего мира, преобразовало Европу и насильственно ворвалось в Россию, чтобы и здесь победить бессознательную косность начал узконациональных. Европейская история уже завершилась – отсюда и безжизненность Европы, и «тупость» немцев и пр. Ареной истории и лидером в движении просвещения становится Россия, поскольку ее европеизация – необходимый элемент движения человечества к установлению «всеобщего правового порядка», который увенчает историю тогда, когда, по выражению Шеллинга, «приидет Бог» [201(1), с. 451, 466]. Но русское национальное по-прежнему относится к европейскому-общечеловеческому как особенное к общему, понимания качественной специфики России пока нет. По Киреевскому: «До сих пор национальность наша была национальность грубая, необразованная, китайски неподвижная. Просветить ее, возвысить, дать ей силу развития может только влияние чужеземное, и как до сих пор все наше просвещение заимствовано нами извне, так только извне можем мы заимствовать его и теперь, до тех пор, покуда сравняемся с остальною Европою. Там где общеевропейское совпадется с нашею особенностию, там родится просвещение истинно русское, образованно-национальное, твердое, живое, глубокое и богатое благодетельными последствиями» [3, с. 119–120].
Этот вывод сделан в духе, типичном для западников конца 30-х – 40-х годов, для Чаадаева эпохи «Апологии сумасшедшего», для Белинского времен «Московского наблюдателя», для Герцена.
Ход истории, рассматриваемый здесь как поступательный прогресс, определяется развитием просвещения, а уровень просвещения – ходом движения литературы. Из предыдущего ясно, что совпадение национального с европейским уже произошло в лице Пушкина, в последнем периоде его творчества, который обозначается как период «народный», «русско-пушкинский», с одной стороны, и период «поэзии действительности» и историчности – с другой.
Абсолютным выражением этого направления был для любомудров «Борис Годунов». Уже Веневитинов говорил о нем, как об «образцовом произведении» [41, с. 208] мирового масштаба. Киреевский развивает эту мысль, конкретизирует ее в «Обозрении русской литературы за 1831 год». Литературоведы (Манн, Мейлах) признают разбор «Годунова» в «Европейце» крупным достижением Киреевского-критика. Но нас больше интересует философское – методологическое и философско-историческое – содержание этого разбора.
Методологически, Киреевский, отказываясь судить о трагедии с точки зрения тех или иных эстетических теорий своего времени, осуществляет попытку беспредпосылочного подхода, чистого понимания, вполне в духе того пафоса беспредпосылочности, который имел место в немецком идеализме: «…посмотрим на „Бориса Годунова“ глазами, непредубежденными системою, и, не заботясь о том, что должно быть средоточием трагедии, спросим себя: что составляет главный предмет создания Пушкина?» [3, с. 106]
Ю.В. Манн назвал это философским преодолением ограниченности философской критики [128, с. 93]. В той же статье, разбирая “Наложницу” Баратынского, Киреевский еще раз демонстрирует возможности философии и вскрывает суть творческого акта в поэзии как акта смыслополагания, не нуждающегося в дополнительной игре воображения: «…чтобы дать простор сердцу, ему не нужно выдумывать себе небывалый мир… в самой действительности открыл он возможность поэзии, ибо глубоким воззрением на жизнь понял он необходимость и порядок там, где другие видят разногласие и прозу» [3, с. 110].
Развивая эти подходы, возможно не без влияния герменевтики Шлейермахера, он в 1834 г. в статье «О стихотворениях г. Языкова» придет к результатам, предвосхищавшим теорию пафоса Белинского [128, с. 96]. Поэт действительности не имеет предпосылок – их не должен иметь и его критик – таков ключ, найденный Киреевским к поэзии позднего Пушкина, Баратынского, Языкова[33]33
Эта установка Киреевского находит у Белинского прямое развитие: в статье 4-й из цикла «Сочинения Александра Пушкина» Киреевский не называется, однако теория литературной критики, разрабатываемая Белинским явно вращается в том же кругу идей: «В мир поэта не должно вносить никаких требований, никаких заранее приготовленных понятий и вопросов, никаких страстей, а тем менее пристрастий, никаких убеждений, а тем менее – предубеждений» [26, с. 566].
[Закрыть]. Этот метод дает возможность непосредственно поставить вопрос о смысле данного произведения искусства и через этот смысл обратиться к ценностному содержанию самой действительности, различных форм общественного бытия и сознания, потока народной жизни. Именно здесь закладывались предпосылки славянофильского переворота.
Еще важнее разбор «Бориса Годунова» с точки зрения философии истории. Трагедия Пушкина фиксирует чрезвычайно важную для русского сознания первой трети XIX века точку русской истории – Смутное время. К этой же эпохе привязан романный замысел Киреевского из очерка «Царицынская ночь». О том, что он соотносится и с пушкинской трагедией, и с «Историей» Карамзина, писал Степанов [175, с. 244].
«Здесь в первый раз русский задумался о России» [2(2), с. 147], – эта формулировка Киреевского объясняет интерес общества к Смутному времени и то существенное для его философии истории положение, что «со времени Минина и Пожарского начало у нас распространяться и просвещение в истинном смысле сего слова» [3, с. 96]: здесь впервые в русской истории возникла, обособилась мысль – залог и возможность просвещения.
У Пушкина «преступление Бориса является не как действие (т. е. не как факт. – К.А.), но как сила, как мысль, которая заступает место господствующего лица, или страсти, или поступка» [3, с. 106–107], т. е. как идеальная возможность, в своем осуществлении раскрывающаяся как необходимость. Тем самым исчезает противоположность Европы и России, понимавшаяся Киреевским как противоположность «мысли, религиозной или политической», и «лица, частного события, самозванца» [3, 96].
Теперь Пушкин и Баратынский вносят поэтическое значение один в прошлое, другой – в настоящее, превращают частное событие в мысль, а вереницу событий и лиц – в историю. Прошлое и настоящее становятся осмысленными как единство исторического процесса, движущегося к цели, отнесенной в будущее, и осененного ценностями, родившимися в событиях прошлого. В участии в этом движении Киреевский видит залог возможности обретения смысла и для себя, и для людей своей эпохи.
Путь к общечеловеческому, т. е. европейскому, просвещению лежит через свою собственную историю, а ее постижение-построение определяется овладением духовными богатствами Европы. Итак, внимание обращается к истории и это – один из важных факторов, обусловивших «славянофильский прорыв». Однако несмотря на стремление мысли к беспредпосылочности, она остается связанной целым рядом предрассудков, для преодоления которых потребуется некий толчок извне, радикальная перемена положения личности ее носителя. Киреевский же остается пока в рамках философии тождества: в лице Пушкина сходятся судьбы гениального поэта и его народа, традиция литературы и развитие общественного сознания, история народа и история человечества.
Видимая законченность этих построений не должна закрывать от нас того факта, что ими не устранялся фактический разрыв между теоретизированием и практической деятельностью, выражавшийся в полной невозможности реализации разрабатываемых в рамках этой романтически-просвещенческой парадигмы идей. Причина здесь не только в жесткой позиции николаевского режима по отношению к альтернативному центру просвещения, но и в самом отношении этих идей к той действительности, в которой они должны были реализоваться. Киреевский, как мы видели, живо чувствовал противодействие этой действительности и готов был к самым решительным мерам, чтобы его перебороть, но он не понимал всей глубины и существенности расхождения, действительного даже на уровне языка.
«Связь индивида с его народом покоится именно в том центре, из которого общая духовная сила определяет все мышление, ощущение и воление. Язык родственно связан со всем в ней… и нет ничего, что могло бы остаться ему чуждым» [209, с. 12], – писал Г.Г. Шпет.
Именно языковое единство пушкинской культурной общности и русского народа и может быть поставлено под сомнение в первую очередь.
Вместе со становлением русской литературы как культурной общности и общественного института, происходит формирование русского литературного языка. По мысли Б.А. Успенского, его стабилизация начинается именно с Пушкина. Три стихии, в борьбе которых складывался этот язык – европейская, русская народная и церковно-славянская – достигают в его творчестве равновесия [183, с. 167–168]. Задачей этого языка было «обеспечить адекватную передачу того содержания, которое может быть выражено на европейских языках» [183, с. 155] и его трансляцию в России. Уже на уровне языка русская литература была связана с принципами Просвещения (и как эпохи, и как установки сознания, и как исторического проекта), хотя она никогда окончательно не порывала с церковным миросозерцанием и народной жизнью.
Проблема народности предстает теперь как проблема выражения на русском литературном языке специфически национального, особенного, «русского» содержания, т. е. как необходимость решения задачи, противоположной той, которая изначально стояла перед этим языком.
Пушкин, как народный поэт, свободно, просто «выражая себя», выражает и народную жизнь, душу народа. Эта поэзия, поэзия действительности, рождается из глубины души поэта, где он соприкасается с «общей духовной силой» и «заставляет» эту силу высказываться через себя. Тем самым он делает ее понятной для нас, что удается только благодаря тому, что сам он прошел долгий путь исканий и обогатился европейским опытом смысловыражения, вместе с сущностно принадлежащим ему идейным и ценностным содержанием. Однако этим он непроизвольно определяет и границы своей собственной речи, как «европейско-русского» языка, соответствующего «европейско-русскому просвещению». Его мастерство было столь поразительно, что шедшие за ним (в их числе и Киреевский) не могли в нем усомниться.
Между тем, личный духовный опыт настойчиво вел Пушкина в области, неподвластные его совершенному, но закрытому и как бы самодостаточному александрийскому стиху, требующие иных, более открытых, более свободных форм. В то же время, его мысль, прежде всего поэтическая, не связанная жестко ни с одним из умственных течений того времени, максимально свободная и открытая, обратившись к русской истории, может быть, впервые выявила ее принципиальную несводимость к европейским формам. С историческими изысканиями Пушкина может быть увязано и начало критического отношения к деятельности Петра («История Петра», «Медный всадник»)[34]34
Как уже указывалось, «поздний» Пушкин выступает здесь наследником «позднего» Карамзина.
[Закрыть]. Углублению духовного опыта поэта соответствуют его литературные поиски и эксперименты последних лет жизни: в области духовной поэзии, фольклора, народной песни и сказки, исторических жанров, активное и сознательное введение в речь славянизмов, нарочитое «простонародничанье» в письмах к жене – все это в тридцатые годы, т. е. тогда, когда происходит поворот старшего Киреевского.
О причине обоих явлений удачно сказал Гоголь в своей статье о «существе русской поэзии»: «Дело странное: предметом нашей поэзии все же были мы, но мы в ней не узнаем себя… Поэзия наша не выразила нам нигде русского человека вполне, ни в том идеале, в каком он должен быть, ни в той действительности, в какой он ныне есть» [57, с. 261].
Проблема языка, также как и философия истории, приводит нас, таким образом, к проблеме человека. Язык оказывается носителем и выразителем определенных форм человеческого бытия, а различие языков открывает неустранимое чисто поэтическим усилием различие в этих формах и соответствующих им ценностях и идеях. Поэтому можно говорить о неудаче «русско-пушкинского периода»: вопреки Киреевскому, «поэзия действительности» не смогла, «проникнув глубже в жизнь, развить идеал свой до большей существенности», вырваться из «круга мечтательности» [3, с. 142].
Да, в лице Пушкина Россия обрела поэта европейского уровня и масштаба, русская культурная элита вошла на равных в семью европейских культурных элит. Но разрыв между народом и культурной общностью остался непреодоленным – не в смысле демократии, а в смысле «единомыслия». За различием языков скрывалась противоположность образа жизни, эмоционального строя и ценностных ориентиров, в конце концов – типов устроения человека, антропологий. Новый духовный опыт русской интеллигенции, связанный с понятием «народности», приоткрывал перед нею новые пространства и в области литературы, и в области философии истории. Именно славянофилам, на основе достижений Пушкина, писателей его круга и любомудров, удалось впервые осознать и выразить эти моменты.
Глава 2. Становление антропологической позиции И.В. Киреевского
§ 1. Антропология романтизма и патристики
Философия Киреевского, как она сложилась к концу жизни мыслителя, представляет собой опыт разработки христианской антропологии. В ее центре стоит феномен веры, понимаемой как «сознание об отношении живой Божественной личности к личности человеческой» [2(1), с. 274–275], как их всецелая обращенность друг ко другу Ключ к этой антропологии – понятие «личности». Человеческая личность, по Киреевскому, находится в центре мира: «Ибо существенного в мире есть только разумно свободная личность. Она одна имеет самобытное значение. Все остальное имеет значение только относительное» [2(1), с. 274].
Однако «личность» принимает на себя столь существенное значение, в котором явно просвечивает святоотеческое понимание человека, лишь в «Отрывках»[35]35
Название дано А.С. Хомяковым (см. его статью «Об отрывках найденных в бумагах Киреевского» – послесловие к публикации в «Русской беседе» непосредственно после смерти автора) и затем воспроизводилось в изданиях Кошелева и Гершензона.
[Закрыть] Киреевского и до некоторой степени в его последней, 1856 года, статье «О необходимости и возможности новых начал для философии». Более того, только в «Отрывках» философия для Киреевского со всей определенностью разворачивается в антропологию.
Впрочем, и до этого, в поздних статьях его, представляющих собой довольно причудливое переплетение тем истории и теории культуры, философии истории, истории философии, социальной философии и теории познания, можно заметить, что именно человек, как он присутствует в определенной культуре, точнее образ человека, соотносящийся с определенными историческими условиями, определенными формами его бытия в мире, стоит в самом центре этого переплетения. Наличие у Киреевского четкой иерархии таких форм[36]36
См., например, [3, с. 270, 331].
[Закрыть] заставляет предполагать и существование у него вполне определенной, хотя и не разработанной явно, антропологии, которая может быть выявлена и описана.
Однако ключевое слово «личность» еще не найдено автором на этом этапе, что заставляет предполагать некоторую эволюцию его взглядов, в ходе которой мысль постепенно овладевала своей первоначальной исходной интуицией, что в свою очередь вело к изменению эксплицированной явно позиции.
Мысль Киреевского движется, как между двумя полюсами, между двумя значимыми для него духовными и интеллектуальными традициями. Одна из них – традиция западно-европейской философии, литературы, искусства и мистики, которые сливаются в единый поток в немецком романтизме и идеализме в конце XVIII – начале XIX века. Она влияла на Киреевского и непосредственно, и через посредников – русское масонство, русское шеллингианство, русский литературный романтизм во главе с Жуковским и др. Другая – религиозно-философская и аскетическая традиция патристики, практическое и теоретическое (в меньшей мере) возрождение которой началось в то же время, первоначально в монашеских кругах, а затем проникло и в среду светской интеллигенции, и «в народ».
При этом надо иметь в виду, что основным материалом, с которым поначалу работал Киреевский, была совершенно особая традиция русской литературы и формирующаяся в ее русле независимая светская «интеллигентская» философия (т. е. философия вне рамок духовных академий и университетов, вне непосредственного контроля со стороны церковной иерархии и правительства). Последняя возникает из творческой переработки данных и методов европейской традиции на основе сохранившихся в секуляризованном сознании (хотя и вытесненных на его периферию или существующих в превращенной форме) элементов древнерусского церковного сознания [73(1.1), с. 12–13] – и выражает то, что сам Киреевский называл потом «европейско-русским просвещением». К нему, собственно, принадлежал и сам Киреевский: его сознание жило рефлексией его общественно-политических, этических, эстетических определенностей.
Начав свою творческую деятельность как романтик, Киреевский постепенно, под действием целого ряда отрицательных и положительных факторов, перемещался от романтического полюса к патристическому. Он разочаровался в идеалах эпохи Просвещения и способности западноевропейской культуры достичь взыскуемого им идеала цельности личной и общественной жизни; разуверился в возможности преобразования общества литературным или философским путем и отказался от утопии, свойственной пушкинскому кругу писателей и любомудрам. Не только в «европейско-русской», но и в самой европейской жизни он усмотрел глубокие противоречия, свойственные самому способу бытия европейского человека, связавшего свою судьбу с разумом и, следовательно, с философией; уяснил себе необоснованность претензий философии на роль высшего смыслообразующего начала; историчность и, следовательно, преходящесть всех форм «просвещения». Вместе с тем, он увидел в собственной душе такие духовные потребности, удовлетворение которых неподвластно рациональности, а неудовлетворение грозит разрушением внутреннего равновесия душевного организма, и встретился с новым и неизвестным ему до тех пор образом бытия, христианским подвижничеством (старцы Филарет и Макарий), который одновременно и удовлетворял, и корректировал его собственное основополагающее видение человеческой реальности. Наконец, тесное духовное и интеллектуальное общение с такими личностями, как А.С. Хомяков, брат – П.В. Киреевский и жена – Н.П. Киреевская (сыгравшая, возможно, решающую роль), – стало своеобразным катализатором в резком повороте его личной и философской судьбы.
Такое положение Киреевского делает необходимым – для правильного понимания его позиции и ее становления – прояснение некоторых основных черт антропологии каждой из упомянутых традиций. Это тем более важно, что часто одинаковые термины, например «дух – душа – тело», «ум – сердце» и особенно «личность» – имеют в них совершенно различный смысл.
1. Общая характеристика романтизма
Говоря в первой главе об основных эстетических и литературных позициях пушкинской эпохи, мы почти к каждой из них прилагали наименование «романтизм». В то же время, однозначное определение понятия «романтизм», особенно в таком контексте как «влияние западноевропейского романтизма на русскую литературу и философию 1-й пол. XIX в.» – представляется делом чрезвычайно трудным. Как и многие плоды «европейско-русского просвещения», русский романтизм, будучи очевидным результатом заимствования, представлял собой в то же время чрезвычайно своеобразное явление. Можно говорить о влиянии немецкой, французской, английской, итальянской и пр. романтической и предромантической литературы, а также о влиянии различных романтических литературно-философских кружков, их отдельных представителей, их образа жизни, бытовых и умственных навыков и ценностей на русскую культурную среду. Романтизм во многом преобразовал эту среду, оказав на нее всестороннее воздействие. В нем искали и новые литературные формы, и новую философию, и новые формы духовной жизни и организации быта[37]37
К сказанному необходимо добавить, что активные поиски нового синтетического искусства в русской эстетике 20–40-х гг. XIX в., ведшиеся, как правило, под знаком преодоления романтизма, в действительности составляют необходимую черту романтической парадигмы. Поэтому антиромантические заявления таких авторов, как Надеждин или Белинский, не должны приниматься за чистую монету: в действительности, они служат цели сведения счетов с литературными предшественниками и противниками, а содержание понятия «романтизм» при этом сознательно или бессознательно сокращается в соответствии с этой целью.
[Закрыть]. Как истинный представитель русского общества, Киреевский впитывал в себя все.
Вместе с тем, именно русский романтизм предоставлял интересные, неизвестные в Европе, возможности выхода из трудностей и тупиков, свойственных самому романтическому сознанию. Одним из таких выходов было «славянофильство». Чтобы учесть все эти моменты, разговору о романтической и патристической антропологии будет предпослана здесь реконструкция типичной структуры романтического сознания. Ориентиром будет служить романтизм йенского кружка, как наиболее влиятельного, наиболее изученного и наиболее философичного. Романтизму посвящено множество работ, из которых мы ориентировались на работы В.М. Жирмунского, П.П. Гайденко, Р.М. Габитовой, Е.А. Махова, А. Карельского.
Оговорим предварительно еще один важный момент. Дело в том, что крупнейшие мыслители, наилучшим образом выразившие ряд существенных определений романтической мысли и одновременно оказавшие наиболее существенное влияние на русскую мысль, – Шеллинг и Гегель – находились, особенно второй, в очень неоднозначных отношениях с романтизмом, и включить их в него, значит сильно, даже чрезмерно расширить объем этого понятия за счет обеднения его содержания. Представляется поэтому более точным говорить о двуединстве романтизма и философского идеализма, тем более что ряд личностей, относимых, как правило, к романтизму (особенно Фр. Шлегель и Ф. Шлейермахер) сыграли, в свою очередь, очень существенную роль и в движении философской мысли.
Итак, в самом общем виде романтизмом можно назвать духовное движение, составившее особую эпоху в европейской культуре, которое в конце XVIII – начале XIX в. выступило против рационалистических тенденций эпохи Просвещения, находясь с нею в то же время в сложных, диалектически противоречивых отношениях. Рассмотрим внутреннюю логику этого движения, раскрытие которой, в том числе и в отношении антропологии, может сделать понятным его влияние на русскую мысль.
Прежде всего, надо отметить, что романтизм – не только литературно-философское, но и религиозно-мистическое движение. «Романтизм является своеобразной, обладающей такими-то и такими-то особенностями, свойственными веку, формой развития мистического сознания», – утверждал Жирмунский [68, с. 6]. Именно здесь западноевропейские мистические традиции, как христианские и околохристианские, так и платонические, герметические и оккультные оказали огромное влияние на литературу и философию. Именно уникальное сочетание литературных, философских и религиозно-мистических пластов составляет характерную черту универсализма романтиков. Другой такой чертой, тесно связанной с предыдущей, было оригинальное сочетание разорванности, антитетичности сознания с его целостностью, органичностью: «Романтический мир – „живой организм” – живет релятивизацией внутренних границ и противоположностей» [133, с. 13–14].
Эти особенности отличают романтическую универсальность от энциклопедической – безразличной или враждебной к религии, не видящей ни внутренней противоречивости, ни органической цельности мира, мечтающей о создании механической, рационалистической, а не органической, мистичной, «системы природы». В то же время, активное участие в литературной, научной, философской жизни современности, просветительский настрой отличали романтизм от пиетизма, оккультизма и других мистических течений, с которыми он был генетически связан.
По мнению П.П. Гайденко, специфическое соединение эстетизма, принципа трансцендентализма и иронии создало «то своеобразное понимание мира и отношение к нему, которое получило название романтического» [46, с. 78]. При этом эстетизм и трансцендентализм предполагают пантеизм как сущностную черту романтизма. Принцип иронии задает динамику его истории, совершающейся между культивированием этих черт и непрерывными попытками их преодоления.
Исторически они возникают из противопоставленности человека искусства, «гения», пошлости и посредственности повседневности «бюргерского общества», ставшего, после эпохи великих буржуазных революций, носителем и усреднителем норм свободы и морали. Отсюда – абсолютное понятие свободы и «гениоцентризм» (Карельский) романтиков [84, с. 26].
Из этой противопоставленности, из отчужденности творческой личности от своего непосредственного социального окружения, возникал пристальный интерес к человеку (прежде всего, к самому себе), его чувствам и переживаниям. Тем самым, романтики изначально оказывались в жизненной ситуации эгоцентризма, т. е. в ситуации, обосновывающей трансцендентализм, однако переживали эту ситуацию весьма болезненно. Из осмысления этой ситуации и попыток ее преодоления проистекали их собственные философские поиски и увлечения.
Первым таким увлечением стала философия раннего Фихте с ее крайним субъективизмом. Она уже давала основания для отождествления эмпирического «я» (особенно «я» философа, но также и «я» художественного гения) с трансцендентальным «Я», деятельность которого создает мир «не-Я», поддерживала установку «на спонтанное, не опосредованное общими местами самовыражение» субъективности. Однако сам мир терял здесь свою реальность, что противоречило художественному опыту романтиков и обрекало их на тотальное одиночество. Романтики же, и без того одинокие в социуме, ни в малой мере не хотели «терять связь с универсумом, его большим временем и пространством, не переставали ощущать себя “микрокосмом в макрокосме”» [133, с. 9].
С этим обстоятельством была связана рецепция спинозизма в немецком романтизме, проходившем свой путь «от субъективного идеализма к абсолютному». У Шеллинга, Шлейермахера, Фр. Шлегеля «спинозизм приобретает ярко выраженную мистическую, религиозную форму». Для них «великое достижение Спинозы состоит в разработке и обосновании им «философии мира» – философии универсума, бесконечного» [43, с. 52, 54, 56].
Их попытки синтеза систем Спинозы и Фихте могут рассматриваться как философское выражение стремления к преодолению изначальной отчужденности, изолированности романтиков в человеческом мире. Из этого синтеза возникали более или менее стройные системы абсолютного идеализма. В центре этих систем оказывался человек, точнее – художник, мистик, поэт, философ, словом – гений, творец культуры. В своем духовном опыте гений обнаруживает свое природное единство или тождество с первоосновой мира, с всеединством мирового целого, каждая часть которого несет на себе печать всего, но только он, достигший высшей ступени самосознания, – призван выражать все это, соучаствовать в жизни целого не механически-вещно или органически-бессознательно, но духовно-творчески. Причем гений сам призывает себя и сам себя посвящает просто в силу уровня своей гениальности, своего самосознания. Эта концепция «свободного самопосвящения», яркое выражение которой мы находим, например, в «Идеях» Фр. Шлегеля [207(1), с. 363] – важнейшее, что отличает романтизм и от положительной религии, и от эзотерического традиционализма.
Это целое, с которым отождествляет себя и представлять которое берется романтик, именуется им без различия – Бесконечным, Универсумом, Богом. Связь с ним – чувство зависимости (Шлейермахер). Теистическое толкование этих имен и этой связи отвергается (по крайней мере, поначалу) вместе с «внешней мишурой шумного культа» уже потому, что и то, и другое присуще «толпе» добропорядочных бюргеров. В нем видели либо «скучную игру ума», либо «пошлость суеверия», либо, что особенно интересно, если принять во внимание ходячее определение романтичности, «мечтательность». Фр. Шлегель писал: «Дай как можно было бы отказать тебе в религии только потому, что у тебя, вероятно, не нашлось бы ответа на вопрос, веришь ли ты в Бога» («О Философии») [207(1), с. 342–343].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































