Текст книги "Философия И. В. Киреевского. Антропологический аспект"
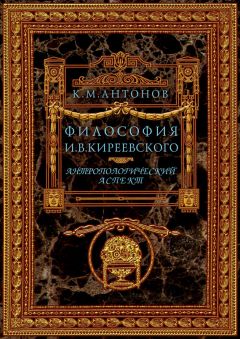
Автор книги: Константин Антонов
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
Такое изменение возможно, поскольку рядом с образованностью Европы лежит близкая ей по основным характеристикам (христианство и наследие античности, преобразующие варварскую стихию), готовая пережить новый расцвет «православная образованность». Свойственные ей особенности православного верующего мышления и особое отношение разума и веры вполне могут лечь в основу новой христианской философии, стремящейся переработать и подчинить себе основные достижения секулярной рационалистической культуры и выйти, тем самым, на новую ступень развития христианской цивилизации.
«Отрывочному», ограниченному внешним авторитетом иерархии, рационализму католичества и более полному рационализму протестантизма противостоит в православии целостное верующее мышление, соединенное с «неприкосновенностью пределов Божественного откровения», основанное на авторитете внутреннем: «В Православной Церкви Божественное откровение и человеческое мышление не смешиваются; пределы между божественным и человеческим не переступаются ни наукою, ни учением Церкви» [3, с. 316–317].
Как же мыслится при этом их взаимодействие?
Учение Церкви понимается здесь как «высший идеал, к которому только может стремиться верующий разум, конечный край высшей мысли» [3, с. 317–318], сверхразумное начало мышления, т. е. живой духовный опыт. Отсюда происходит такое важное для богословия славянофилов понятие «внутреннего авторитета».
«Православное мышление ищет не отдельные понятия устроить сообразно требованиям веры (как на Западе. – К.А.), но самый разум поднять выше своего обыкновенного уровня – стремится самый источник разумения, самый способ мышления возвысить до сочувственного согласия с верою» [3, с. 318].
Первой задачей верующего мыслителя становится, таким образом, не логическая, но аскетическая задача: «Первое условие для такого возвышения разума заключается в том, чтобы он стремился собрать в одну неделимую цельность все свои отдельные силы, которые в обыкновенном положении человека находятся в состоянии разрозненности и противоречия; чтобы он не признавал своей отвлеченной логической способности за единственный орган разумения истины; чтобы голос восторженного чувства, не соглашенный с другими силами духа, не почитал он безошибочным указанием правды; чтобы внушения отдельного эстетического смысла независимо от развития других понятий он не считал верным путеводителем для разумения высшего мироустройства; чтобы господствующую любовь своего сердца отдельно от других требований духа он не почитал за непогрешительную руководительницу к постижению высшего блага; чтобы даже внутренний приговор совести, более или менее очищенной, он не признавал, мимо согласия других разумительных сил за конечный приговор высшей справедливости; но чтобы постоянно искал в глубине души того внутреннего корня разумения, где все отдельные силы сливаются в одно живое и цельное зрение ума» [3, с. 318].
Это один из наиболее известных фрагментов из текстов Киреевского[71]71
Ср. рассуждение о том же предмете в «Дневнике» Киреевского (запись от 24 августа 1852 г.) [5, с. 422]. Здесь, однако, антропологическая проблематика выражена гораздо слабее, и на первое место выдвигается проблема отношения веры и знания, как различных, по порождающим их познавательным способностям, форм убеждения.
[Закрыть], который, однако, почти всегда толкуется не совсем верно, как относящийся исключительно к теории познания. В действительности он имеет также и антропологический смысл. Больше того, представляется, что для того, чтобы его гносеологическое истолкование было корректно, ему должно предшествовать истолкование антропологическое.
В самом деле, перечисление тех познавательных способностей, которые претендуют на автономию и на «владычественное» (по святоотеческому выражению) место в общей структуре человеческого существа, ни в коем случае не претендует на полноту, на то, чтобы дать исчерпывающую и строгую характеристику этих способностей. Речь идет здесь, скорее, о различных концепциях человека, распространенных даже не на уровне теорий, но на уровне обыденного и художественного сознания. Без особого труда они подразделяются на две группы. К первой относится «отвлеченная логическая способность», с которой на теоретическом уровне соотносится рационализм немецкого идеализма и «внутренний приговор совести», судя по контексту явно соотносящийся с кантовской «автономией практического разума»; к другой – «восторженное чувство», «эстетический смысл», «любовь сердца», представляющие различные течения романтизма и иррационализма, которые вряд ли можно идентифицировать точно, поскольку трудно провести между ними строгое разграничение.
Если же подойти к данному отрывку с точки зрения структуры человеческого существа, то с некоторой натяжкой, учитывая, конечно, целиком те характеристики, которые дает им Киреевский, можно попытаться идентифицировать «восторженное чувство» с эмоциональной сферой; «эстетический смысл» с созерцанием красоты и целесообразности в произведениях искусства и в природе, примерно соответственно кантовской «Критике способности суждения»; «любовь сердца» с областью аксиологии в широком смысле слова (причем слово «сердце» в данном случае имеет явно общеромантический, а не святоотеческий и не паскалевский смысл), «внутренний приговор совести» – с областью этики в более узком смысле.
Интересно, что, характеризуя познавательные способности, в том числе чувство, Киреевский не упоминает о собственно чувственном, перцептивном опыте. Это связано, вероятно, с его общим отталкиванием от характерного для XVIII–XIX веков сведения человека к одной лишь «физической личности». Эта косвенная критика материализма перейдет затем у Хомякова и Самарина в открытую. Все это придает мысли Киреевского оттенок платонизма, если не на уровне онтологии, то на уровне теории познания во всяком случае.
Этот антропологический анализ позволяет уточнить и собственно гносеологический смысл рассматриваемого места. Очевидно, что речь здесь идет о проблеме интеллектуальной интуиции в том виде, в каком она ставилась уже в немецком идеализме. «В состоянии разрозненности и противоречия» эти силы действительно получают возможность автономного существования, что ведет их к «борьбе за власть» и в рамках индивидуального существования человека, и в рамках культуры. Это – падшее – состояние человека характеризуется тем, что внутренняя взаимосвязь и взаимозависимость этих энергий и способностей, а также соответствующих им философских дисциплин и областей познания, становится неочевидной для мыслителя, который сам погружен в это состояние.
Таким образом, творческая деятельность и эстетика, например, представляются не имеющими этических и эпистемологических предпосылок и следствий (этот разрыв и трагические попытки его преодоления составляют характерную особенность творчества Гоголя [75, с. 104–106], позже – К.Н. Леонтьева); поведение, воля и этика – соответственно, эстетических и логических (Белинский, различные варианты революционной идеологии, позже – Толстой); наука, логика и теория познания – эстетических и этических критериев («потому что выводы разума независимы от того, хочу я их или нет», – говорил Герцен в споре с Хомяковым в «Былом и думах») [51(5), с. 158].
Хотя уже у Канта практический разум и способность суждения выступают как познавательные способности, их связь с теоретическим разумом и между собой представляется весьма проблематичной. Киреевский пишет, что «Кант… из самых законов чистого разума вывел неоспоримое доказательство, что для чистого разума никаких доказательств о высших истинах не существует» [3, с. 270].
Это значит, что высшие регулятивные идеи чистого разума – идеи человека и его свободы, мира как целого и Бога – недоступны человеческому познанию, поскольку чисто интеллектуальная интуиция – «умственное созерцание», как переводит Киреевский кантовский и шеллинговский термин Intellektuell Anschauung[72]72
На правильность такого перевода указывал в предисловии к своему переводу «Критики чистого разума» и такой выдающийся знаток Канта, как Н.О. Лосский [85, с. VIII].
[Закрыть] – невозможна для человека. Именно эти идеи суть основные предметы интеллектуальной интуиции. Проблема их познания, поставленная Кантом, продолжала стоять перед последующей немецкой мыслью. Эта проблема оставалась связанной с целостным познанием, целостной деятельностью разума, в его отличии от отрывочного, недостаточного, одностороннего рассудка [3, с. 326].
Шеллинг утверждает возможность интеллектуальной интуиции. Ее место в его философии постоянно возрастает. Киреевский в специальном примечании обращает внимание на этот факт [3, с. 329]. Гегель, не отрицая возможности познания идей чистого разума, заменяет интеллектуальную интуицию принципом диалектического восхождения от абстрактного к конкретному. «Предмет мышления, предстоя зрению ума, сам собою прелагается из вида в вид, из понятия в понятие, беспрестанно возрастая в полнейшее значение» [3, с. 327]. В упомянутом примечании Киреевский отмечает тождественность систем Гегеля и раннего Шеллинга.
В данном случае «зрение ума» принадлежит области рационализма, оно служит Киреевскому для характеристики диалектического метода, который сам обнаруживает свою односторонность. Он «явился перед разумным сознанием как одна отрицательная сторона знания, обнимающая только возможную, а не действительную истину и требующая в пополнение себе другого мышления, не предположительно, а положительно сознающего и стоящего столько же выше логического саморазвития, сколько действительное событие выше простой возможности» [3, с. 327–328].
Киреевский выражает здесь характерное для русской философии вообще требование «онтологизма», выражающего «включенность познания в наше отношение к миру, в наше „действовать в нем» [73(1.1), с. 16]. Онтологизм здесь противостоит трансцендентализму, исходящему из примата и автономии отвлеченной познавательной деятельности человека, т. е. тому, что Киреевский называл «рациональным или отвлеченным мышлением». Положительному, действительному мышлению и соответствует «умственное созерцание», т. е. интеллектуальная интуиция. По Киреевскому, вера, собирающая ум в целостность, есть условие возможности интеллектуальной интуиции: «И для разумения истины в этом собрании всех душевных сил разум не будет приводить мысль, ему предстоящую, последовательно и отдельно на суд каждой из своих отдельных способностей, стараясь согласить все их приговоры в одно общее значение. Но в цельном мышлении при каждом движении души все ее струны должны быть слышны в полном аккорде, сливаясь в один гармонический звук.
Внутреннее сознание, что есть в глубине души живое общее средоточие для всех отдельных сил разума, сокрытое от обыкновенного состояния духа человеческого, но достижимое для ищущего и одно достойное постигать высшую истину, – такое сознание постоянно возвышает самый образ мышления человека…» Для веры «развитие разума естественного служит только ступенями, и, превышая обыкновенное состояние ума, она тем самым вразумляет его, что он отклонился от своей первоначальной цельности, и этим вразумлением побуждает к возвращению на степень высшей деятельности» [3, се. 318–319].
Именно этим объясняет он неудачу Шеллинга. Выше мы уже упоминали об этом, теперь остановимся более подробно. Мыслителей разделяет прежде всего различие антропологических позиций: если Шеллинг так и остался чистым мыслителем, то Киреевский перешел на позицию практика, не порывающего, тем не менее, своей связи с философией и открывающего в ней, благодаря своей духовной жизни, новые горизонты.
«Убедившись в ограниченности самомышления и в необходимости Божественного откровения, хранящегося в предании, и вместе с тем в необходимости живой веры как высшей разумности и существенной стихии познавания, Шеллинг не обратился к христианству, но перешел к нему естественно, вследствие глубокого и правильного развития своего разумного самосознания, ибо в глубине человеческого разума, в самой природе его заложена возможность сознания его коренных отношений к Богу» [3, с. 329–330].
Но это не означало еще преодоления трансценденталистских установок, так как оставался непройденным путь от возможности к действительности, от сферы чистого мышления к сфере духовной практики.
«Привыкнув к мышлению отвлеченно логическому… Шеллинг не обратил внимания на тот особенный образ внутренней деятельности разума, который составляет необходимую принадлежность верующего мышления» [3, с. 331].
Именно в связи с этим у Киреевского возникает в этой статье понятие «личности»: «Хотя разум один и естество его одно, но образы действия его различны, так же как и выводы, смотря по тому, на какой степени он находится и какая мысль лежит в его начале, и какая сила им движет и действует. Ибо эта движущая и оживляющая сила происходит не от мысли, предстоящей разуму, но из самого внутреннего состояния разума исходит она к мысли, в которой находит свое успокоение и чрез которую уже сообщается другим разумным личностям» [3, с. 331].
Здесь мысль об антропологических основаниях того или иного способа философствования достигает уже большой степени обобщения. Схема отношений мысли и мыслящего здесь противоположна той, что мы видели в ранних статьях Киреевского. Если там человек выступал как выразитель мысли, здесь мысль – средство выражения силы, исходящей «из внутреннего состояния разума», разума «разумной личности». Личность обладает здесь действующей силой, энергией, служащей общению с другими личностями посредством мысли и слова и осуществляющей контакт с миром.
Однако в целом это понятие остается недостаточно проясненным. Как соотносится личность с «цельностью», «верой» и другими важнейшими понятиями, остается неясным, хотя мысль о «коренных отношениях к Богу» уже появляется. Все это проясняется только в «Отрывках», к осмыслению и интерпретации которых мы вскоре и обратимся.
§ 2. Программа религиозной философии И.В. Киреевского
При чтении «Отрывков» Киреевского, прежде всего, бросается в глаза их язык. Этот язык не очень характерен для традиционного философского изложения. Помимо отрывочности, которая происходит, кажется, не только от того, что автор просто не успел дописать целостный текст, обращает на себя внимание и довольно своеобразное обхождение автора с терминологией. Возникает вопрос: а вправе ли мы вообще относить этот тип мышления к области философии и ее истории? Конечно, указание на Паскаля, с которым часто сравнивают Киреевского (например Н.С. Арсеньев) [17, с. 238] и который прочно вошел во все «Истории философии», в данном случае более чем уместно[73]73
См. так же: Тарасов Б.Н. «Мыслящий тростник». Жизнь и творчество Паскаля в восприятии русских философов и писателей. М., 2004. С. 325–344.
[Закрыть]. Но одного этого указания недостаточно. Необходимо принципиальное решение вопроса.
Как мыслитель Киреевский вновь и вновь ставит вопрос не о соотношении личностного самосознания человека с его Богосознанием (вопрос, характерный для идеалистической философии религии, Гегеля и Шеллинга), а вопрос об отношении человека и Бога. Носит ли его мысль при этом достаточно отчетливый философский характер?
Вполне обоснованное сомнение стремительно разрастается и принимает форму гораздо более общую: возможно ли вообще религиозное философствование? Речь идет, конечно, не о философии, просто имеющей в виду религиозную проблематику или апеллирующей к Богу как к некоему предельному обоснованию, но о философии, осуществляющейся в пространстве, которое, по мнению многих, ей не свойственно – в пространстве верующего мышления. Имеет ли она смысл и право на существование? Не есть ли это простое противоречие в терминах, скрывающее за собой некую интеллектуальную и духовную пустоту? Подобные вопросы возникают как со стороны религии, так и со стороны философии, и в обоих случаях ответ весьма не редко оказывается отрицательным.
Не есть ли религиозная философия просто завуалированное богословие, специально наряженное и укрытое в некую засаду с целью уловления душ мыслящих людей? Церковная ловушка для интеллигентов, да к тому же еще и философски нечестная, поскольку она с необходимостью должна принимать на веру догматические религиозные предпосылки? – Такими вопросами задаются философы.
Не есть ли религиозная философия просто благовидный предлог для догматического вольнодумства, скрытая засада интеллигентов, устроенная ими в церковной ограде для уловления неосмотрительных душ? – Такими вопросами задаются верующие люди.
Действительно ли, однако, это сомнение столь уж всеохватно? Не можем ли мы обнаружить его исторический источник и тем самым указать на границы его правомочности?
Истоки этого представления о непереходимой грани, разделяющей философию и богословие, уходят в интеллектуальные дискуссии арабских и западноевропейских мыслителей XII–XIII веков. Оно кристаллизуется и обретает статус чего-то само собой разумеющегося у Фомы Аквината, который, проводя различение философии и богословия, разделил «естественный свет разума» (философию) и богословие, понятое как откровенное знание о том, что превосходит человеческий разум. Это разделение, наряду с обособлением сферы «естественного права» как некоего самостоятельного «третьего града», дает толчок процессу секуляризации, разделению христианства и культуры [74, с. 10–11]. В результате философия оказывается обращена к сфере «естественного», «мирского», которая все более и более стремится к самообоснованию. В начале Нового Времени возникает и определяет всю дальнейшую философскую мысль замысел универсальной науки, принципиально исключающей все сверхъестественное как непознаваемое. Она или противопоставляет себя богословию, или просто игнорирует его, или рассматривает как символическое выражение все того же естественного порядка вещей. Такое понимание положения дел в той или иной мере задело и православное богословие.
Рассмотрим для примера статью Вл. Лосского «Вера и богословие». В самом ее начале Лосский вводит различение «безмолвного ведения как подлинного богословия» и «богословия как научения, которое может и должно выражаться в слове» [119, с. 149]. Он стремится различить богословие как мудрость – σοφία или φρίηησις – от этого ведения – γνωσις – и от «обычной επιστήμη», – науки и рассуждения, т. е. философии. Ведение, как «таинство будущего века», самодостаточно, богословие же (по идее своей) питается им, пытается его выразить и указывает на него. Это новое, отличное от επιστήμη употребление слова и мысли. Оно рождается из онтологической причастности к присутствию Того, Кто нам открывается, т. е. из веры. К сущности богословия принадлежит, таким образом, то, что оно есть верующее мышление, причем вера здесь не просто определяет круг предпосылок, понятий и образов, с которыми это мышление имеет дело, но «оживотворяет разум», т. е. существенно определяет всю его деятельность, так сказать, сливается с нею в единое целое.
Аналогия с западным образом мысли состоит здесь в том, что философия и наука оказываются выброшены за пределы верующего мышления в область επιστήμη к сущности которого принадлежит, соответственно, то, что оно есть мышление неверующее, в крайнем случае, только взыскующее той встречи, того отношения, которое для богословия есть исходное и определяющее.
Возможна ли в таких условиях стратегия, спасающая замысел религиозной философии? Прежде всего, она, на мой взгляд, необходима, поскольку представляет собой единственный возможный способ преодоления секуляризационных процессов. Из сказанного ясно, что ее основной чертой должно быть осознание верующего мышления не только как своего предмета, но и как своей основы и истока, как своей сущностной характеристики: она должна быть не только стратегией построения философской теории, но и сознательной стратегией религиозной жизни христианского мыслителя. Одной из возможных стратегий такого рода, хотя и не реализованной в полноте, но, тем не менее, вполне ясно намеченной, представляется та идея православной философии, которую мы находим у Киреевского.
Его принципиальная позиция и подход достаточно ясно отличаются от таковых у богослова-мистика или аскета, богослова теоретика, ученого-религиоведа. Последнее достаточно очевидно. Коллекционированием и объяснением фактов религиозной жизни он не занимается. Даже когда он описывает конкретные религиозные переживания и состояния сознания (хотя у него мало собственно «религиозной» конкретики), он не пытается их систематизировать и оценить, не ищет подходящих социальных или психологических объяснений. Его задача – описать и понять смысл. Мы имеем дело с рефлексией, направленной на самого себя, с интеллектуальным созерцанием жизни собственного сознания и подлежащих ему структур. То, что он описывает, – это структуры именно этого сознания и способы бытия-в-мире именно этого существа, которые, благодаря философскому характеру данной рефлексии, предстают в этом описании, в то же время, как общезначимые.
От позиции богослова-практика, мистика или аскета, его мысль отличается степенью ее теоретичности. Он не просто оперирует понятиями, он пытается их прояснить или, по крайней мере, установить поле их применимости. Хотя православная аскетика и мистика была основой его мысли, хотя то, что он говорит, часто напоминает то, что говорили мистики и аскеты – его предшественники и современники (например, свв. Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник и др.), – он говорит это как философ. Для них главное – духовный смысл и результативность, для него – прояснение смысловых связей и отношений. Конечно, Киреевский с глубоким уважением относился и к практике «умного делания» и «Иисусовой молитвы», к образу жизни подвижников и созерцателей, более того, он явно пытался реализовать элементы этой практики в своей собственной жизни, но помимо этого он был озабочен также и смысловым, философским прочтением их результатов.
Текст Киреевского отличается от аскетического текста тем, что он не предназначен для того, чтобы его использовать как руководство к действию: он только показывает, что может означать это действие как определенная форма человеческого существования. Если аскетическое руководство основано на опыте и ориентировано на частное, единичное, на конкретную ситуацию, возникающую в ходе духовной брани, то текст Киреевского стремится найти в этом частном смысловые и ценностные аспекты, которые могут быть общезначимыми, раскрывающими сущностные стороны человеческой природы.
Остается еще позиция богослова-теоретика. Чем занят он, обсуждая соответствующие темы? Прежде всего, анализом соответствующих текстов Св. Писания и Св. Отцов и учителей Церкви, их последователей и исследователей. Он пытается, в соотнесении со своим личным духовным опытом, выявить у них подлинное учение Церкви и сообщить его «внешним», миру (апологетика), и «внутренним», народу Божию (проповедь, катехизация). В отличие от него, философ анализирует и выстраивает прежде всего свое собственное сознание, «собственный строй мысли» (В.В. Бибихин). Если его построение интересно другим – значит, ему повезло. В конечном итоге, он приходит к пределу человеческого знания, ко все более четкому выявлению границы постижимого и непостижимого, описуемого и неописуемого. Он движется к предельному основанию и в этом движении готов пересмотреть любую концепцию или устоявшееся представление. Собственно, именно в ходе этого пересмотра он и проявляет свою особую философскую установку сознания, отличающуюся и от обыденной, и от научной, и от богословской. Его первая точка отсчета – непосредственные данные сознания, которые надо увидеть, проанализировать и как-то упорядочить, что возможно тем менее, чем более высокий и тонкий уровень сознания подлежит рассмотрению.
Другая точка отсчета мыслителя (в данном случае Киреевского), позволяющая определить его позицию и подход как «философские», – это та философская традиция, с которой он соотносил себя, которую критиковал, на которую ссылался. Эта традиция, определенным образом понимавшая себя в контексте эпохи, тем самым давала и нашему автору некоторое определенное самопонимание. Это традиция западноевропейской и зарождавшейся русской философии, в соотнеснии с которой мы можем называть Киреевского философом, так же, как в соотнесении с традицией русской литературы, к которой он тоже принадлежал, мы можем называть его литератором. После его обращения и те и другие отношения изменились, но не были прерваны, более того, автор и не стремился их прервать и вполне сохранил свой статус философа и литератора, хотя в его собственном понимании и бытии статус этих деятельностей изменился.
Само обращение Киреевского имело и философскую мотивацию. Это было связано с тем, что он оценивал ситуацию в современной ему западной культуре (статья «О характере просвещения…») и в философии (статья «О… философии»), стержне этой рационалистической культуры, как тупиковую. Стремясь устранить ряд внутренних противоречий, свойственных их самопониманию, он сознательно стремился это самопонимание изменить. Представлялось необходимым ввести в традицию «новые начала», изменить систему ее отсылок и референций, введя новый ряд имен (Св. Отцы), и далее, сообщить ей новое «место в жизни» между «верой» – духовным опытом личности и Церкви, с одной стороны, и «просвещением» – целостной системой культуры данного времени – с другой [3, с. 321].
Для того чтобы прояснить эти моменты, вновь сопоставим мысль Киреевского с мыслью видного русского богослова XX века В. Н. Лосского. Несмотря на столетие, разделяющее этих мыслителей, такое сопоставление будет и показательным, и корректным. Корректным – в силу того, что их исходные идеи, жизненные установки и позиции в общем процессе истории мысли обнаруживают значительную близость – оба суть православные мыслители, стремящиеся к актуализации святоотеческого наследия в духовной ситуации современности, при возможно большей строгости в следовании догматической, канонической и интеллектуальной традиции Церкви. Показательным – поскольку именно эта близость оттеняет специфику их мысли: философскую у одного, богословскую – у другого.
Обратимся вновь к упоминавшейся уже статье Лосского «Вера и богословие»: «Вера, как онтологическая причастность, включенная в личную встречу, есть первое условие богословского знания» [119, с. 153].
Мы увидим, что понимание веры как личного общения, как отношения личностей, составляет краеугольный камень мысли Киреевского (хотя он предпочитает говорить о «сознании об отношении» – почему, скажем ниже). «Здесь нужна внутренняя перестройка наших познавательных способностей, обусловленная присутствием в нас Духа Святого» [119, с. 153].
Для Киреевского также несомненна связь веры с такой перестройкой не только познавательных способностей, но и всего человеческого существа. Больше того, оба мыслителя, жившие духовной жизнью в Православной Церкви, пытались на деле осуществить то, о чем писали.
Однако, производя далее размежевание богословия и философии, Лосский дает, с моей точки зрения, чрезмерно суженное и обедненное представление о последней. Философия предстает у него как только теоретический философский дискурс, лишь внешним образом связанный с тем образом жизни, который практикует данный мыслитель. Это приводит к тому, что в области веры философия фактически лишается каких бы то ни было прав, кроме одного – задать вопрос[74]74
Исток такого, явно суженного, представления Лосского о философии можно видеть в его стремлении отмежеваться от предыдущего поколения русских мыслителей (свящ. П. Флоренский, свящ. С. Булгаков, Н.А. Бердяев, С.Л. Франк и др.) определявших себя именно как религиозных философов. Характерно, что Киреевский вообще соотносит философию не с богословием, как наукой, а с верой, как целостным религиозным опытом.
[Закрыть]: «Если вершина философии есть вопрос, то богословие должно ответить на него свидетельством о том, что трансцендентное открылось в имманентном воплощении» [119, с. 157].
Несколько страниц он посвящает обнаружению несостоятельности философии в вопросах богопознания и сопоставлению богословского и философского способа мыслить и говорить. Философы не могли подняться выше той или иной идеи Бога, интеллектуальной конструкции, которая в лучшем случае может претендовать на статус некоторого интуитивного отблеска Его подлинной сущности. Лосский говорит: «Богословие исходит из факта – из откровения. Философия же, рассуждающая о Боге, исходит не из факта, а из идеи. Для богослова исходная точка – Христос, и Он же – завершение. Философ поднимается к некоей идее, исходя из другой идеи или же из группы фактов, обобщенных идеей. Для некоторых философов богоискание есть внутренняя необходимость мышления: для того, чтобы их мировоззрение было последовательным, им нужно, чтобы существовал Бог» [119, с. 154].
Философ, исходящий из идеи, может только «построить идею Бога», но не познать Его Самого, как личность. Если он, тем не менее, выступает с претензией на богопознание – дело богослова указать ему его место, что и осуществляет Лосский со свойственной ему последовательностью. Но не говорит ли Киреевский то же самое, и даже в более резкой форме?
«Весьма во многих системах рациональной философии видим мы, что догматы о единстве Божества, о Его всемогуществе, о Его премудрости, о Его духовности и вездесущии, даже о Его троичности, – возможны и доступны уму неверующему Он может даже допустить и объяснить все чудеса, принимаемые верою, подводя их под какую-нибудь общую формулу Но все это не имеет религиозного значения только потому, что рациональному мышлению невместимо сознание о живой личности Божества и о Ее живых отношениях к личности человека» [2(1), с. 274].
То есть философия как дискурс может освоить не только отдельные идеи, но и практически все содержание церковного учения, и все же не иметь религиозного значения, оставаясь на уровне идеи. Однако для Киреевского философия отнюдь не сводится к идеализму, какие бы формы он ни принимал. Круг развития западно-европейской философии исчерпан в философии тождества Шеллинга и Гегеля (см. статью «О… философии»). Попытка Шеллинга прорвать этот круг была направлена одновременно в двух направлениях: назад, в смысле критики предшествующего рационализма; вперед, в смысле попытки создания положительной философии на основании анализа Священного Писания (философия откровения) и «действительного богосознания всего человечества, во сколько оно сохраняло предание первобытного откровения человечеству… в мифологии древних народов» [3, с. 330] (философия мифологии).
Киреевский приветствует этот замысел, но констатирует неудачу его исполнения и отмечает три причины этой неудачи: неопределенность предварительного убеждения, произвольность толкования источников и, главное, то, что «Шеллинг не обратил внимания на тот особенный образ внутренней деятельности разума, который составляет необходимую принадлежность верующего мышления» [3, се. 330–331].
Именно этот третий пункт и явился для него указанием на иной путь философской рефлексии, тот, который не покрывается определениями Лосского.
Его путь – это изучение внутренней логики верующего мышления, исходящее из непосредственных данных сознания и общецерковного опыта.
«И во всяком случае, способ мышления разума верующего будет отличен от разума, ищущего убеждения или опирающегося на убеждение отвлеченное. Особенность эту, кроме твердости коренной истины, будут составлять те данные, которые разум получит от святых мыслителей, просвещенных высшим зрением, и то стремление к внутренней цельности, которое не позволяет уму принять истину мертвую за живую, и наконец та крайняя совестливость, с которою искренняя вера отличает истину вечную и Божественную от той, которая может быть мнением человека или народа» [2(1), с. 273].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































