Текст книги "Философия И. В. Киреевского. Антропологический аспект"
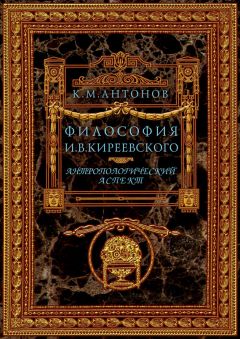
Автор книги: Константин Антонов
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
В этом он близок так же и Чаадаеву. Но для обоих русских мыслителей характерно обостренное понимание первородного греха и его последствий, в том числе и для мыслительной жизни человека. Они начинают в России ту «критику чистого разума», которую продолжат затем Достоевский и Лев Шестов. Упомянутый «эмпиризм» ведет здесь к тому, что в последних статьях и отрывках Киреевский «похоже, предлагает вообще покинуть мир позднеидеалистической философии разума ради духовно-экзистенциальной практики» [142, с. 129]. Это, впрочем, не означает отказа от философствования или от теоретизирования вообще. Здесь, скорее, практика открывает новые возможности, «начала» для философии, новые измерения самой разумности. В рамках чистого теоретизирования Шеллинг продвинулся так далеко, как только возможно. Но, пишет Киреевский, его «христианская философия явилась и не христианскою и не философиею: от христианства она отличалась самыми главными догматами, от философии – самим способом познавания» [3, с. 331].
Как резюмирует мысль Киреевского Мюллер, «Шеллинг потерпел неудачу потому, что не заметил того сдвига внутри самого разума, который должен совершиться, когда разум восходит от чисто логического познания к познанию верующему» [142, с. 127].
Причина размежевания Киреевского с Шеллингом, таким образом, не только гносеологическая, но и антропологическая. Шеллинг потерпел неудачу не только в силу своего неправославия и, конечно, не в силу недостаточной критичности, но потому что, пытаясь изменить свое мышление, его методологию и предпосылки, он не пытался изменить его качество, сохранив привычку к «мышлению отвлеченно-логическому» [3, с. 331]. Это последнее изменение, которое и создает предпосылки для удовлетворительного решения религиозно-философских проблем, но которое ценно, конечно, не этим, а само по себе, возможно только в результате практики, меняющей само положение человека в бытии – шаг, на который Шеллинг так и не решился, до конца оставшись «чистым мыслителем».
3. Учение о личности в немецкой мысли конца XVIII – начала XIX в. и в патристике
Теперь, поскольку в центре мышления позднего Киреевского стоит именно учение о личности, поскольку это понятие играет важную роль в русском философском процессе середины XIX века вообще, возникает необходимость, в целях уяснения положения Киреевского в этом процессе, обратиться к сравнительной характеристике учений о личности в немецкой философии и романтизме, с одной стороны, и в патристике – с другой.
Антропология романтизма тесно связана с разработанным Фр. Шлегелем понятием иронии. «Иронический субъект – это в высшей степени рефлектирующий субъект», – пишет Р.М. Габитова [43, с. 85]. Как же работает механизм иронической рефлексии? Пусть в процессе творчества и самопознания субъект некоторым образом определяет себя в некотором произведении. Ироническое отношение возникает здесь в том случае, если данное определение, первоначально высказанное с полной серьезностью, объективируется затем с помощью остроумия или парадокса. Тем самым субъект делает «самого себя предметом, объектом своего мышления» [43, с. 85]. Это достигается обнаружением определения, противоположного первому (антитезиса), и столкновению тезиса с антитезисом в парадоксе, в результате чего оба подвергаются объективации, причем процесс может происходить циклически, повторяясь несколько раз с возрастающей степенью напряжения. Как пишет Фр. Шлегель, «идея – это понятие, доведенное до иронии в своей завершенности, абсолютный синтез абсолютных антитез, постоянно воспроизводящая себя смена двух борющихся мыслей» [207(1), с. 296].
В результате обнаруживается, что «я» мыслителя стоит вне и над этими антитезами, оно глубже их и готово бесконечно продуцировать новое содержание.
«Субъект… умеет снова разрушить все те определения относительно права и добра, которые он сам для себя устанавливает… Ирония сознает свое господство над всяким содержанием» [49, с. 536–537], – писал Гегель, критикуя иронического субъекта, констатируя его неудачу в попытке достигнуть и обосновать объективное знание и не учитывая его очевидных достижений на этом пути. Гегель и следующие за ним современные исследователи не учитывают при этом изначальной установки романтиков на синтез субъективного и объективного, конечного и бесконечного. Ирония определяется ими «как способ художественного выражения трансцендентализма, т. е. обнаружения бесконечного превосходства субъективности над созданным ею объектом» [46, с. 58].
Думается, что в данном случае П.П. Гайденко несколько ослабляет романтическую позицию, сводя ее к эстетизму, отказывая романтикам в этической мотивации, противопоставляя этот эстетизм экзистенциальной иронии Кьеркегора. Более точную позицию занимает в этом вопросе Жирмунский, который писал о «Люцинде» Шлегеля: «Чувство бесконечного, проявляющееся в любви, открывает святость и значительность всего конечного (т. е. того, что прежде иронически разрушалось. – К.А.). Отдельный человек, пройдя через самые индивидуалистические пути, возвращается к мировой правде, к историческому пути человечества» [68, с. 90].
Иными словами, он восстанавливает все разрушенные конечные определения тогда, когда в своем личном духовном опыте усматривает в них, как и в себе, проявления бесконечного. Этот мистический момент романтической позиции компенсирует иронию, эстетизм. В своем стремлении проверить «на бесконечность», пережить в личном духовном опыте те духовные образования, на которых покоится современная цивилизация, романтики без сомнения были движимы этической мотивацией, «волей к истине», стремлением к правде. В этом отношении они скорее могут быть сближены с Кьеркегором, хотя последний, конечно, гораздо более радикален. Действительная ограниченность их позиции заключается в самом характере их мистицизма – субъективном и психологическом, «душевном», стремящемся к самообожествлению, некритически принимающем данные и предпосылки весьма смешанной по своему составу западно-европейской мистической традиции. Если Кьеркегор, по его собственному определению, стремился «мыслить в тех же категориях, в которых жил» (и здесь, так же, как и в критике Гегеля, могут быть обнаружены интересные пересечения его и Киреевского, и славянофилов вообще), то про романтиков можно сказать обратное: они жили в тех же категориях, в которых мыслили.
В силу этого риск срыва в новый иронический цикл остается не преодоленным романтиками. Мистические узы любви, дружбы и пр. связывают реально узкие кружки единомышленников, ставящих себя в социуме в особое положение. По отношению к остальным ироническое отношение сохраняет свою силу. Главное для романтической личности – обнаружение собственной бесконечности и поиск бесконечного в мире. А.Ф. Лосев определял романтизм «как уход одинокой и страждущей личности в бесконечные и недостижимые дали», сближая его с раннехристианским гностицизмом, и усматривая в нем возможность сатанинского «абсолютного самоутверждения» [116, с. 288, 304]. Самоутверждаясь, ироническая субъективность полагает, что она восходит по тем ступеням, которые Фихте описал в своей Ich-Philosophie: она поднимается от эмпирического «я» через «не-я» к трансцендентальному «Я». В этом определении личности мы движемся неким подобием апофатического пути: «подлинное Я постоянно ускользает внутрь, за пределы своей объективности и не растворяется в последней» [110, с. 17].
Однако этот апофатизм, оставаясь в рамках субъект-объектных отношений, мысля личность в терминах самосознания, приводит к бессодержательности, подменяет, по выражению Гегеля, «конкретный покой» «отрицательным» [49, с. 536] и приходит к отчаянию: «Отчаяние в мышлении в истине, и в себе и для себя сущей субъективности, равно как и неспособность сделать себя твердой и самодеятельной привели благородную душу к тому, чтобы положиться на свое чувство и искать в религии чего-то твердого, прочного» [49, с. 537].
Романтическая религиозность предстает здесь, таким образом, как срыв правильного развития самосознания, и, вместе с тем, как религиозность традиционалистского типа[41]41
Под традиционализмом здесь и далее будет пониматься, главным образом, определенный тип религиозной жизни, для которого традиционализм как течение (точнее, совокупность течений) мысли служит лишь более или менее адекватным выражением. Традиционализм в этом смысле возникает post factum секуляризации, как ее детище и попытка ее преодоления через отыскание сакральных оснований человеческого существования. При этом поиск ведется не с точки зрения истинности или ценности содержания религиозного опыта или вероучения данной традиции, а с точки зрения ее удовлетворения формальным критериям «традиционности», обладания ею формой сакрального предания. Именно сама данная форма должна обеспечить прочность и постоянство указанных оснований. В Новое время на этой основе возникло большое многообразие направлений мысли, порой весьма сильно отличающихся друг от друга. Назовем только Ж. Де Местра, Баадера, П.Я. Чаадаева. В XX в. наиболее известным, безусловно, является направление, связанное с именем Р. Генона.
[Закрыть] (ищется «прочное» в бытии, а не отношение к живому, личностному Божеству). Она возникает либо как результат отчаяния (в случае честного признания своей ничтожности) – католицизм Шлегеля; либо как средство самовозвеличивания (в случае сокрытия таковой) – «религия сердца» Шлейермахера [49, с. 537].
Из писем Киреевского мы знаем, что, будучи за границей, он слушал лекции Гегеля по истории философии, посвященные «новейшим философам» [3, с. 346], и, следовательно, знал это истолкование романтизма, предъявлявшее к его собственной духовной жизни чрезвычайно высокие требования. Этот момент отразился даже в его последней статье, где переход «от философии к вере» обладает общезначимостью только в том случае, если совершается «вследствие правильного развития сознания»; он в значительной мере теряет свое значение, если совершается в результате срыва, «личной особенности и посторонних влияний» [3, с. 328]. Здесь опять может быть усмотрена параллель с Кьеркегором, своей «экзистенциальной диалектикой» пытавшимся указать сознанию этот путь «правильного развития».
«Иронический субъект, признавая ничтожным все объективное, пытается возвысить лишь собственную субъективность» [43, с. 94], – резюмирует Габитова гегелевскую критику романтизма (как мы видели, не вполне справедливую). Крайний субъективизм романтиков Гегель описывает как следствие их эгоцентризма. Сам он, однако, преодолевая субъективизм, не выходит за пределы трансцендентализма и, следовательно, эгоцентризма как жизненной установки, используя для самоутверждения мысль как наиболее адекватное средство, находящееся в распоряжении человека, средство, имеющее непосредственное отношение к самой его сущности. Как резюмирует гегелевскую позицию И.А. Ильин, «именно единичная душа несет в себе ту способность к сознанию и воле, которая необходима субстанции для того, чтобы стать духом. Самосознание есть функция индивидуальной „самости“, и только через нее, через ее мышление и познание субстанция может приобрести свой высший уровень: стать через акт совести субъектом, познавшим свою сущность, или, что то же, в качестве субъективного самосознания узреть в себе завершающий момент субстанциального бытия» [77, с. 388].
«Ироническая субъективность», романтическое «несчастное сознание» соответствует тогда тому уровню самосознания, когда «благородная душа», стремящаяся ко всеобщему, к соединению с субстанцией, боится при этом пожертвовать своим «эмпирическим эгоцентризмом», «перестать дорожить „формальной стороной“ своего „особенного“ существования» [77, с. 389; 43, с. 95, 98–99]. Это отношение субъективности и субстанциальности у Гегеля только внешне напоминает отношение «ипостаси» и «природы» у Св. Отцов: субъективность (личность) отождествляется здесь с сознанием, под субстанцией понимается, прежде всего, социальное (хотя не классовое, как у Маркса, а народное). «Как бытие „свободная субстанция“ обладает действительностью в качестве духа народа»[42]42
Цит. по [19, с. 64]
[Закрыть]. Человек, претендующий быть личностью в гегелевском смысле, т. е. индивидуальностью, действительно отождествившей в своем самосознании свою волю с волей субстанции, для которой «личный дух и народный дух суть едино», не может не «вести абсолютную жизнь в отечестве и ради народа» [77, с. 398, 397]. Здесь корень претензий русских гегельянцев, прежде всего, западников и следующих за ними писателей «натуральной школы», на исключительное знание народа и его нужд[43]43
И их претензий на абсолютное знание вообще. Мистическое истолкование Фихте и Гегеля ведет М.А. Бакунина к такому признанию: «Мое личное “я” обрело абсолют… моя жизнь в известном смысле отождествилась с абсолютной жизнью». Параллельно он говорит о необходимости «сродниться с русской действительностью». Цит. по [73(1.2), с. 51].
[Закрыть]. Здесь же корень аналогичных, хотя и умерявшихся церковностью, а потому, возможно, и более успешных стремлений К. Аксакова.
Это отношение субъективности и субстанциальности в скрытом виде, в качестве неэксплицируемой, но действенной предпосылки, присутствует практически во всех ранних работах Киреевского, начиная с «Нечто…» и кончая «Стихотворениями Языкова». При этом в качестве субъективности выступает здесь личность того или иного поэта, а в качестве субстанции – та или иная интерсубъективная общность, точнее ее «дух»: народ, например русский, его интеллектуальная элита, «литература», Европа, ее «образованность», наконец человечество как целое. Впрочем, здесь, скорее, сказывается влияние немецкого идеализма вообще, т. е. Шеллинга, Гегеля и их последователей и учеников, чем кого-либо из них конкретно (в «Девятнадцатом веке» Шеллингу уделяется примерно страница (что много для работы, стремящейся к всеохватности), в то время как Гегель лишь упоминается в числе «всех приверженцев системы тожества» [3, с. 86].
Подобное понимание субстанции как преходящей исторической общности, народа, легко вело к историцизму как форме релятивизма – за что упрекал Гегеля в начале XX века Э. Гуссерль [60, с. 6]. Этот историцизм и стал участью Киреевского в середине 30-х гг., приведя его, как мы увидим, к состоянию сердечного скептицизма. Впоследствии, уже после обращения, Киреевского отталкивал односторонний интеллектуализм Гегеля и одновременно привлекала строгость и последовательность его мысли.
Оспаривая чрезмерное «славянофильство» К. Аксакова, Киреевский в письме «К московским друзьям» отказывается видеть в «простонародности» «непосредственное воплощение самой истины». Здесь, как и в требовании прояснения разногласий «в понятии об отношениях народа и государственности» [3, с. 372], его критика направлена против рецидивов гегельянства у его друзей. Однако в том же письме он сам искусно оперирует диалектикой общего и особенного, активно используя гегелевский логический аппарат.
Несравненно более родственной Киреевскому должна была казаться антропологическая позиция Шеллинга. По его мнению, Шеллинг выполнил требование Гегеля: он «не обратился к христианству, но перешел к нему естественно, вследствие глубокого и правильного развития своего разумного самосознания» [3, с. 329].
В данном случае это значит, что диалектическое движение этого самосознания было непрерывным, что Откровение вошло в него с «естественной» необходимостью, не как логический вывод, разумеется, но как удовлетворение насущной потребности, как честный ответ на правильно поставленный вопрос. Честность ответа состоит в данном случае в том, что, будучи единственно точным, он не вытекает из вопроса как логический вывод, т. е. суть именно откровение, проясняющее человеческую реальность, но входящее в нее извне. Именно Шеллинг «сознал и выразил» «односторонность» и неудовлетворительность рационального мышления [3, с. 328]. Это проявилось в полной мере и в его антропологии.
В начале своего философского пути Шеллинг считал, что «личность возникает через единство сознания», но «сознание без объекта невозможно» [109, с. 82]. В «Письмах о догматизме и критицизме» субъективность и способность к рефлексии предстают как сущностные отличительные черты человека: «Его деятельность необходимо направляется на объекты, но столь же необходимо она направляется к себе самой. Тем отличается он от безжизненного, этим – от только живого существа» [201(1), с.74].
Здесь Шеллинг, отталкиваясь от позиции Фихте, движется в том же направлении, что и Гегель, а также Фр. Шлегель и другие романтики – от критицизма (Кант, Фихте) через догматизм (Спиноза) к абсолютному идеализму как синтезу этих направлений.
Этот замысел, являясь общей точкой отсчета, конкретизируется, однако, каждым по-своему (мы ограничиваемся здесь антропологией). У Гегеля человеческая субъективность выступает как только этап (хотя и необходимый) на пути становления самосознания Абсолютного Духа – Абсолютной субъективности, тождественной с Абсолютной объективностью, рациональной основой мира, Понятием[44]44
Идея, вызвавшая бурные протесты у Белинского в его знаменитом письме к Боткину.
[Закрыть]. По словам Ильина, «“То, что мы называем душою, есть Понятие”, творящее в теле свое освобождение; оно реализовалось в нем и побеждает его своею силою» [77, с. 272].
В отличие от Гегеля, Шеллинг пытается преодолеть эту позицию абсолютного идеализма, расширяя само представление о человеческой природе в направлении ее иррационализации. В «Философских исследованиях о сущности человеческой свободы» он пишет: «Поднятое из основы природы начало, которое отделяет человека от Бога, есть в нем самость; однако в единении с идеальным началом она становится духом. Самость как таковая есть дух, т. е. человек есть дух в качестве обладающего самостью, особенного (отделенного от Бога) существа – это объединение и составляет сущность личности» [201(2), с. 112–113].
Причем если романтики придавали основное значение чувству как основе эстетического, то Шеллинг, отдав должное этой позиции и обнаружив ее ограниченность, обращается к анализу воли и ее роли в процессе становления и самоопределения личности.
Таким образом, если у Гегеля человек укоренен в рациональной, идеальной стороне мира, с которой он связан через посредство субстанциального народного духа, то у Шеллинга, помимо «единения с идеальным началом», личность непосредственно связана с иррациональной основой мира (для Гегеля – только инобытием Абсолютной идеи). Здесь коренится его свобода, понимаемая как «самоопределение личной природы» [109, с. 130]. Эта личная природа практически отождествляется с волей, которая определяет человека ко злу (своеволие, т. е. «стремление в качестве частной воли быть тем, что оно есть лишь в тождестве с универсальной волей»); или к добру (если оно «действительно преобразовано в абсолютную волю») [201(2), с. 113].
Это акцентирование волевого начала существенно и приближает Шеллинга к патристическому пониманию человека. Принципиальные отличия, однако, связаны с пантеистическими тенденциями всех (в том числе и самых поздних) вариантов его философии, связанных с понятиями «мировой основы», «природы Бога» и пр. Выше мы видели, что Шеллинг так и не преодолел трансцендентализм в теории познания, который, несомненно, связан с пантеизмом в онтологии, поскольку определенным образом ограничивает духовный опыт человека и, соответственно, видение человеческой реальности.
Эти отличия не могли не сказаться и на трактовке воли. Воля, понимаемая как воля к самоопределению, одновременно проистекающая из сущности человека и вновь определяющая ее [109, с. 131], соотносится с природной волей патристики. Но Шеллинг приписывает ей и сам выбор, самоопределение между добром и злом, в то время как у преп. Максима Исповедника, например, она изначально блага, и грех есть результат действия другой способности, «воли суждения». Это различение остается вне поля зрения Шеллинга, благодаря чему свобода отождествляется с необходимостью (как и у Гегеля), а личность – с индивидуальной природой. Соответственно, отношение Бога и человека мыслится здесь не как личное отношение, но как отношение полагающего и полагаемого, стремления и предела. Пантеистический круг замыкается[45]45
Когда я писал это, я еще не был знаком с «Системой мировых эпох» и «Философией откровения» – мое знание позднего творчества Шеллинга ограничивалось «Исследованиями о сущности человеческой свободы…» и «Философией мифологии». Сейчас мне представляется необходимым признать, что в своей критике онтологического доказательства бытия Бога Шеллинг в значительной мере преодолевает пантеизм (и Киреевский без сомнения знал эту критику). Не случайно в своей последней статье русский мыслитель предметно критикует не онтологию Шеллинга, а, скорее, стиль его мышления, его дискурс, оставшийся прежним, несмотря на пережитое обращение.
[Закрыть].
Тем не менее сам факт того, что Шеллинг для объяснения зла и в общем понимании человека делает упор на воле, несомненно приближает его мысль к патристической. Именно к этим местам «Исследований о сущности человеческой свободы» может относиться замечание из «Истории обращения Ивана Васильевича» об обнаружении супругами Киреевскими параллелизма между Шеллингом и Св. Отцами, когда И.В. был вынужден признать, что у них есть «многое, чем он восхищался в Шеллинге» [2(1), с. 286].
Рассмотрим теперь учение Св. Отцов. М.А. Гарнцев очерчивает концептуальную парадигму святоотеческой, византийской антропологии следующим образом: «Связывая тождество человеческой личности не только с функциональным единством сознания или самосознания, но и, в особенности, с дорефлективным ипостасным единством, составляющим основу личности, византийские мыслители были уверены в том, что человеку, как психосоматической целостности, являющейся уникальным способом личностного существования, уготована совершенно особая роль в „космической литургии“» [47, с. 84].
Однако выдающийся патролог и богослов В.Н. Лосский признается, «что до сих пор не встречал в святоотеческом богословии того, что можно было бы назвать разработанным учением о личности человеческой» [118, с. 106]. Он полагает, что то преобразование понятия «ипостась», которое было произведено Отцами IV в. в отношении к Богу, не было произведено в отношении к человеку. Хотя св. Отцы (св. Григорий Нисский, прей. Иоанн Дамаскин, св. Григорий Палама) часто используют это слово, оно, похоже, означает для них просто «индивидуума разумной природы»[46]46
Больше того, слово «ипостась» может применятся ими и для обозначения единичных неодушевленных предметов, причем в одном ряду с «человеческими ипостасями». Преп. Иоанн Дамаскин в Философских главах говорит об ипостаси, как просто о «единичном», о том, что должно «существовать само по себе и созерцаться через ощущение или актуально» [79, с. 83–84].
[Закрыть]. Но это понимание личности (как индивидуальной природы) не может, показывает Лосский, удержаться в контексте христианского догмата (особенно Халкидонского вероопределения), и есть основания полагать, что Отцы понимали это. Об этом говорит, в частности, тот факт, что постхалкидонское догматическое развитие сопровождалось соответствующей разработкой антропологической проблематики. Я имею в виду, прежде всего, произведенное прей. Максимом Исповедником различение природной и ипостасной воли. Именно в этом случае понятие «ипостась» более или менее приближается к современному пониманию личности.
Отсюда необходимость поиска «такого понятия, которое уже не может быть тождественным понятию «индивидуум» и, тем не менее, не зафиксировано каким-либо термином, как само собой разумеющееся, но в большинстве случаев служит невыраженным обоснованием сокрытым во всех богословских и аскетических вероучениях, относящихся к человеку» [118, с. 110–111].
В конце концов, Лосский определяет личность как «несводимость» человека к его природе. Соотношение личности и природы выглядит у него следующим образом: «… не может быть здесь речи о чем-то отличном, об “иной природе”, но только о ком-то, кто отличен от собственной своей природы, о ком-то, кто, содержа в себе свою природу, природу превосходит, кто этим превосходством дает существование ей, как природе человеческой, и, тем не менее, не существует сам по себе, вне своей природы, которую он “воипостазирует” и над которой непрестанно восходит…» [118, с. 114].
Этот кто-то (кого, может быть, правильнее было бы называть не ипостасью, а субъектом, или, еще точнее, автором тех или иных актов, действий, поступков) и есть тот, кто принимает окончательное решение, осуществляет свободный выбор (θέλημα γνωμικόν), как пишет прей. Иоанн Дамаскин в «Точном изложении православной веры» [79, се. 220, 256]. При этом он свободен реализовать свою природную волю (θέλημα φυσικόν), выражающуюся в хотении, и изначально благую, но в то же время «прежде всего в нас пострадавшую от греха» [79, с. 220, 256 (60–61, 97)] тем или иным (благим или дурным) образом.
«Свободный выбор есть предпочтение и избрание одной из двух предлежащих вещей в противовес другой». В этом и состоит ипостасное свойство каждого отдельного человека, «способ использования воли, зрения и действия, присущий одному только пользующемуся и… отличающий его от остальных» [79, се. 220, 256]. (Следует отметить, что во всех случаях, когда прей. Иоанн говорит о воле, он ссылается на прей. Максима Исповедника)[47]47
О. Иоанн Мейендорф, архим. Киприан Керн и о. Георгий Флоровский отмечают исключительно благой характер природной воли. См. [134, с. 306–307, 308–309; 85, с. 233–234, 189 с. 215–217].
[Закрыть].
С этой реализацией связано «воипостазирование» природы, о котором писал Лосский. Эта возможность «воипостазирования», превосхождения природы, т. е. свобода, связана с тем, что ипостась человека соотносится не только с его природой, но и с Личностью Божества.
Психосоматическое единство человеческой личности мыслится в патристике не как статичная данность, но как динамическая структура, обладающая изначальной интенциональностью. Это раскрывается в учении об «образе и подобии Божием в человеке». Большинство Отцов Церкви, прежде всего ев. Григорий Нисский, видели образ Божий в человеке в присущих ему разумности (т. е. причастности идеям Блага, Истины и Красоты) и свободе: «…образ в том и имеет подобие первообразу, чтобы быть исполненным всякого блага. Следовательно, в нас есть идея всяческой красоты, всякой добродетели и премудрости и всего, о чем известно, что оно относится к самому лучшему. Одному из всех человеку необходимо быть свободным и неподчиненным никакой естественной власти, но самому решать, как ему кажется» [58, с. 54].
Другая существенная черта человека, по мнению св. Григория, свидетельствующая о его «богосообразности» – непостижимость, «несозерцаемость» его ума. О царственности, начальственности человека, о его призванности к господству как существенном аспекте понятия «образа» говорит, наряду со св. Григорием, особенно св. Иоанн Златоуст. Идея образа распространяется отцами и на телесный облик и строение человека, приспособленные к тому, чтобы быть носителями указанных черт [58, с. 15–17, 21–22, 30–31].
Несколько сложнее обстоит дело со столь важной для романтизма и столь дорогой сердцу современного человека способностью к творчеству. Пожалуй, только св. Григорий Палама специально выделяет ее как особый аспект богосообразности человека (в чем можно усматривать стремление к адаптации идей надвигающегося Возрождения). Тем не менее, если понимать творчество в более широком смысле как способность к спонтанному, не имеющему достаточной внешней причины, изменению себя и окружающей среды, порождающую новые, прежде не бывшие, сущности, ситуации, положения дел, состояния души и т. п., – можно увидеть, что Св. Отцам было свойственно усмотрение чего-то подобного в качестве отличительной черты человека. Это видно и из приведенной цитаты св. Григория, и из следующих слов прей. Иоанна Дамаскина: «сам действующий и поступающий человек есть начало своих собственных действий и – свободен» [79, с. 226].
Как и св. Григорий, прей. Иоанн (цитирующий здесь Немезия Эмесского) связывает эту свободу человека с его разумностью [79, с. 227]. Эту же связь устанавливает и Киреевский, для которого «разумно-свободная личность» есть нечто единственно существенное в этом мире [5, с. 281].
В целом, совокупность указанных черт отвечает тому переживанию человеческой личности, которое мы находим и в современном сознании вообще, и (в виде более или менее строгой теории) в философском персонализме (одним из предшественников которого, по крайней мере для России, должен считаться Киреевский).
Неизвестно, насколько Киреевский был знаком с идеями св. Григория (русский перевод вышел только в 1861 г.), но он наверняка знал идеи близких ему Василия Великого, Иоанна Златоуста и зависящих от них более поздних писателей-аскетов. Известно, что Киреевский собирался писать «Историю древнего христианства до V или VI веков» [3, с. 425], следовательно, с богословской проблематикой этого времени он должен был быть знаком.
Указанная богосообразность человека создает условия для его движения к богоуподоблению. Вместе с тем, присущая человеку «способность решать», свобода выбора, создает возможность для его движения в обратном направлении, от «воипостазирования» к «пределу распада», «месту неподобия» (Лосский) [118, с. 128]. Выбор направления определяется (как и у Шеллинга) волей, но различение двух воль, природной и ипостасной (а также имманентно присущая всем этапам человеческого действия разумность, заставляющая вспомнить Гегеля), позволяет сохранять реальность свободы на всех этапах духовной жизни (как высших, так и низших), поскольку исключает возможность предопределенности последующих поступков человека предыдущими.
В святоотеческом понимании нет места и для пантеизма, свойственного немецкой мысли: человек, не произведенный или «полагаемый» Богом, но свободно сотворенный Им по Своему образу и подобию, предстает, как видно из слов преп. Иоанна, как некое начало, предельная точка мирового бытия.
В этом контексте подобия и неподобия личность и индивидуальность могут не только различаться, но и противопоставляться, как это делает, например, митр. Антоний (Блум) в статье «О самопознании». Здесь на одной стороне мы видим «эмпирически наблюдаемые индивидуумы», которые самоутверждаются путем «противоположения», «отрицания другого». На другой же находится ненаблюдаемая и неповторимая личность, которая возникает и живет «в Том, Кто ее знает, в Боге» через любовь, как отказ от самоутверждения и исключительности [14, с.120–121, 127].
Таким образом, отказ от личностного бытия-с-Богом преобразуется в некоторую форму эгоцентризма, индивидуального самоутверждения, извращающего основные черты образа Божия. Ложно использованная свобода превращается в исключительность и противостояние обществу и миру; ум обращается в дискурсивное знание, которое ищет выхода из ситуации сомнения и страха путем изыскания «способов» самосохранения [78, с. 121]; способность властвовать – в волю к подчинению всякого инобытия и приспособления к его формам, орудиями чего служат разум и творческая способность, создающие соответствующий образ культуры и соперничающие в борьбе за господство и над самой личностью человека, и в создаваемой им культуре (примером этого соперничества может служить развитая Гегелем критика романтизма). Из этого образа бытия естественно вырастает трансцендентализм как философия, утверждающая гносеологический и ценностный примат сознания (моего эмпирического сознания, которое, однако, стремится обрести всеобщность, свойственную сознанию мировому, трансцендентальному субъекту).
Напротив, личному бытию соответствует любовное единение в Боге с людьми и миром и постижение их в Боге и через Него. Как писал О. Клеман, «вслед за аскетическим деланием, обеспечивающем человеку внутреннюю свободу, т. е. возможность любви, начинается созерцание. Оно включает в себя два этапа: „познание сущего“, „созерцание природы“, т. е. созерцание „тайн Славы Божией, сокрытых в сущих“, и лишь затем непосредственно Богообщение» [87, с. 211].
Там же приводится высказывание пред. Максима Исповедника: «Подобно тому, как в центре круга есть единственная точка, где сходятся все радиусы, так и удостоившийся приближения к Богу познает в Нем прямым и внепонятийным познанием сущности всех тварных вещей» [87, с. 223].
Аналогичный образ употребляли Св. Отцы (Авва Дорофей, Псевдо-Дионисий) для обозначения единства людей, приближающихся к Богу – центру круга [65, с. 94–95]. Догматической предпосылкой такой антропологии служит христология, учение о том, что встреча Бога, мира и человека, в которой человек может обрести личностный образ бытия, происходит во Христе – Богочеловеке и Логосе мира [87, с. 217]. Если Киреевский не говорит об этом, то не потому, что Христу нет места в его системе (как думал Гершензон [52, с. 31]), а потому, возможно, что он вообще склонен выносить богословский контекст за рамки собственно философских рассуждений. Однако он постоянно говорит о «вере». Вера же, как личный духовный опыт, «врата таинств» (пред. Исаак Сирин), есть главное условие личного прикосновения человека к реальности Воплощения.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































