Текст книги "Философия И. В. Киреевского. Антропологический аспект"
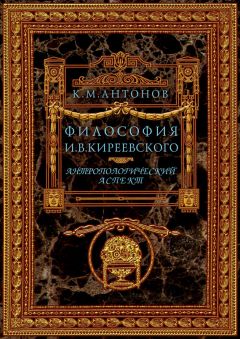
Автор книги: Константин Антонов
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
Предметом философии становится здесь человеческий опыт, осуществляющийся в горизонте веры, как определяющего факта сознания и бытия человека. Поэтому когда Киреевский говорит о вере как о сознании – это составляет первый уровень описания или, говоря современным языком, феноменологию верующего сознания. Это не есть трансцендентализм, в остатках которого упрекает славянофилов о. В. Зеньковский, но необходимая переходная ступень к онтологии веры, к которой эта феноменология отсылает и в которую она оказывается включенной.
Лосский, в качестве богослова, констатирует «перестройку познавательных способностей» – результат действия в человеке Духа Святого, – и это для него есть основополагающая предпосылка богословского дискурса, богословской позиции и подхода. Киреевский же пытается описать эту перестройку, исходя из собственного опыта и данных традиции, т. е. находится на принципиально ином уровне осмысления и обобщения этих данных.
Замысел Киреевского вырисовывается в связи с вышесказанным примерно так: построить феноменологию, онтологию и гносеологию верующего человека, т. е. создать некое учение о человеке в ситуации веры (антропологию) («сознать весь объем своей веры»), и продемонстрировать общезначимость этих построений в контексте философской традиции. Дальнейшая задача философии состоит в том, чтобы «сознать… все ее отношения к другим областям разума» [4, с. 283], занять посредствующее положение между верою и науками [3, с. 321].
Именно здесь возникают основания для выделения философии в особую сферу знания. Это связано в первую очередь со все более углубляющимся процессом секуляризации культуры, в особенности с господством научной рациональности и замыслом философии как наукоучения и все растущим комплексом социальных проблем. В этом смысле Киреевский говорит о месте философии: «Развитие философии условливается соединением двух противоположных концов человеческой мысли: того, где она сопрягается с высшими вопросами веры, и того, где она прикасается развитию наук и внешней образованности» [3, с. 321].
Особое значение получает философия тогда, когда вера народа и его внешняя образованность противонаправлены и враждебны друг другу В этом случае он видит два возможных исхода: «Или образованность вытеснит веру, или вера, преодолевая эту внешнюю образованность, из самого соприкосновения с нею произведет свою философию, которая даст другой смысл образованности внешней». Примером успешного решения этой задачи Киреевский считает первоначальную святоотеческую эпоху, когда «не только наука, но и самая философия языческая обратилась в орудие христианского просвещения и, как подчиненное начало, вошла в состав философии христианской» [3, с. 321–322].
Таким образом, отказываясь от претензий на философское богопознание, избегая нового построения идеи Бога и говоря о Нем ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы слово «вера» не стало бессмысленным (предваряя здесь требование Лосского об апофатизме православного мышления), Киреевский открывает новые возможности для христианского философствования. И в этом отношении Киреевский во многом предваряет философские обращения XX века – я имею в виду, прежде всего, М. Бубера, Г. Марселя и др. М. Бубер писал в «Затмении Бога»: «Ведь философ, чтобы осуществить это обращение на самом деле, должен был бы отказаться от того, чтобы привлекать Бога в какой бы то ни было понятийной форме в свою систему; вместо того, чтобы содержать Бога как некий предмет среди прочих, и именно высший среди них, его философия как целиком, так и в своих частях должна была бы на Бога указывать однако без того, чтобы трактовать Его Самого» [31, с. 369].
Аналогично и Г Марсель в «Метафизическом дневнике» отказывался «рассматривать Бога как структуру» [130, с. 28].
Отличие Киреевского от этой группы мыслителей состоит в том, что отказ от спекулятивного богословия и обращение к изучению человеческой реальности по преимуществу не означали для него пренебрежительного отношения к своей конфессиональной принадлежности.
В то же время мысль Киреевского отличается от магистрального направления последующей русской религиозной философии во главе с Вл. Соловьевым, которая, за редким исключением, не сумела избежать соблазна построения религиозной метафизики[75]75
Тем не менее, рассматривать и это направление русской мысли исключительно как «философский дискурс» представляется глубоко ошибочным упрощением. Русская философия может быть сопоставлена с античной в том отношении, что здесь, как и там глубокая связь «первичного экзистенциального предпочтения», образа жизни, видения мира и философского дискурса, призванного раскрыть и рационально обосновать эти моменты, особенно очевидна. См. об этом Адо 77. Что такое античная философия? [9, с. 17–19].
[Закрыть].
Таким образом, сделать вывод о том, что реализация этого замысла вывела Киреевского за рамки философской традиции, невозможно. Более того, сам факт этого замысла и опыт по его реализации, несомненно, принадлежат к области истории философии и суть факты этой истории, имеющие в ней немаловажное значение, выходящее за рамки русского философского процесса.
Такое положение Киреевского – философа, всерьез, т. е. «экзистенциально», в кьеркегоровском смысле этого слова, занятого религиозной проблематикой – во многом определяет его подход к слову и языку как к тем реальностям, с которыми он неизбежно сталкивался и сопротивление которых он преодолевал, пытаясь выражать свои мысли. Уже сам переход от трансцендентализма к онтологизму, о котором только что говорилось, предполагает весьма специфические языковые трудности, о которых мы еще будем говорить. Поэтому обвинения Киреевского – ученика Жуковского, друга и сотрудника Пушкина, Баратынского и Языкова – в дурном русском языке (со стороны Писарева, Дорна и др.) малоосновательны. Те же причины, то есть специфический характер той реальности, с которой он имел дело, не допускают нас искать у него строгой однозначности и определенности. Мы можем только попытаться найти и выразить то единство общего смысла, «невместимого внешним определением» [3, с. 331], которое он сам так или иначе не терял из виду и которое определяло для него все. Работа историка оказывается в таком случае неотделимой от работы философа-герменевта, преследующего цель «понимания себя и бытия» (П. Рикер).
В изучении философии Киреевского есть три пути, которых мы хотели бы избежать: выискивать у автора противоречия, как поступили Писарев, Соловьев, Дорн, Глисон и целый ряд советских исследователей; выбрав себе полюбившуюся формулу, выстроить на ней некое мыслительное здание, которое можно было бы с тем или иным успехом ему приписать; навязывать ему категориальные определения типа «теист – пантеист», «светский – церковный», «правый – левый» и т. п. Конечно, полностью избежать их невозможно, но необходимо помнить, что принять один из них в качестве руководства к действию – значит заранее обречь себя на непонимание того, что же собственно хотел сказать автор и что не подходит ни под какие условные категории.
Вместе с тем, Киреевский не дает нам повода считать какие-либо свои высказывания или определения не заслуживающими внимания. Скорее, их совокупность задает некоторый горизонт, в котором находит свое выражение мысль автора с присущим ей полем неопределенности, которое, в то же время, есть и пространство возможных интерпретаций. Этот горизонт мы попытаемся воспроизвести, проясняя, по мере сил, основные слова, с помощью которых выражена эта мысль, в их взаимной связи. Ко всем им вполне приложимо то, что говорилось Киреевским о слове вообще (а это значит, что он эту особенность своего языка вполне осознавал): «Слово, как прозрачное тело духа, должно соответствовать всем его движениям. Потому, оно беспрестанно должно менять свою краску, сообразно беспрестанно изменяющемуся сцеплению и разрешению мыслей. В его переливчатом смысле должно трепетать и отзываться каждое дыхание ума. Оно должно дышать свободою внутренней жизни. Потому слово, окостенелое в школьных формулах, не может выражать духа, как труп не выражает жизни. Однако ж, изменяясь в оттенках своих, оно не должно переиначиваться во внутреннем составе» [2(1), с. 273–274].
Это единство «внутреннего состава» и есть то, что мы попытаемся отыскать, и то, что остается единым в вариациях, которые задаются различными отрывками.
Многие из этих отрывков могут рассматриваться как самостоятельное начало гипотетической книги или статьи, как попытки всякий раз немного на новый манер выразить свою мысль. Все они намечают несколько различные перспективы рассмотрения одного и того же «средоточия бытия» мысли позднего Киреевского – что и оправдывает заботу об их согласовании как поиск этого средоточия.
Теперь, после всех этих предварительных замечаний, мы можем, наконец, перейти к «сути дела».
§ 3. Структура мысли И.В. Киреевского. Соотношение основных понятий
Рассмотрим ряд основных слов, прояснение которых может дать целостную картину философии И.В. Киреевского на последнем этапе ее становления. Из сказанного выше ясно, что эти слова могут быть названы понятиями лишь условно, речь не идет здесь о понятиях в логическом смысле.
Личность. Вера. Существенность. Верующее мышление. Отвлеченное мышление (рационализм). Внутренняя цельность мышления. Православно-христианская образованность.
Прояснение этих слов, поиск оснований мысли Киреевского, возможно, укажут нам ее центральное звено – мысль о человеке, то или иное самопонимание которого рождается из того или иного опыта проживания самого человека, который эту мысль мыслит.
«Существенность» – наиболее общее «понятие» в этом списке. Оно всегда, даже в ранний период творчества, имело большое служебное значение для Киреевского. И тогда и позже оно обозначало основной предмет его мысли, то, на что направлена его интенция, то, что в центре его внимания, то, что ближе всего к основаниям его философии. Вместе с тем, «существенность» – это разграничительное понятие, инструмент редукции, позволяющий найти то, что может послужить как первое основание. Она же – критерий этого основания. Именно существенное, а не просто самоочевидное и непосредственно-данное должно служить началом мысли. Это не означает, что существенное – не самоочевидно и не дано непосредственно, но это означает, что оно, кроме того, предполагает и нечто большее. Это предполагает две возможные интерпретации существенного – аксиологическую и онтологическую. Это начало должно обладать приоритетом либо в порядке значимости, либо в порядке бытия (либо и в том, и в другом). Свидетельствуя о собственном бытии и ценности, оно должно вместе с тем, обосновывать всякое иное бытие и иную ценность. Вот что говорит Киреевский: «Для одного отвлеченного мышления существенное вообще недоступно. Только существенность может прикасаться существенному» [2(1) с. 274].
Это означает, что существенность есть свой собственный критерий. Чтобы опереться на нее, надо самому стать существенным, изменить свой онтологический статус. Новая область мышления открывается только вместе с новой областью бытия. Киреевский продолжает: «Отвлеченное мышление имеет дело только с границами и отношениями понятий. Законы разума и вещества, которые составляют его содержание, сами по себе не имеют существенности, но являются только совокупностью отношений» [2(1) с. 274].
То есть они не есть сами по себе; они суть отношения между тем, что существенно. Вся работа, проделанная немецким идеализмом и французским просвещением, остается в этом кругу отвлеченности.
Итак, то, что может быть описано как совокупность отношений, не есть существенное. Но мысль, стремящаяся вырваться за пределы отвлеченного мышления (трансцендентализма), ищет только существенного, неотносительного, того, что «само по себе суть». Таким образом, существенное интерпретируется в онтологическом смысле. Это не значит, что аксиологическое измерение здесь не рассматривается. Но для того, чтобы быть значимым, надо быть.
Киреевский не рассматривает существенное как «субстанцию». «Субстанция», будучи термином отвлеченной мысли, описывает все же некую относительность. Субстанция – то, к чему относятся свойства и качества, немыслимое без них. Она отвечает на вопрос «что?» и потому не несет того характера исключительности, который предписан «существенности». С помощью понятия «субстанции» как causa sui отвлеченная мысль пытается схватить существенное и ввести его в свой мир[76]76
Киреевский, без сомнения, знал шеллинговскую критику онтологического доказательства в «Мировых эпохах»: суть ее состоит в указании на произошедшую в философии Нового времени подмену исторического и свободного отношения Бога как Господа бытия к миру и человеку отношением логическим, соответственно, необходимым, отношением бесконечной и конечных субстанций [202, с. 54–55].
[Закрыть].
Мы сказали, что «существенное» – инструмент редукции. Этой редукции подвергается все иное, если можно в данном случае так выразиться, «несущественное», т. е. то, что существует по отношению, «по причастию» к нему. После отыскания существенного оно должно быть конституировано на его основе, причем так, чтобы существенное не утратило при этом своего характера, не стало соотносительно отвлеченному Итак, что же существенно? Киреевский отвечает на этот вопрос в том же отрывке, совершая скачок и сразу называя его по имени: «Существенного в мире есть только разумно-свободная личность. Она одна имеет самобытное значение. Все остальное имеет значение только относительное» [2(1) с. 274].
Однако уже здесь, в самом начале, мысли вновь угрожает опасность впадения в отвлеченность. Можно попытаться мыслить личность на отвлеченный манер, взглянуть на нее с точки зрения рационализма (отвлеченного мышления). Это и означало бы ввести ее в рамки соотносительности: «Но для рационального мышления живая личность разлагается на отвлеченные законы саморазвития (шеллингианско-гегельянская диалектика. – К.А.) или является произведением посторонних начал (марксизм, психоанализ и подобное. – К.А.) и в обоих случаях теряет свой настоящий смысл» [2(1) с. 274] – смысл безусловного, можно сказать, абсолютного начала — изначального, призванного к владычеству элемента бытия и единственно возможного начала христианской мысли. Очевидно, что «личность» мыслится здесь так, как она мыслится в святоотеческой религиозно-философской традиции, в противопоставлении свободного начала произвольных актов, как существенного, природе (в том числе и индивидуальной природе), как относительному.
Киреевский определяет личность как «разумно-свободную». В этом он следует, как мы видели, Иоанну Дамаскину, Григорию Нисскому, Иоанну Златоусту и другим ев. Отцам. Но постулируемая Киреевским в этом отрывке трансрациональность личности, по-видимому, вступает в противоречие с этой попыткой определить ее. Не примешивается ли, таким образом, к апофатической онтологии личности нечто от природы?
Но предварительно зададимся вопросом, а в чем вообще смысл определения по отношению к такой структуре, как личность? Это не может быть указанием рода и вида, поскольку эта реальность, будучи внеприродной, стоит и вне всякой предметности. Если «сам человек есть начало своих действий» [79, с. 226], как говорит Дамаскин, то каждая личность изначальна, она предшествует предметному бытию и в этом отношении не принадлежит ни к какому роду предметного бытия. Следовательно, и вид «личностей» не может быть выделен ни из какого рода путем указания на соответствующий ему признак. Можно только сказать, что каждая личность обладает своим собственным уникальным признаком, exsistentia incommunicabilis (Дунс Скот), отличающим ее от всех прочих – специфическим образом бытия и действия. Указать на общий признак всех личностей невозможно. Каждая из них есть именно она сама, сообщающая эту самость всей подвластной ей природе.
Будучи началом, личность всегда присутствует при любой попытке ее определить. Более того, она сама, именно эта самая личность и предпринимает такую попытку, неизбежно при этом, в силу своей трансрациональности, теряя саму себя. Как это происходит, Киреевский только что указал: ее пытаются «разложить» «на отвлеченные законы саморазвития», или «произвести» из «посторонних начал». Только перейдя к той мыслительной операции, которую Г. Марсель называл «рефлексией второй ступени», к «движению возобновления, заключающемуся в осознании того, что есть фрагментарного и даже, в каком-то смысле, сомнительного, в чисто аналитическом подходе и в попытке восстановить на уровне мышления то конкретное, что перед тем мы видели в некотором роде раздробленным или распыленным» [132, с. 165], т. е. задавшись вопросом о том, кто же этот, дающий определение, – личность может попытаться вернуться к себе. Такое возвращение к себе часто так или иначе соотносится с теми или другими формами религиозного обращения – либо как его исходный момент, либо как попытка его осмысления. Различные варианты такого возвращения мы можем видеть в работах М. Хайдеггера, Г. Марселя, М. Бубера, П. Рикера, С.Л. Франка, Л.П. Карсавина, о. Георгия Флоровского и других мыслителей XX века[77]77
Суть не в том, употребляли ли они слово «личность», как философский термин, т. е. были ли они «персоналистами» в каком-либо смысле или нет, а в том, присутствует ли в их мысли соответствующая структура.
[Закрыть]. В работах этих и некоторых других мыслителей мы обнаруживаем ряд сходных мыслительных структур и ходов, аналогичных тем, которые мы находим у Киреевского. Однако опыт последнего свидетельствует о том, что успешность этого возвращения определяется в конечном итоге принадлежностью к Церкви и жизнью в ней.
На упомянутый вопрос личность не получает иного ответа, кроме «Я сам», и не находит в мире никакого источника этого ответа, кроме самого себя. В первом приближении можно сказать, что уровни этого «Я сам» могут быть различны, оно может обозначать как ту или иную степень индивидуализации природы, так и собственно личность.
Так восстанавливается непосредственное самосознание личности. Все опосредующие звенья – законы и начала, – которые было разрушили его, отпали, не добавив ничего к нашему знанию о ней. Это не значит, что они ничего не добавили к нашему знанию о природе человека. Только к ней и относятся все определения. Но поскольку природа человека всегда организована так или иначе личностным началом, – даже если самосознание этого начала отсутствует, – все определения, пытающиеся схватить «феномен человека», будут неизбежно содержать изъян, куда будет скрываться человеческая свобода.
Свобода и разум проявились здесь при становлении самосознания личности. Личностность человеческого бытия и означает в конечном итоге его свободу. Как писал Э Мунье, «свобода… – не бытие личности, но способ, посредством которого личность есть все то, что она есть» [140, с. 82].
Разум, способный к рефлексии и созерцанию, оказывается главным орудием ее самоконституирования. Разум и свобода выступают не как свойства или определения личности, но как те свойства человеческой природы, которые делают возможным для нее уникальный способ существования – личностный.
Для уточнения мысли Киреевского уместно вновь вспомнить его рассуждение о Декарте из статьи «О характере просвещения…»: «Он думал, что решительно сбросил с себя узы схоластики; однако, не чувствуя того сам, до того еще оставался запутан ими, что несмотря на все свое гениальное разумение формальных законов разума, был так странно слеп к живым истинам, что свое внутреннее, непосредственное сознание о собственном своем бытии почитал еще не убедительным, пока не вывел его из отвлеченного силлогистического умозаключения» [3, с. 269].
Конечно, cogito ergo sum – не силлогизм, но сами колебания Декарта на этот счет весьма показательны. Бытие здесь опосредовано мышлением: сознание о бытии следует за сознанием о мышлении и как таковое не переживается. То обретение себя, которое несомненно присутствует в этом акте, остается чисто умственным, что и фиксирует Киреевский, стремящийся к «непосредственному сознанию о собственном бытии», к чистому самосозерцанию. Это самосозерцание предполагает известную цельность существа, единство бытия и сознания, поэтому оно выше, чем самосознание cogito, присутствующее только в мышлении и как бы замещающее действительное бытие – мыслью о нем. В этом случае речь идет, понятно, не о личности, но об индивидуальности. Это дает повод Киреевскому для некоторой самоиронии: «Может быть, еще и теперь есть глубокомысленные люди, которые утверждают на нем (силлогистическом выводе. – К.А.) несомненность своего бытия и успокоивают таким образом свою образованную потребность твердых убеждений. По крайней мере, пишущий эти строки еще живо помнит ту эпоху в собственной жизни, когда подобный процесс искусственного мышления сладостно утолял для него жажду умственного успокоения» [3, с. 269].
Мышление названо здесь «искусственным» в том смысле, что оно не следует никакой внутренней необходимости, пытается связать то, что и так связано бытием, соединить то, что и так нераздельно, и в результате упускает из виду эту «естественную» связь. Оно «искусственно» также потому, что пытается заместить собою «естественное» непосредственное самосознание; оно отделено от целостности человеческого существа, «отвлечено» от нее.
Таким образом, прояснение «существенного» как «личностного» ведет нас к необходимости прояснения того, что же есть «отвлеченное мышление», соответствующее неличностному способу бытия. Основное размежевание с ним Киреевский пролагает на поле религиозной философии. Следующий отрывок построен так, что первые и вторые части двух его абзацев явно соотносятся между собой: «Потому отвлеченное мышление, касаясь предметов веры, по наружности может быть весьма сходно с ее учением; но в сущности имеет совершенно отличное значение, именно потому, что в нем недостает смысла существенности, который возникает из внутреннего развития смысла цельной личности.
Весьма во многих системах рациональной философии видим мы, что догматы о единстве Божества, о Его всемогуществе, о Его премудрости, о Его духовности и вездесущии, даже о Его троичности, – возможны и доступны уму неверующему. Он может даже допустить и объяснить все чудеса, принимаемые верою, подводя их под какую-нибудь особую формулу Но все это не имеет религиозного значения, только потому, что рациональному мышлению невместимо сознание о живой личности Божества и о ее живых отношениях к личности человека» [2(1) с. 274].
Для уяснения природы отвлеченного мышления необходимо выяснить, от чего же оно отвлекается. Для этого требуется дальнейшее уточнение смысла «существенного». «Смысл существенности… возникает из внутреннего развития смысла цельной личности», – напоминает Киреевский. «Отвлеченное мышление» противостоит «вере», хотя «по наружности» может оказаться «сходным с ее учением». Но что такое вера, нам еще неизвестно. Далее поясняется, в чем же состоит сходство: в догматах. Разница, однако, в самом существенном: «рациональному мышлению невместимо сознание о живой личности Божества и о ее живых отношениях к личности человека». Здесь очевидна параллель с восклицанием Паскаля: «Бог Авраама, Исаака и Иакова – не Бог философов и ученых». Бог Авраама вступает в личное отношение с человеком. «Смысл существенности» окончательно проясняется как Богочеловеческий диалог, изначальное, живое отношение личностей. Выясняется странная вещь: догматы, сердцевина учения Церкви могут не иметь религиозного значения, если за ними не стоит реальная духовная жизнь того, кто заполняет и организует ими свое сознание. Они получают такое значение только если вырастают из духовного опыта человека.
Киреевский настаивал на этом и раньше, особенно в своих педагогических работах: «Записка о направлении и методах первоначального образования народа в России» (1839) и «Записка о преподавании словенского языка совместно с русским»(1853)[78]78
Об этой стороне его деятельности см.: Гвоздев А. В. Концепция «цельного духа» И.В. Киреевского и его педагогические взгляды [48, с. 139–148].
[Закрыть]. В последней он писал: «…сущность религиозного знания заключается не в догмате, не в символе, а в живом сочувствии с духовной жизнью Церкви» [48, с. 152].
Здесь, в «Отрывках», проясняются философские основания этой позиции мыслителя.
Итак, «сознание о живой личности Божества и Ее живых отношениях к личности человека», как «смысл существенного», «возникает из внутреннего развития смысла цельной личности».
Самосознание человека, «дойдя» до ступени личности, затем «перерастает» ее и выходит на новую ступень – сознания о Богочеловеческом отношении как основе этой личности. Это отношение есть вера. И поскольку отвлеченное мышление есть также неверующее (ср. слова Л. Шестова: «Ни один философ не верил в Бога»), то сознание, по внутренней необходимости дошедшее до этого «сознания о» (Гуссерль), есть верующее сознание. Логику этого сознания, соответствующего личностному способу бытия человека, и пытается понять Киреевский. Хотя «ум неверующий» может много говорить о Боге и о догматах, и даже говорить «правильно» – эта речь останется чужда вере, будет лишена «религиозного смысла», поскольку в основе ее будет лежать не свободное отношение, а «формула». Таким образом оправдывается слово Св. Василия Великого: «Диавол – тать, и наши учения разглашает своим провещателям» [34, с. 265].
Итак, «существенное» есть «вера» как сознание об отношении личности Бога и человеческой личности, а мышление, упускающее из виду это сознание как существенное, становится «отвлеченным мышлением», к сущности которого относится, таким образом, то, что оно есть неверующее.
Так в круг наших рассуждений входит вера и верующее мышление, как новые, еще не проясненные основные слова. Если вера есть только «сознание о» – постоянный оборот, употребляемый Киреевским, – весь процесс, приведший к ней, и она сама предстают как чистая мысль, имманентное развитие самосознания, никуда за его пределы не выходящее и не отсылающее. Такой чисто трансценденталистский результат был бы, возможно, удовлетворительным в немецкой философии и вообще в культуре, пытающейся секуляризовать христианство, отнестись к нему как к некоторой «ценности», но он не может удовлетворять представителя «православно-словенского направления». И действительно, мы находим разрешение недоумения в следующих словах из отрывка, посвященного святым Отцам: «Ибо истины, ими выражаемые, были добыты ими из внутреннего непосредственного опыта и передаются нам, не как логический вывод, который и наш разум мог бы сделать, но как известия очевидца о стране, в которой он был» [2(1) с. 272].
Такова «логика» откровения: никакое напряжение умственных сил не позволит человеку сделать «вывод», который, однако, есть единственно адекватный ответ на заданный им вопрос. Человеческий разум сам по себе не может прийти к Богосознанию, если только Сам Бог не откроется ему и он не станет «очевидцем». Этот непосредственный внутренний опыт Киреевский, вслед за ев. Исааком Сириным, называет верою.
Итак, Св. Отцы «говорят о стране, в которой были». Эта страна открывается в вере, о которой Киреевский говорит так: «Вера – не доверенность к чужому уверению, но действительное событие внутренней жизни, через которое человек входит в существенное общение с Божественными вещами (с высшим миром, с небом, с Божеством)» [2(1), с. 279].
Здесь подчеркивается онтологический характер этого события: будучи событием внутренней жизни, оно радикально меняет положение человека в бытии, открывает ему новую реальность. Вслед за Киреевским мы пытаемся схватить как бы две стороны этой реальности. С одной – человек как бы сам приходит к вере, приводит к ней свое самосознание путем движения по его собственной внутренней логике. Это – методологическое требование, предъявляемое Киреевским (вслед за Гегелем, как мы помним) к обращению философа.
С другой – вера есть событие внутренней жизни, имеющее отношение ко всему человеку, непосредственный опыт личного откровения, чего сам человек принципиально не может достичь.
Именно указание на непосредственность этого опыта позволяет увидеть эти две стороны в их единстве и целостности. Божество непосредственно открывается в уме человека, точнее, открывает ему Свое присутствие в нем, просвещает Собою этот ум и, коренным образом изменяя положение человека в бытии, возвышает его до сознания о Себе как о личности (речь об этом уже шла в разделах, посвященных антропологии патристики). Но происходит это в уме и умом человека, не теряющем своей сознательной активности. Эта активность проявляется в том, что ум, просвещенный присутствием Божества, «естественно» приходит к вере, как всецелой, деятельной обращенности к Нему, и превращает ее в основание всей своей деятельности, в значимый фон всякого акта своего сознания.
Здесь же человек выясняет, что само личностное самосознание его может жить только этой верой и на ее основе. Оно конституируется не само собою, но как предварительное условие веры, реальным присутствием Бога еще до осознания нами этого присутствия, которое само опознается только «очами веры». Причина и следствие запутаны здесь самым парадоксальным образом, сам предмет и наше сознание о нем – практически нераздельны.
Иными словами: именно в вере, понятой как отношение к личности Божества, возникает личность человека, и в то же время сама вера возникает на основе самосознания человека как личности.
Вера, как двустороннее отношение, предполагает со стороны Бога – откровение, вторжение Божественных энергий в человеческую реальность, со стороны человека – всецелую обращенность и открытость этим энергиям. Мы сознательно вводим сюда отсутствующую у Киреевского, но уточняющую и проясняющую его основную интуицию, терминологию «сущности» и «энергии», восходящую к ев. Григорию Паламе[79]79
О св. Григории Паламе и его учении о «сущности» и «энергиях» в Боге и человеке см.: Мейендорф И., прот. Жизнь и труды Св. Григория Паламы. Введение в изучение. СПб., 1997, Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. Т.2. Париж, 1937, Василий (Кривошеин), еп. Аскетическое и догматическое учение Св. Григория Паламы // Василий (Кривошеин), еп. Богословские труды. Нижний Новгород, 1997.
[Закрыть]. Некоторое основание для этого мы находим в том, что Киреевский явно предпочитает говорить не о «Боге», но о «Божестве» или «Божественных вещах», как о чем-то, что открыто миру и человеку и взаимодействует с ними, и в чем, собственно, проявляет себя Божественная личность, как скрытая сущность обладающая действующими энергиями.
Эта терминология помогает нам уяснить, в чем же, собственно, состоит отличие православного онтологизма славянофилов от трансцендентализма и психологизма романтиков. Этот вопрос существенен, поскольку и в том, и в другом случае Божество локализуется «внутри», «имманентно» – не снимает ли это сам вопрос о реальности «объекта» веры?
Видимо, «внутри» не означает здесь «имманентно сознанию». Оно означает скорее соприсутствие реально-трансцендентного Абсолюта столь же реальному человеческому существу, которое открывает это соприсутствие в своем внутреннем опыте[80]80
Подобный подход открывает возможность для совершенно иной, отличной от идеалистической философии религии, которая кладет в основу удостоверяемый факт личного откровения Бога человеку. Некоторые существенные аспекты этой философии религии были намечены Ю.Ф. Самариным в упоминавшихся уже «Замечаниях по поводу сочинения М. Мюллера по истории религии [167, с. 492–523]. Подробнее об этом см. мою статью: Антонов К.М. Философия религии Ю.Ф. Самарина // Религиоведение. 2004, № 2.
[Закрыть]. В этом смысле можно говорить, подобно С.Л. Франку[81]81
Мысль Франка, особенно его трактовка понятия «личность» [190, с. 409–413) и соотношения веры и неверия [190, с. 418], обнаруживает ряд интересных пересечений с мыслью Киреевского. Однако его чрезмерный методологизм, стремление охватить всю реальность единым методом «трансрационального монодуализма», слишком смелое вторжение в область «божественного» – не позволяют ему избежать некоторого налета «пантеизма», неприемлемого для христианской мысли, верной преданию Церкви.
[Закрыть], о «трансцендировании во-внутрь» [190, с. 386], имея в виду всю условность пространственной метафоры «внутри – снаружи».
Итак, «существенное» как «личность» осмысляется здесь как возникающее в горизонте «веры» – живого отношения Божественной и человеческой личностей, в котором человеческая личность впервые конституируется как структура бытия и самосознания. Эта структура определяет сам тип человеческой мысли как «верующее мышление» в отличие от рационалистического, «отвлеченного мышления», сущностной чертой которого оказывается неверие как выпадение из основного отношения веры.
Рассматривая проблематику «веры» и «личности», Киреевский пытается проследить как логику становления этой сложной структуры, так и логику ее жизни. Первое на уровне богословия может быть соотнесено с аскетикой, деланием, яра^ц, второе – с верою, умозрением, бешрга. Можно предположить, что рефлексия относительно этих двух основных состояний христианской духовной жизни и должна была определить построение философии Киреевского.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































