Текст книги "Философия И. В. Киреевского. Антропологический аспект"
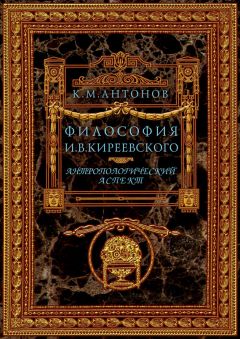
Автор книги: Константин Антонов
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
Глава 3. Антропология позднего Киреевского. Учение о личности
§ 1. Антропологическая проблематика в статьях 50-х годов
В конце 40-х годов Киреевский отходит от активного участия в общественной жизни [143, с. 12]. Он живет, главным образом, в деревне, подолгу гостит в Оптиной Пустыни, принимает активное участие в ее издательской деятельности. Он строит в Долбино специальный домик для своего духовного отца – старца Макария – куда тот мог бы приезжать «на отдых» от бесчисленных посетителей и для ученых трудов, связанных с переводами святоотеческих творений. В переписке со старцем и в начатом по его благословению Дневнике[63]63
Хранится в: РГАЛИ, ф.236, on. 1, ед. хр. 19, опубликован в: [5, с. 417–448].
[Закрыть] запечатлелись основные черты жизни Киреевского того времени: оцерковление быта; непрерывная работа со святоотеческим наследием; беспощадный покаянный самоанализ; постоянная борьба с большими (эгоизм, рассеянность) и малыми (курение, шахматы) страстями, соединенная с ясным сознанием своего бессилия и вследствие этого – непрерывным молитвенным предстоянием пред Лицем Божиим и призыванием помощи вышних сил; недоверие к себе, своему суждению и оценке, соединенное с огромным уважением и безграничным доверием к духовной опытности и прозорливости прей. Макария; стремление сохранить душевный покой и высокую работоспособность наперекор непрерывному потоку искушений, житейских неудач и физических страданий. Наряду с этим он удивительным образом сохраняет сознание единства со своим поколением и кругом общения: имена А.И. Кошелева, А.С. Хомякова, Веневитиновых, С.П. Шевырева, В.П. Титова, В.А. Жуковского, П.Я. Чаадаева – постоянно появляются на страницах Дневника.
В целом, однако, мы видим, что преодоление романтического эгоцентризма достигается здесь через большее самоуглубление, через обращение к предельным основаниям своего бытия и «умерщвление собственного я», о котором в напутственном предисловии к Дневнику говорит прей. Макарий.
Укрепляющееся все больше сознание того, что «внешнее только отпечаток, зеркало внутреннего», ведет Киреевского к напряженному исканию «правды внутренней жизни», сообразно чему меняется и характер его существования. Чистое теоретизирование, рефлексия перестает быть основной духовной деятельностью мыслителя, его место заступает теперь экзистенциальная практика «невидимой брани», основные принципы которой сформулировал для него прей. Макарий в указанном предисловии. В основе этих указаний лежат слова Христа: «Научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем: и обрящете покой душам вашим» (Мф. 11, 29)[64]64
Следуя преп. Макарию, приводим евангельский текст по-славянски; другие цитаты из Св. Писания, которые приводит старец в указанном предисловии, в дальнейшем цитировании опущены.
[Закрыть]
«…Во всяком нашем деле и начинании да призываем помощь Божию…
Господь ищет от нас правой веры и благих дел по заповедем Его… Да пребудем в православной вере и повиновении Святой Церкви и пастырям и учителям нашим…
Да призываем в помощь нашему спасению милосердную нашу Заступницу Царицу и Богородицу Деву Марию, святых Ангелов, хранителей наших, и святых угодников Божиих… По силе своей стараться иметь любовь к ближним, в помышлениях, словах и делах, ибо любовь покрывает множество грехов, но оная не может совершиться без смирения и без умерщвления собственного я, а без любви к ближним не может исполниться и первая заповедь – любовь к Богу. И что бы мы ни сделали благо, как и выше сказано, не полагаем в оном нашего спасения, но имеем надежду на Искупление Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, бесценною Его Кровию и помним, что мы грешницы и Господь пришел грешников спасти. В надежде на милосердие Божие да приносим всегда покаяние со смирением, и получим мир и успокоение в совести нашей…» [5, с. 417–418] (курсив мой. – К.А.)
Рефлексия же занимает теперь подчиненное, служебное положение. С одной стороны, она, как навык самопознания, как привычка направлять познавательный взор на самого себя, участвует в качестве инструмента в указанной практике, с другой – как техника теоретизирования, она служит апологетическим целям, поскольку характер секуляризованного европейско-русского просвещения, с точки зрения Киреевского, таков, что требует, в качестве апологии веры, философского рассуждения, удовлетворяющего определенным общезначимым критериям.
Вместе с тем уже и из сказанного ясно, что и практика как таковая имеет определенные философские экспликации. Предметом заботы субъекта такой практики является не кто иной как он сам, его собственная человеческая реальность, скрытые возможности которой он раскрывает и познает. Тем самым, мысль его постоянно направлена на эту реальность, а ее содержание в значительной мере определяется характером практики.
Вновь и вновь пытаясь на этой основе прояснить свою основополагающую интуицию о человеке, Киреевский видит, наконец, что она явно выводит его за пределы всех имеющихся в границах его кругозора действующих позиций. Он начинает собирать силы для создания «большого сочинения по философии». Результатом этой работы во внешнем отношении становятся большое количество писем (особый интерес представляют письма к А.И. Кошелеву)[65]65
Напечатаны М.О. Гершензоном в ПСС, 1911, т. 2, также Н.П. Колюпановым в «Биографии А.И. Кошелева». [92(2), с. 80—102].
[Закрыть], несколько «записок» и две статьи – «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России» (1852 г., далее – «О характере просвещения…») и «О необходимости и возможности новых начал для философии» (1856 г., далее – «О… философии»). Последняя должна была стать введением к упомянутому большому труду, от которого сохранились лишь отрывки, частично опубликованные после смерти Киреевского в «Русской беседе» (с послесловием Хомякова), а затем – в обоих Собраниях сочинений (под редакцией А.И. Кошелева – 1861 г. и М.О. Гершензона – 1911 г.).
Уже самим названием последней статьи Киреевский заявляет о «необходимости и возможности новых начал для философии». Эти начала он собирается искать в религиозно-философской традиции византийских и сирийских Отцов Церкви, преимущественно аскетического направления. Это начало есть вера: «Вера, преодолевая в мыслящем сознании народа внешнюю образованность, из самого соприкосновения с нею произведет свою философию, которая даст другой смысл образованности внешней и проникнет ее господством другого начала» [3, с. 322].
Примером такой верующей философии может быть «православно-христианская философия», процветавшая на Востоке, т. е. святоотеческие творения. «Истины, выраженные в умозрительных писаниях Св. Отцов, могут быть живительным зародышем и светлым указателем пути» «нового развития философии» и культуры в целом [3, с. 322–323].
Однако Киреевский далек от требования простого переноса святоотеческой мысли в современность. Он ставит перед философией прежде всего критическую задачу: «Но, чтобы понять отношения, которые философия древних Св. Отцов может иметь к современной образованности, недостаточно прилагать к ней требования нашего времени; надобно еще постоянно держать в уме ее связь с образованностию, ей современною, чтобы отличить то, что в ней есть существенного, от того, что только временное и относительное» [3, с. 323].
Главной отличительной чертой современности Киреевский считает общественный характер просвещения, с которым связаны исторический интерес и необходимость ответа на нравственные вопросы внешней жизни человека. В патристике эти вопросы «не получили наукообразного вывода», «хотя общие начала для этих отношений находятся в ее общих понятиях о человеке» [3 с. 325].
Таким образом, антропология понимается здесь как фундамент для общественной мысли и философии истории, как ее составляющей. Уже здесь, в статье, задача выделения «существенного» в святоотеческой мысли приводит к постановке антропологической проблемы. В «Отрывках» мы увидим, что речь идет прежде всего о новом учении о личности. Теперь, после рассмотрения соответствующего западноевропейского, патристического и русского контекста, мы сможем оценить действительную новизну этого учения.
1. Человек и культура
В обеих статьях – «О характере просвещения…» и «О… философии» – налицо глубокий и всеобъемлющий антропологизм и субъектность.
В первой из них, говоря об отношении типов просвещения, Киреевский постоянно обращается к характеристике типов человека, которые, с одной стороны, лежат в основе, а с другой – выступают как результаты исторического движения той или иной культуры. Эти характеристики никогда не абстрактны, но всегда обоснованы историческим и даже автобиографическим материалом. Киреевский делает достоянием общества свой личный опыт – то, что он сам пережил и перечувствовал, – но этот опыт под его пером становится общезначимым.
В описании положения «европейско-русского просвещения» его внимание привлекает прежде всего личность Петра [3, с. 249–250], по воле которой возникла эта новая культура.
В описании итогов «просвещения западноевропейского», где «многовековый холодный анализ разрушил все те основы, на которых стояло европейское просвещение от самого начала своего развития», этот анализ персонифицируется в образе «западного человека», упоенного своей «разрушительной рассудочностью» тем больше, «чем объемлющее были убеждения, им разрушенные», верящего, что он «собственным отвлеченным умом может сейчас же создать себе новую разумную жизнь и устроить небесное блаженство на переобразованной им земле», не пугающегося «страшными, кровавыми опытами» [3, с. 251]. Но этот образ взят Киреевским не из западной, а из русской жизни – это довольно точный портрет Белинского и Герцена 40-х годов, когда Киреевский спорил с их «маратовской любовью к человечеству» в московских салонах. Он подразумевал, вероятно, и свои собственные увлечения времен кружка любомудров, «Московского вестника» и «Европейца», хотя они и были гораздо менее радикальны.
В такой культуре, в основе которой лежит рациональность, центральное место должно принадлежать философии.
«Ибо для человека (курсив мой. – К.А.), оторванного от всех других верований, кроме веры в рациональную науку, и не признающего другого источника истины, кроме выводов собственного разума, судьба философии делается судьбою всей умственной жизни» [3, с. 252].
Здесь опять-таки это описание распространимо и на русскую публику; Киреевский сам в середине 30-х годов испытал на себе тяжесть этой философской судьбы. Но за логикой своей личной духовной биографии он видит общую логику движения человеческого духа. Он вводит здесь типовую фигуру философа, «труженика науки, которого и лицо едва заметно толпе, его окружающей, и через двадцать лет незаметная мысль этого незаметного лица управляет умами и волею этой же самой толпы, являясь перед ней в каком-нибудь ярком историческом событии. Не потому, чтобы в самом деле какой-нибудь кабинетный мыслитель из своего дымного угла мог по своему произволу управлять историей, но потому, что история, проходя через его систему, развивается до своего самосознания» [3, с. 251].
Прежде всего, здесь вспоминается Кант. Затем – Гегель, Шеллинг и их ученики, с которыми Киреевский общался в 1831 г. во время своей заграничной поездки. Но в этом описании есть и другой слой. Это – видение самого себя и своих друзей, их общей философской задачи: сделав точный вывод, подвести самосознание русского образованного общества – не менее рационалистичного, чем европейское, – к идеям Церкви и народности.
Затем следует описание логики поведения западного человека в ситуации кризиса. Для западной Европы, оказавшейся в замкнутом кругу рационализма, нет выхода [3, с. 253–254]. Но кризисная ситуация там порождает «перемену» в «европейско-русском просвещении»: «…большая часть людей, следивших заявлениями западной мысли, убедившись в неудовлетворительности европейской образованности, обратили внимание свое на те особенные начала просвещения, не оцененные европейским умом, которыми прежде жила Россия и которые теперь еще замечаются в ней помимо европейского влияния» [3, с. 251].
Картина последующих исторических разысканий и обращений – так же автобиографична, хотя Киреевский в стремлении к общезначимости и упрощает несколько картину.
«Тогда русские ученые, может быть в первый раз после полутораста лет, обратили беспристрастный, испытующий взор внутрь себя и своего отечества и, изучая в нем новые для себя элементы умственной жизни, поражены были странным явлением: они увидели, что почти во всем, что касается до России, ее истории, ее народа, ее веры, ее коренных основ просвещения и явных, еще теплых следов этого просвещения на прежней русской жизни, на характере и уме народа, – … они были до сих пор обмануты; не потому, чтобы кто-нибудь с намерением хотел обмануть их, но потому, что безусловное пристрастие к западной образованности и безотчетное предубеждение против русского варварства заслоняли от них разумение России». «Может быть, – добавляет Киреевский в порядке личного покаяния, – и они сами прежде под влиянием тех же предрассудков содействовали к распространению того же ослепления» [3, с. 254–255].
В свое время уникальный эксперимент по историческому самопознанию произвел в России Карамзин. Вслед за ним к этому призвали романтики любомудры, на этот путь становится Пушкин. Мы уже видели, что историческое исследование в России с самого начала приобрело философское значение. Изучение истории отечества стало основой самопознания русского человека. Особенно ярко это проявилось в конце 20-х – начале 30-х годов.
Однако, сопоставляя этот романтический порыв с аналогичными «возвращениями» европейцев, Киреевский усматривает его принципиальное отличие. Прежде всего, европейцы не пребывали в неведении относительно своих истоков. Их национальные культуры аккумулировали в себе и древние языческие, и античные, и средневековые корни. Обращаясь преимущественно к тем или иным из них, немец не переставал быть немцем, француз – французом. Единственное, относительно чего они действительно пребывали в неведении – было чистое, незамутненное властолюбием и рассудочностью христианское предание, искаженное в IX веке[66]66
Киреевский имеет здесь в виду не только принятие filioque, но и деятельность папы Николая I (858–867), порвавшего отношения с константинопольским патриархом ев. Фотием и вовлекшего западную Церковь в борьбу за передел отношений светской власти в Европе. По этому поводу Киреевский весьма подробно высказывается в переписке 1842 г. с кн. Ив. Гагариным – перешедшим под влиянием П.Я. Чаадаева в католичество представителем религиозного западничества (см.: Символ, 1980, № 3, с. 157–174)
[Закрыть].
В ином положении была Россия. Чисто волевой, не обремененный рефлексией и вместе с тем «страстный» поступок Петра оторвал русское образованное общество от традиционной структуры. Результатом были самодовольство и презрение по отношению к предкам и «необразованным» современникам и тотальная обманутость и «ослепление» относительно своего прошлого. В истории России произошел разрыв, заполненный только теперь, после того как произошла вышеописанная «перемена». С этой «переменой» кончилось время Петра. В России появилась возможность движения по иному духовному пути, – пути сближения народа и образованного общества, обретающих единство в вере и духовных основах культуры. Эту перемену и этот путь представляли славянофилы, сумевшие сделать предметом своей рефлексии точку разрыва, именно в их лице история развилась «до своего самосознания». Но так получилось, что возможность нового духовного пути в России открывала выход из общего тупика не только для «европейско-русского», но и для западноевропейского просвещения.
Прорыв сквозь «ослепление» и обманутость приводил к расширению сознания, «открывая те существенные стороны духа, которые не находили себе ни места, ни пищи в западном развитии ума» [3, с. 255]. В свою очередь это вело к выяснению качественных отличий древнерусской культуры по отношению к западной, но само «древнерусское просвещение» раскрывалось в силу этого не как узко-национальная особенность, но как ветвь единой восточно-христианской традиции, в основе которой лежит особый, качественно отличный от западного опыт христианской жизни, не омраченный властолюбием и рассудочностью[67]67
В этом рассмотрении католицизма и протестантизма как последовательных ступеней развертывания рационализма, унаследованного западным христианством от античного (главным образом римского) язычества и логически приводящего к рационализму Просвещения и другим формам современного неверия, славянофилы были едины. Это хорошо видно из написанных на французском языке полемических сочинений А.С. Хомякова, писавшихся одновременно со статьями Киреевского, и из предисловия Ю.Ф. Самарина к богословским сочинениям Хомякова (1862 г.).
[Закрыть]. Впоследствии Киреевский будет говорить о «православно-христианской образованности», т. е. именно о том чистом святоотеческом христианстве, о существовании которого «забыл», но к которому, тем не менее, не переставал в лице своих лучших представителей стремиться Запад.
Этим исканиям западных людей Киреевский посвятил целый ряд статей еще в 1845 г. («Жизнь Стеффенса», «Сочинения Паскаля», «Речь Шеллинга» и др.), а также значительные разделы статьи «О… философии». Здесь проявляется пафос универсальности, постоянно присущий мысли славянофилов и в наибольшей степени, может быть, мысли Киреевского.
Весь последующий анализ особенностей западноевропейского и древнерусского просвещения, их сопоставление по самым разным характеристикам и областям культурной и духовной жизни проводится постоянно с учетом антропологического фактора. Анализу римской образованности соответствует характеристика сознания римлянина, арабской – магометанина. Западная Церковь характеризуется на примере ее крупнейших представителей – Тертуллиана, Киприана, Августина [3, с. 259–263, 267].
Сопоставление западной философии и святоотеческой мысли завершается сопоставлением «способов мышления», т. е. опять-таки характеристикой субъектов этого мышления, «западного человека» и «православного человека» [3, с. 274].
Затем Киреевский характеризует последовательно юридические, общежительные, семейные, экономические отношения, дает характеристику западного искусства и нравственного строя европейского и русского человека. Человек всегда оказывается в центре этих характеристик. Поэтому его конечный вывод: «раздвоение и цельность, рассудочность и разумность будут последним выражением западноевропейской и древнерусской образованности» [3, с. 290], – касается равным образом и проявлений этих образованностей, и их субъектов-творцов. То есть понятие «образованность» или «просвещение» у Киреевского включает в себя не только совокупности материальных и идеальных культурных ценностей, но и творящих эти ценности людей, их «устроение».
Таким образом, в структуре славянофильской мысли центральное место принадлежит антропологической проблематике: с одной стороны, она открывает путь к познанию феноменов культуры и истории, с другой – открывает укорененность этих феноменов в бытии через посредство их творца – человека.
Именно существенные, но исторически изменчивые структуры человеческого бытия оказываются той точкой, с которой соотносятся все частные проявления «образованности», т. е. данного типа культуры. Человек и творимая им культура соотнесены между собой, суть условия воспроизведения определенных устойчивых, характерных черт друг друга. Они образуют единую систему. Говоря образно, эта система представляет собой круг, в центре которого стоит человек со свойственным ему положением в бытии, а на периферии располагается совокупность проявлений культуры, по радиусам соотносящаяся с центром. Система эта не замкнута: по горизонтали она взаимодействует с другими подобными системами, по вертикали – участвует, через посредство центра, в Богочеловеческом отношении. Различные формы этого отношения, в том числе и такие, где его личностный характер остается неосознанным или затемняется, играют решающую роль в формировании структуры центра – т. е. человека-творца. Тем самым они задают и характерные особенности различных систем. В системе этой действует и обратная связь: с одной стороны, свободная воля человека оказывается способна влиять решающим образом и на элементы культуры, и даже на центральное, Богочеловеческое отношение, с другой – элементы культуры так или иначе влияют на человека и образ его существования. Не случайно поэтому в основе представлений Киреевского об отпадении Запада лежит, в качестве некой структурной модели, библейское повествование о грехопадении, которое происходит на сей раз в рамках нового, возрожденного человечества.
Первоначально, однако, вертикальное измерение этой системы отнюдь не находится у Киреевского на первом плане, кроме того, далеко не сразу оно начинает трактоваться им в терминах личностного отношения. В своих статьях, начиная с 1839 г., мыслитель гораздо больше занят разработкой горизонтального измерения, связанного с философией культуры и истории. Лишь в «Отрывках» он переходит к анализу измерения вертикального, к философии личности и веры.
Выше уже указывалось, что первоначально вертикальное отношение трактуется им как Традиция, т. е. определенная в основных чертах, устойчивая, воспроизводящаяся в истории форма, в которой человек соотносит себя с «Высшими Принципами Бытия». Это соотнесение позволяет человеку или культурной общности сориентировать себя в бытии, в то время как отказ от соотнесения приводит к дезориентации человека (и культурной общности), когда изначально присущие ему особенности перестают уравновешиваться сознанием целостности, получают чрезмерное преобладание и приводят сначала к деформации, а затем к саморазрушению данного типа человека и культуры. Киреевский прослеживает это на примере языческой римской и западноевропейской христианской «образованности».
В общем, и в 1839, и в 1845, и в 1852 гг. речь идет о противопоставлении традиционного и антитрадиционного общества и человеческого типа. Структура традиции в 1852 г. выглядит в общих чертах так же, как и в статьях 1839 и 1845 гг.[68]68
В этом нетрудно убедиться, сравнив описания этой структуры в [3, сс. 148–149, 227, 275].
[Закрыть] Киреевский по прежнему ищет слова для выражения своей основной интуиции о человеке. Мысль о едином истоке человеческого существа, о некоем единящем и определяющем начале выражена здесь достаточно ясно. Присутствуют даже попытки описания жизни сознания и целостного человека такого типа, но пока все они описывают его в связи с теми или иными «внешними», культурными моментами. Речь идет о «внутренней цельности самосознания», «преимущественном стремлении к цельности бытия внутреннего и внешнего, общественного и частного, умозрительного и житейского, искусственного и нравственного». По Киреевскому, «русский человек каждое важное и неважное дело свое всегда связывал с высшим понятием ума и глубочайшим средоточием сердца»[69]69
О понятии сердца см. ниже, гл. 3, § 4, и выше, гл. 2, § 1.2.
[Закрыть] [3, с. 283, 284, 290].
Слово «личность» возникает здесь [3, с. 265, 281–282] в ограниченном контексте сопоставления правосознания русской и европейской образованности, т. е. в той же плоскости, в которой происходил спор Кавелина и Самарина. Оно не получает пока всеобъемлющего значения. Однако личность имеет здесь несомненное превосходство над безличными идеальными структурами законов: в противоположность Западу, «в устройстве русской общественности личность есть первое основание, а право собственности – только ее случайное отношение…» В противоположность Руси, на Западе «каждая благородная личность стремилась сделаться сама верховным законом своих отношений к другим», что соотносилось с войной всех против всех, «насилием завоевания» [3, с. 258, 264–265] как основным общественным состоянием и, в конечном итоге, вело к порабощению личности идеальными структурами, возникавшими в результате достижения согласия на основе общественного договора. Таким образом, для оптимизма западников по поводу места личности на Западе не остается оснований. В рамках историко-юридического спора Киреевский пытается уточнить славянофильскую позицию так, чтобы ее истолкование в смысле «принижения» личности стало невозможным, найти место личности в русской истории. Он солидаризуется здесь с позицией своего брата, П.В. Киреевского [3, с. 277]. В то же время Киреевский пытается поднять историческую дискуссию на новый уровень теоретичности: различие в отношении личности к идеальным структурам и в характере межличностных отношений кладется им в основу различия культурных типов и свойственной им динамики исторических закономерностей.
В своей критической части мысль Киреевского генетически восходит к традиции самокритики европейской культуры, представленной тогда и романтизмом, и шеллингианством, и ультрамонтанством, и Фр. Баадером. Различные представители этой традиции – Фр. Баадер, Шеллинг, Ж. де Местр обнаруживали явное тяготение к России и православию. Особенность Киреевского состояла в его ориентации на святоотеческую аскетическую традицию и связанное с ней понимание цельности духа и человеческой личности. Все это делает его мысль сопоставимой и с более поздними представителями этой традиции. Для Франции речь может идти о таких мыслителях, как Л. Блуа, Ш. Пеги, Г. Марсель, Э. Мунье. Особенно интересны черты сходства мысли Киреевского с «Интегральным гуманизмом» Ж. Маритена, где динамика разложения западной культуры, начиная с эпохи Возрождения, предстает как результат постепенной рационализации «тайны человека» и подмены христианского понимания человеческой личности – гуманистическим, приводящим ее к разложению и порабощению материальными стихиями.
Среди немецких мыслителей, прежде всего, необходимо назвать, как это ни странно, Э. Гуссерля и его «Кризис европейских наук», где философия предстает как основа духовной жизни «европейского человечества», но выход из кризиса видится в возвращении к классическому трансцендентализму.
2. Философия и человек
Если статья 1852 г. констатировала кризис европейской культуры, в основе которой лежит ее философская мысль, то статья 1856 г. вполне закономерно обращается к кризисному состоянию самой философии, в котором находит свое концентрированное выражение состояние культуры в целом. Единство исторического, культурного и философского процесса рассматривается здесь под новым углом зрения: «Это рациональное мышление, которое в новейшей философии Германии получило свое окончательное выражение, связывает все явления современного европейского просвещения в один общий смысл и дает им один общий характер» [3, с. 295].
Однако, хотя современная философия характеризуется «неудержимым стремлением мысли к неверию», философия в целом, ее характер, тесно связана с религией, проистекает из нее. «Но направление западных философий было различно, смотря по тем исповеданиям, из которых они возникали, ибо каждое особое исповедание непременно предполагает особое отношение разума к вере. Особое отношение разума к вере определяет особый характер того мышления, которое из него рождается» [3, с. 296–297].
Это касается не только христианских исповеданий. Киреевский, как обычно, стремится обобщить свою мысль: «…характер господствующей философии зависит от характера господствующей веры. Где она и не происходит от нее непосредственно, где даже является ее противоречием, философия рождается из того особенного настроения разума, которое сообщено ему особенным характером веры» [3, с. 316].
Тем самым характер философии оказывается более или менее жестко связан с духовным состоянием философствующего субъекта, с его верой[70]70
Как подход к истории философии эта идея была впоследствии очень продуктивно реализована кн. С.Н. Трубецким в таких работах как «Метафизика в Древней Греции», «Курс истории древней философии», «Учение о Логосе в его истории». См. например [179, с. 55–57].
[Закрыть]. Хотя Киреевский говорит о мышлении, его законах, характере и пр., он дает понять, что это мышление отнюдь не самодостаточно, что оно есть одна из энергий человеческого существа. Оно зависит от него, и, в свою очередь, определяет его состояние: «Ибо не отдельные истины, логические или метафизические, составляют конечный смысл всякой философии, но то отношение, в которое она поставляет человека к последней искомой истине, то внутреннее требование, в которое обращается ум, ею проникнутый. Ибо всякая философия в полноте своего развития имеет двойной результат или, правильнее, две стороны последнего результата: одна – общий итог сознания, другая – господствующее требование, из этого итога возникающее. Последняя истина, на которую опирается ум, указывает и на то сокровище, которого пойдет искать человек в науке и в жизни» [3, с. 306].
Таким образом, философия имеет антропологический исток и антропологическое заключение – она возникает из самопознания и, вместе с тем, формирует человека, определяет его образ жизни и поступки, «ее сокровенная музыка… сопровождает все движения души убежденного ею человека» [3, с. 306].
По самой своей природе, философия играет в истории двойственную роль. Прежде всего, она разрушает. Это разрушение благодетельно: «…греческая философия является в жизни человечества как полезная воспитательница ума, освободившая его от ложных учений язычества и своим разумным руководством приведшая его в то безразличное состояние, в котором он сделался способным к принятию высшей истины» [3, с. 305]. Но за это было заплачено дорогой ценой. Под руководством аристотелизма, которому принадлежала в древнем дохристианском мире «вся нравственная и умственная сила просвещения» [3, с. 305], античность достигла полного нравственного ничтожества и «всеобщего отсутствия внутренней самобытности». «На земле человеку уже не оставалось спасения. Только Сам Бог мог спасти его» [3, с. 308].
Киреевский усматривает аналогию между предхристианским и современным положением вещей. Рационалистическое «просвещение Запада силою собственного развития уничтожит силу своего иноучения и из ложных убеждений в христианстве перейдет к безразличным убеждениям философским, возвращающим мир во времена дохристианского мышления… Тогда для господства истинного христианства над просвещением человека будет по крайней мере открыта внешняя возможность» [3, с. 311].
Такая же аналогия, почти тождество, устанавливается между аристотелизмом и гегельянством. Обе философии должны сыграть и сходную нравственную роль. Но одновременно выясняется и новая роль философии вообще. В условиях отсутствия высшей истины, ее искажения или отпадения от нее, философия остается единственным инструментом поиска истины. Так, наряду с аристотелизмом существовали стоицизм и платонизм, наряду со схоластикой – мистицизм, наряду с картезианством – идеи Паскаля и Фенелона, наряду с Гегелем – Шеллинг. История философии, а вместе с ней и вся история Запада предстает у Киреевского не просто как история отпадения и скольжения в бездну, но и как история возвращения, по крайней мере, его подготовки. Это создает в истории Запада особые моменты, «когда ход вещей стоит, так сказать, на перевесе и одно движение воли решает то или другое направление» [3, с. 311].
Такое понимание становится возможным благодаря новой, «волюнтаристской» трактовке человеческой истории. Своим критическим острием эта трактовка направлена против «идеализма»: «…мы составили бы себе ложное понятие о развитии человеческого мышления, если бы отделили его от влияния нравственной и исторической случайности. Нет ничего легче, как представить каждый факт действительности в виде неминуемого результата высших законов разумной необходимости; но ничто так не искажает настоящего понимания истории, как эти мнимые законы разумной необходимости, которые в самом деле только суть законы разумной возможности. Все должно иметь меру и стоять в своих границах. Конечно, каждая минута в истории человечества есть прямое последствие прошедшей и рождает грядущую. Но одна из стихий этих минут есть свободная воля человека» [3, с. 313–314].
Существование таких переломных моментов относится к сущности западной истории [3, с. 314]. Киреевский насчитывает несколько таких моментов. Первый – в конце античности перед Пришествием Спасителя, второй – перед отпадением Запада, связанный с именем папы Николая I; третий – в начале Реформации, связанный с именем Лютера; четвертый – современный, когда Запад вновь оказывается перед выбором: или «неограниченное господство промышленности и последней эпохи философии», связанное со сведением человека и его действительности к «одной физической личности», или – «внутренняя перемена основных убеждений», «изменение духа и направления философии, ибо в ней теперь весь узел человеческого самосознания» [3, с. 315–316].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































