Текст книги "Твист на банке из-под шпрот. Сборник рассказов CWS"
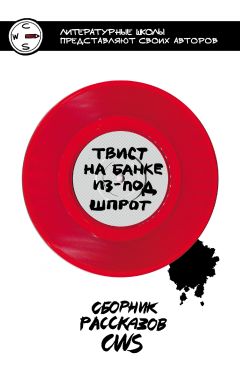
Автор книги: Ксения Крушинская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Андрей Федоров. Встреча
Спешу домой из храма, впереди – мужчина. Весь какой-то помятый. Пальто нараспашку. Взгляд слегка затуманенный. Но в походке – решительность. Двигается мне наперерез.
Подходит, бухается на колени, руки сложил на груди. Хочет земно поклониться. Мне неловко, но не мешаю. Поднявшись, начинает с места в карьер:
– Бать, погоди, слышь, в общем, это… мы развелись!
И, увидев мой недоуменный взгляд, спохватывается:
– Ты меня, вообще, помнишь?
– Не очень, – отвечаю уклончиво.
– А-а-а, ну понятно, – чуть разочарованно протягивает он. Но не успокаивается. – Счас расскажу… Ну, в общем, да, поженились мы с ней… с Мариной Леоновой. А она от меня ушла! Сама ушла! – он особенно нажимает на слово «сама».
Мне самому тоже хочется уйти. Но какое-то уж больно несчастное у него лицо… остаюсь, слушаю дальше. Мужчина притоптывает, вертит головой по сторонам, прищуривает и открывает глаза, по всему видно – хочет, чтобы его поняли.
– Ну а я… короче, слышишь, сошелся с девочкой одной… моложе гораздо. Живем с ней… уже долго живем, до-олго… ну, то есть как… месяца три. И вот скажи, бать… что мне дальше-то делать?
Я открываю рот, чтобы ответить, но он тут же перебивает:
– Нет, погоди, вот смотри, короче… разошлись мы с Маринкой… ушла она… к этому… неважно, короче. А ведь я знал, что она уйдет, пред-чувствовал (это слово он произнес как-то раздельно, четко, будто смакуя). Ничего не мог поделать. А он, гад, ее не любит. Не любит, но – имеет. Да какая теперь разница. Ни-ка-кой, – трижды стучит мне кулаком в грудь, не сильно, но с чувством. – И вот что мне теперь? Жить с этой девчонкой? Или как?
– Вам надо самому принять решение, – назидательно отвечаю я.
– А ведь я… ты знаешь, бать, – не слушая меня, продолжает, – я ведь все равно ее люблю… Не могу разлюбить. И знаю, что уже никак, а все равно… Как засело тут, – он показал почему-то на живот, – так и сидит… Мучаюсь, веришь… не могу!
– Надо сначала перестать пить, – говорю. – И тогда уже что-то можно будет решать.
– Пить? Это да! – он радуется, как будто услышал, наконец, что-то спасительное. – Бросить пить… само собой брошу… не пил я раньше… вот как ушла она… к нему… а она, стерва, сама никого не любит! Ее первый, Дима, воспитал их ребенка… один… представляешь! Он мне говорил всегда: «Не любит она тебя, слышь, не любит… любит не тебя, а медвежонка… Ей игрушку надо! Вот! Пока у них хорошо получается – играть!..
Речь свою мужик перемежает матерком, а я стою и думаю, делать ему замечание или не надо. А может, все-таки уйти, хватит уже?
– И вот, слышь, – мужик вновь тыкает меня в грудь кулаком, – я вот думаю, если мне повенчаться… стой, погоди, послушай… ну вот допустим… Хотя… да… с Маринкой ведь я был венчан… Ты представь! – вдруг заговорил он с жаром. – И расписан был, и венчан был, а она, стерва, все равно… Да она в церковь зайти не может и в Бога не верит! Не верит она в Бога, понимаешь?!
– В общем, надо вам, наверно… – я пытаюсь произнести завершающую фразу, одновременно делая движение по направлению к дому, но он загораживает дорогу и быстро говорит:
– Ты погоди, постой, я хотел спросить… а может быть, как-нибудь само… ну вот как-нибудь… если мы распишемся…
– С кем распишитесь? – уже в раздражении спрашиваю я.
– Ну с этой… с Танькой, девчонкой моей… допустим, распишусь, потом повенчаюсь… в церковь тре-езвый приду… и потом сделаю ей… чтобы забеременела… может, тогда все получится у нас? Все будет хорошо? А?
– А вы любите друг друга? – задаю вопрос. Как-то глупо он звучит…
– Любим? Какое там любим… – он как-то сразу потух, помрачнел. – Нет тут никакой любви. Так живем. Ну ты понимаешь… Вот я и хотел спросить… а вдруг?
– Не знаю. Может быть… – бормочу я, делая шаг в сторону, потом еще один и еще… неужели вырвался?
Мужчина вновь падает на колени, складывает руки… как мне надоела эта комедия и неудобно – люди смотрят…
– И это… Погоди, еще хотел спросить: ведь не стоит делать то, что я задумал… я ведь, знаешь, бать, скажу тебе честно, решил взять фотографию стервы этой, Мари-инки, и выколоть, вы-ко-лоть ей глаза! Не надо ведь так делать, да?
– Не надо, – облегченно вздыхаю я, чувствуя – финиш.
– А лучше пойти в церковь, да?
– Да, конечно, конечно, только трезвым!
– Трезвым, трезвым, само собой, и поставить за нее свечку, да? Бо-ольшую свечку!
– Да-да, правильно, все правильно, – повторяю я, чуть обернувшись, и с каждым шагом расстояние между нами увеличивается.
– Ну спасибо, бать, – кричит он мне вдогонку, – и прости! Весь фасад твой отбил. Прости…
Елена Кривоносова. Дела семейные
Вечер субботы понемногу успокаивается и сходит на нет. Утром будет самолет домой из Хитроу, а пока я сижу на полу небольшой комнаты на пятом этаже хостела в Кенсингтоне. Лондон доносится извне звуками машин и разговорами других постояльцев под окнами.
Раньше я никогда не ночевала в одной комнате с незнакомыми людьми, но курс национальной валюты и страсть к приключениям подтолкнули освоить новые горизонты.
Изначально мой план выглядел совершенно иначе. Зайти, поздороваться и лечь спать. Коротко, четко, предполагает много отдыха. По мне так идеальная комбинация для конца большого приключения и ночевки с незнакомцами.
…Я появляюсь в разгар беседы. Две женщины общаются так увлеченно, будто старые подруги на кухне в рассветный час. Одна сидит на кровати, другая на полу. Мне неудобно игнорировать их живой интерес к новому человеку, и я очень быстро падаю в водоворот их разговора. Именно так я оказываюсь сидящей этим вечером на полу дешевого номера.
Вместе со мной американка лет пятидесяти, прилетевшая из Индианы, и девочка, моя ровесница, из Южной Африки.
– Да, я из Южной Африки, и я белая, – первое, что она говорит, как только я захожу в комнату.
Еще с нами должен ночевать какой-то итальянец, но он приходит совсем поздно, так что мы успеваем только пожелать друг другу доброй ночи.
Мне нравится, как люди в Великобритании реагируют на то, что я приехала из России. Они так широко улыбаются и почти все произносят одно и то же:
– О, ты так далеко от дома!
Да, я очень далеко от дома. Дальше я себя ощущала только в Америке.
Мы разговариваем около трех часов. Про беременность, татуировки, любовь, гордость, боль, смерть и семью. Как и многие, они поначалу думают, что мне лет двадцать и я приехала на студенческие каникулы или просто развлекаться.
Мы рассказываем каждая о себе, и остается только кивать: да, мне это знакомо, да я понимаю.
– Семейные дела, – говорю я после долгих разговоров о родителях, сестрах и братьях, и я знаю, что они меня понимают. Действительно понимают.
– Да ладно, перестаньте. «Это уже давние дела», – говорю я, хотя часть меня понимает, что это неправда. Есть дела, которые остаются будто парить в космосе – вне времени и пространства.
Американка рассказывает о своей старшей дочери. Та родила ребенка в шестнадцать лет. Времена были непростыми для ее семьи, в итоги они решили отдать ребенка на усыновление.
– Я постоянно общаюсь с приемными родителями, – говорит она. – Смотрю фотографии, и он живет замечательной жизнью. Мы бы никогда не смогли дать ему такую жизнь, но не проходит и дня, чтобы я не думала о том, правильно ли поступила. Но это тот момент, когда мне пришлось перестать быть эгоисткой и думать о том, что будет лучше для ребенка в первую очередь, а не для меня. Надеюсь, что я сделала правильный выбор.
Девочка из Южной Африки рассказывает, как всю свою жизнь она была ребенком номер два. Ей так хотелось, чтобы родители любили ее не меньше брата.
– Но благодаря этому я выросла человеком, который всего в этой жизни добился сам, – говорит она. – Пожалуй, это отличная черта.
Да, дела семейные.
Я тоже кое о чем рассказываю. Но это так. Личное.
А потом мы как-то одновременно понимаем, что пора ложиться спать. Я провожу эту ночь с совершенно незнакомыми людьми под одной крышей, но мне не страшно за вещи или свою жизнь. Иногда мне кажется, что все мы просто незнакомые люди под одной большой крышей.
Я просыпаюсь сама в шесть с чем-то и ухожу раньше всех. Мне очень хочется попрощаться с этими людьми, но неудобно будить, поэтому я просто выхожу из комнаты по-английски. Мы больше никогда не увидимся.
Хотя, может, раз я не попрощалась, у нас будет еще один шанс.
Лада Щербакова. Прощание
Все, что можно было продать, она продала. Остальное раздала просто так – по соседям и старым знакомым. Остались только стенка – убогий памятник югославской промышленности – да протертый до блестящих проплешин диван. Сколько же счастья было, когда его купили! Она наконец смогла сбежать от постылого общества бабушки и ее кровати – обе пахли старостью и все время будили ее по ночам. Первая – богатырским храпом, вторая – скрипом ржавых пружин. Вера ласково погладила фиолетовый плюш – не грусти, тебя наверняка какой-нибудь дворник к себе в каморку утащит.
Прилягу, пожалуй, напоследок. Ох, нелегкая эта работа – барахло разбирать. Выносишь на свалку тонны прожитой жизни. Недрогнувшей рукой запихиваешь в мусоропровод изъеденные молью подушки, а они, заразы, не лезут, сопротивляются. Оторопело перебираешь десятки отверток – и зачем одному человеку столько? А потом натыкаешься на какую-то до боли знакомую мелочь, сидишь на полу, зажав ее в руке, и тупо ревешь белугой.
Книги, папа их по крупицам собирал. Часть она в библиотеку отвезла, что не взяли – к почтовым ящикам выложила. Слава богу, все разобрали, даже Достоевского в восьми томах унесли. За Федора Михайловича она особо переживала – уж больно старика жизнь потрепала. Так, а кто это там на верхней полке спрятался, что за бордовый корешок? Так это же Морис Дрюон, вот хитрец! Папа за ним долго охотился, кажется, в итоге на «Графиню де Монсоро» выменял. Все знакомые в очереди стояли – почитать! Ладно, заберу, уговорил.
А хрусталя, хрусталя-то сколько осталось! Маме ученики его тоннами дарили: вазы, подсвечники, фужеры. Вся эта былая роскошь давно растеряла свой блеск, подернулась тусклой пеленой, помрачнела. Она упаковала только тонкие изящные бокалы на балетной ножке, остальное пристроить не удалось. Ладно, пусть новые хозяева сами решают, что с этим добром делать.
Вера вздохнула, медленно поднялась – надо бы еще на балкон заглянуть. Брр, холодно! Она переступила окоченевшую половую тряпку – в ней с трудом, но еще угадывался мамин махровый халат. Отворив перекосившуюся створку буфета, она вдохнула вырвавшийся наружу острый запах старого сырого дерева. На нижней полке скрючился рулон ковровой дорожки – э-хе-хе, бабушка ее все-таки не выбросила, заныкала втихаря. Вера улыбнулась. Пописай, доченька, на дорожку, – сказал ей тогда папа, а она растерянно спросила – вот прямо на эту, на красную? Ей тогда, наверно, года три было. Надо бы не забыть Даньке эту историю рассказать…
Ой, а что это там блестит в глубине – мать честная, ступка и пестик! Им же лет сто, не меньше, она не может их здесь оставить! Ага, а куда ты их денешь, дорогая? Они же целую тонну весят! В чемодан уже не влезут, а в самолет тебя с этим добром не пустят: этой штукой череп проломить – раз плюнуть. Вера погладила холодный металлический бок, прикрыла глаза: какой же это божественный аромат – растертого чеснока с салом и петрушкой! А потом все это невероятное благоухание в горячий борщ, да под крышку, ммм! Может, все-таки взять? Так, все, хватит, остановись. И так чемодан того и гляди лопнет. И посыплются на выцветший паркет семейные реликвии. Выпрыгнут миниатюрные статуэтки из красного дерева – папа в комиссионке на последние деньги купил, ох, как мама его тогда ругала… Зазвенят почерневшие серебряные ложки – их всего пять, шестая исчезла бесследно, на кого только не грешили… Пугливо озираясь, выглянут ее первые ботиночки на шнурочках. С грохотом вывалится папин молоток с чернильной надписью по всей рукоятке: «Моя первая работа. 1958» – папе тогда всего семнадцать было. Заблестит фарфоровым пузом китайский Будда – дедушка в пятидесятых из Китая привез…
А дома и поставить некуда. Надо бы на даче какой-нибудь уголок памяти соорудить, старые фотографии повесить. «Кто это за пианино?» – спросит Данька, а я отвечу: «Это твоя бабушка, она была музыкантом, жаль, не успела про тебя узнать, разминулись вы с ней немного. Красавица, да? А вот эта блондинка с буклями и суровым взглядом – это твоя прабабушка. Ох и непростой у нее был характер, да что уж греха таить, сука была редкостная. Все повторять любила: сложно тебе будет жить, Верочка! Как накаркала, карга старая. Ну ладно, о мертвых либо хорошо, либо… А это, Данька, твой прадедушка, он огромные печи строил, чтобы металл плавить. Мне всего два месяца было, когда он умер, у него потом в кармане крохотные носочки нашли…»
Так, все, теперь точно пора, вдохнуть поглубже, дверь балкона закрыть, на стену слева не смотреть – там три гвоздя сиротливо торчат, того и гляди в сердце воткнутся. А вот и такси приехало, надо присесть на дорожку. Свет выключить, газ перекрыть, ключи в почтовый ящик. И только не реветь, только не реветь, только не реветь…
Александр Дымов. Стрик обедника к лету
Я учусь паять по ночам, читаю закон Ома для полной цепи. Курю трубку, найденную в радиорубке. Ветер дует справа, я прижимаюсь к левой стороне оконной рамы и преграждаю путь сизым струйкам едкого дыма. Ветер дует слева, я прижимаюсь к правой стороне. Я редко справляюсь, и Сомов орет:
– Немедленно прекрати дымить, иди курить на улицу.
«На улицу я не пойду, – шепчу я, – меня там медведи съедят».
Мы прилетели в марте.
Когда вместо тысячи озер, рассыпанных жемчугом на матовом зеркале тундры, в иллюминаторе появился залив, я понял, что чайки будут, я всегда хотел, чтобы чайки были – одна, две – для красоты. А тут целая свора. Галдят и дерутся с воронами возле мусорных баков.
Вертолетная площадка далеко от станции, снаряжение волочим на санях. Первая ходка по пояс в сугробах, тяжелый рюкзак валит на бок.
Сомов пошел на метеоплощадку, вернулся очень недовольный, в руках у него два прибора, покрытых льдом.
– Забыл посмотреть направление ветра, – бросил в мою сторону, – сходи, глянь.
– Ветра? – удивился я, – ветер дует налево, вон туда, – я уверенно вскинул руку в темноту.
Под пристальным взглядом Сомова я не осмелился развернуть в направлении ветра еще и указательный палец.
– В радиорубке есть морской справочник, – говорит Сомов, громыхая ботами на крыльце, – почитай на досуге.
– Это типа – норд-ост?
– Это типа – стрик обедника к лету.
Что сказал, что сказал? Фиг его знает.
Так и есть, в радиорубке единственная книга не про электричество – это морской справочник.
Уже апрель. Я продолжаю курить, Сомов продолжает орать. Дует восточный ветер, я перемещаюсь к левой раме. Дует западный – к правой. Когда дует долгожданный северный ветер, я гордо стою на месте, наблюдая безуспешные попытки дымных колец вернуться в окно.
Смог бы я смотреть кино про полярников? Да, наверное, смог. Всего-то полтора часа. Что для меня полтора часа: почистил рыбу, картошку, морковку, лук. Пошел за водой с эмалированным ведром, у которого постоянно выскакивает самодельная дужка. Ведро брякает о камни, все чайки поворачивают головы и галдят хором: «Ты что, балбес, не можешь дужку зажать плоскогубцами в ушке? – отчетливо разбираю я, – сколько можно, нам, умным птицам, повторять тебе?» Сдается мне, это кино могло быть комедией.
Вот и все полтора часа, а дальше надпись на экране: «Конец». И титры со знаменитыми сценаристами, режиссерами, артистами. Много их, разные, музыка жалостливая. Так вот, нет. В титрах только я и Сомов. Конец.
По всей метеостанции я нашел уже семь компасов. Когда сквозняк хлопает дверью, компасы, опомнившись, начинают рыскать носами, два из них в поисках «С», остальные в поисках «N».
Я разучиваю названия ветров и пишу в дневнике: «Когда дует «норд-ост-тень-ост», я прикрываю левую раму, когда дует «зюйд-вест-тень-вест», я прижимаюсь к правой. Но жду всегда «зюйд-ост».
Запись в дневнике: «13.06.1976 года. Я курю в окно, когда дует «стрик полуношника к северу», я бросаюсь к левой раме и даже выдыхаю навстречу седым завитушкам, пытающимся прорваться к Сомову. Когда дует «стрик шалоника к западу», я кидаюсь к правой раме. И так до бесконечности».
Запись в дневнике: «Сегодня 20.06.1976 года. Вторник. Ура! Весь день дует «стрик обедника к лету». Я гордо стою у окна, за мной хлопает штора полным парусом, наконец-то, осталось поднять якорь и пуститься прочь от этого берега, прочь из этого сумасшедшего дома, прочь – в направлении лета. В направлении – «стрик обедника к лету». Надо взять с собой Сомова, который гремит кастрюлями за спиной. При этом направлении ветра ему всегда можно стоять у открытой двери. Теперь у нас один путь – к лету, к другому лету. И у меня кончился табак».
– Слышь, Сомов, у меня табак кончился!
Сомов делает приемник потише, значит, сейчас будет говорить:
– Алексей, скажи, а ты зачем в журнале ставишь 1976 год?
– Я ошибаюсь, Анатолий Палыч, постоянно ошибаюсь, а какой сейчас год на самом деле?
«Я пишу “1976”, чтобы всегда чувствовать, когда меня еще не было и когда я уже был», – думаю я – про себя, о себе.
Сомов – человек в свитере. Если приедут репортеры, им придется разговаривать только со мной, потому что с Сомовым говорить не о чем. Нет, не так. С ним разговаривать не получится. Опять не так. Он не собирается ни с кем разговаривать. Репортеры спросят меня: «А расскажите о вашем начальнике». Без спросу я не решусь, я пойду и спрошу: «Анатолий Павлович, можно я скажу, что вы человек в свитере?» – и Сомов ответит мне: «Да, можно, тебе можно». Я приду и скажу: «Товарищи репортеры, мой начальник Сомов – это человек в свитере».
Для Сомова свитер – это не одежда, это броня. Если меня свитер защищает от холода, то Сомова он защищает от мира: от тещи – генерала, от жены – профессора, или наоборот. Я не помню. А я хожу в свитере зря, без толку я хожу в свитере.
А пока я голый.
Если репортеры скажут: «Хорошо, – Сомов человек в свитере, а почему же вы голый»? А я отвечу: «Товарищи женщины! Термех, английский, бабы всякие. Я одеваться не успеваю, так и хожу голый по вашему дурацкому городу, потому и сбежал сюда – на Красное море».
«На Карское», – поправят они меня.
Да какая разница, товарищи женщины! Мне все равно.
Анна Савельева. Хронос и Кайрос
Кайрос сидел у окна в вагоне первого класса и наслаждался открыточными видами Швейцарии.
День был ослепительно ярким, и Кайрос пожалел о том, что не взял солнечные очки, они бы пригодились даже в вагоне. Широкие видовые окна не ограничивали перспективу, и взгляд жадно хватал сразу все – праздничное синее небо, высокую линию Альп, искрящееся озеро, вдоль которого была проложена железная дорога, римские арки моста, замки-крепости, проносившиеся мимо. Непривычная их красота волновала Кайроса, заставляла глубже дышать, как будто ее можно было вдохнуть, вобрать в себя.
Жаль, что ехать так недолго. Через сорок минут поезд прибудет на вокзал Берна, там его встретит брат, и они сразу поедут к нему в офис. Кайрос любил эти ежегодные декабрьские встречи, когда они с Хроносом подводили итоги года. Хронос давно уже перевел свою штаб-квартиру в Берн, сейчас и не вспомнишь, был ли тогда этот город часовой столицей мира или стал в результате переезда Хроноса. Сам Кайрос по-прежнему обитал в Греции, на островах. Время там течет неторопливо, никто его не считает, Кайрос мог его растягивать и сжимать как угодно, никто этого не замечал. Люди там ориентировались по солнцу и своему аппетиту, встречи назначали «в полдень» или «перед ужином». Никто никогда не опаздывал и не торопился. Как раз об этом Кайрос и размышлял, удобно откинувшись на сиденье, – никто не опаздывал в Швейцарии, где люди фанатично следили за временем, и никто не опаздывал в Греции, где вообще на часы не смотрели. Парадокс.
Традицию подводить итоги в конце года придумал, конечно, Хронос, и дату назначал всегда он. В зависимости от года, начинать разговор можно было днем раньше или позже, но завершить нужно было обязательно 20 декабря, в последний день перед зимним солнцестоянием. Раньше люди верили, что солнце каждый год умирает и 21 декабря рождается заново. Новое солнце – новый год.
Поезд прибыл точно по расписанию, братья встретились, тепло обнялись. Хронос оглядел брата с головы до ног и покачал головой. Мальчишка, никакой солидности, богам так выглядеть не положено!
– Как ты одет, зачем борода, что еще за новости?
Кайрос засмеялся, положил руку брату на плечо и повел к выходу:
– Во-первых, носить бороду опять стало модно, ты в своем безупречном расписании вообще настоящей жизни не видишь, а она, брат, меняется. И во-вторых, так теплее. Лысина мерзнет, так хоть шее тепло!
– А часы? Ты носишь те, что я подарил? Опять пластиковый браслет вместо часов! Хронос брезгливо смотрел на iwatch. Какой смысл каждый год покупать новую ерунду? Вот это часы – он отодвинул рукав пальто и показал свои – механика, ручной завод, вечный механизм!
Братья прибыли в офис. Кайрос сбросил куртку и упал в свое любимое кресло. Хронос держал его специально для Кайроса. Оно было удобное – широкое, кожаное, глубокое. Остальные кресла соответствовали общему интерьеру – высокая спинка, английский гобелен, деревянные резные подлокотники. Хронос снял пальто, аккуратно повесил его на плечики, убрал в шкаф и сел.
– Ну, рассказывай, как успехи?
– Даже кофе не предложишь? – Кайрос забросил ноги на специальную табуреточку, кивнул в сторону книжного шкафа. – Успеваешь читать?
Хронос распорядился принести кофе. По старой привычке перевернул маленькие песочные часы на своем столе. Все нужно контролировать. – Да, конечно, наших перечитываю. Герона Александрийского и Евклида.
– Так сгорели же их труды, в Александрии…
– Не все… – Хронос хитро сверкнул очками. – Иногда полезно не возвращать книги в библиотеку вовремя… Но давай к делу. Начнем с меня. В этом году дела идут хорошо. Акции фармацевтических компаний растут, вкладываюсь в генетику, нейробиологию, нанотехнологии. Люди стали жить дольше, и будут еще дольше, растет качество жизни. Лоббисты из пенсионных фондов немного мешают, но это ничего, справляюсь. Интересуюсь также новыми технологиями и материалами, сейчас вот думаю о полимерах.
Кайрос хохотнул:
– Брат, ты слышишь себя? Читаешь Герона и интересуешься полимерами. Ну ты даешь!
– Это почти одно и то же. Если бы труды древних ученых не сгорели, люди давно бы уже пользовались такими средствами и облегчили свою жизнь. Скоро я окончательно заменю ручной труд высокими технологиями, и люди смогут меньше работать.
– И чем они будут заниматься, эти неработающие долгожители? – Кайрос недовольно посмотрел на брата.
– А это вопрос уже к тебе. Рассказывай, чем людей радуешь.
– Да ты знаешь, люди не меняются, радуются простым вещам. Теплу, хорошей еде и вину, близости и пониманию, это я все легко могу организовать, не проблема. Вот что я не могу, и чего они хотят больше всего – это достижений. Личных достижений. Героически преодолевать сложности, бороться, творить, создавать. Если им все изобретения принести готовыми, на тарелочке – опять воевать пойдут, от нечего делать. Поэтому, ты знаешь, я думаю, не надо им пока нанотехнологии и полимеры. Пусть пока сами помучаются, подостигают?
– Но как, я уже запустил производство, у меня уже бюджет сверстан…
– А ты поставь управлять самыми сложными областями каких-нибудь бессмысленных товарищей, которые Герона твоего не читали, они прекрасненько все дело тебе загубят. Понимаешь, нельзя людям без сложностей, пропадут. Ну что там, кофе будет?..
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































