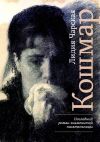Текст книги "Большая книга новогодних историй для девочек"

Автор книги: Лидия Чарская
Жанр: Детская проза, Детские книги
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
– А то скажу?… – рассердилась было Анют-ка. – И глупа же ты, Ганька, как колода дубовая, ежели думаешь такое про меня! Что я тебе, Танюшка далась, что ли? Одной Марье Петровне скажу… Побожиться велю, чтобы не скандалила из-за тебя с Розкой, а все расскажу как есть, и как была она у тебя, и куда ты побегла… Марья Петровна добрая! Она для нас во-расшибется – не выдаст ни за что!
– Не выдаст! – убежденно отозвалась Ганя и погрузилась в новые, теперь уже сладкие и такие несбыточные, как ей теперь казалось, мечты.
* * *
Было около половины седьмого утра, когда маленькая, тщедушная фигурка выскользнула из двери черного входа модной мастерской мадам Пике и, спустившись по лестнице, прошмыгнула во двор.
Пробежать до ворот и выйти на улицу было для Гани делом одной минуты.
На улице горели фонари и было холодно колючим утренним холодом, который бывает в начале зимы. Ганя крепче закуталась в свой байковый платок, который заменял ей ее подбитую ветром драповую кофточку, оставленную у мадам. Никто, кроме Анютки, не знал об ее уходе. Выбежала она сразу после того, как ее сообщница Анютка побежала в булочную, так что никто ее не заметил. С этой стороны все было благополучно. Ганя боялась другого… Ну, как она нежданно-негаданно придет в чужой дом и станет просить приютить себя Ольгу Леонидовну? И что если Ольга Леонидовна больна настолько, что к ней не пустят Ганю? Ганя несколько раз была в уютной и нарядно обставленной квартире артистки. Она бегала туда с заказами по поручению madam Пике или Розы Федоровны. Хорошо знала она и молоденькую франтоватую горничную Ольги Леонидовны Катюшу и степенную, важную кухарку «за повара» Анисью Васильевну. Они обе частенько угощали Ганю чаем, когда та прибегала с поручениями из мастерской. И дорогу туда Ганя знала прекрасно. Не позднее как через полчаса она уже поднималась по черной лестнице, ведущей к задней половине квартиры, занимаемой Бецкой, и остановилась перед закрытой дверью черного входа.
«Спят, поди, еще все, и прислуга тоже. Анисья Васильевна к восьми только поднимается и идет на рынок, – вспомнила девочка, – а Катюша-то и до девяти часов иной раз прохлаждается в постели. Торопиться ей некуда, Ольга Леонидовна раньше одиннадцати никогда не встает. Надо подождать на лестнице, пока они сами дверь откроют», – решила она и тут же, присев на приступку, стала подробно обдумывать все то, что она решила сказать Ольге Леонидовне, как просить и молить о милости добрую артистку.
«Буду Христом-Богом заклинать ее взять меня хоть на самую что ни на есть черную работу – полы мыть, на посылках бегать, грязь убирать на кухне. Все едино, что ни придется, работать буду, только бы она, голубушка, не погнала меня от себя! Только бы при себе держала!» – решила девочка. Уже самая мысль о том, что, может быть, ей, Гане, предстоит от нынешнего дня ежедневно видеть ее «голубоньку Ольгу Леонидовну», жить под одной кровлей с нею, так воодушевила девочку, такую радость влила ей в сердце, что мигом были забыты и перенесенные ею накануне жестокие побои, и обиды, и угрозы «страшной Розки». Милый образ Бецкой заслонил собою все, и Ганя сладко замечталась теперь о предстоящем ей райском житье вблизи Бецкой, и эти мечты закружили в сладком вихре горячую головку ребенка…
– Никак Ганюшка? Что ж это ты тут примостилась, девочка, и на кухню не идешь?
И небольшая дородная фигурка кухарки Анисьи Васильевны предстала перед Ганей.
– Ты от мадамы, что ли? – спросила ее женщина.
Вся кровь бросилась в лицо Гани. Она замялась и, смущенно теребя пальцами бахрому платка, прошептала робко:
– Да… нет… я, Анисья Васильевна, к Ольге Леонидовне… по своему делу я… – и умолкла, жестоко краснея в тот же миг.
– Эвона! Когда хватилась! – громко воскликнула кухарка, ударяя себя полными руками по бедрам. – Да Ольга Леонидовна еще вчера утром за границу укатила. На всю зиму, на все лето, осенью, сказывала, вернется только. На год, почитай. Так это ее болезнь скрутила сразу, сердешную, что доктора сейчас, это, ее и погнали из здешней слякоти в теплые края. Потому что здесь она беспременно пуще расхворалась бы, ежели бы хоть неделю осталась, а там-то и погода, и страна другая… Солнце, говорят, море теплое и всяких таких удовольствий вдоволь. Ну вот, она живым манером собралась и покатила. В два дня, никак. С театром своим контракт нарушила, неустойку в несколько тыщ заплатила… Что ей? Она богатая… Так-то, милая, не увидишь ты до самой до будущей, значит, осени, своей заказчицы! А мы с Катей, так и вовсе не увидим, пожалуй. Потому на другие места поступаем. И квартиру передаем. И билетики у ворот уж наклеены. Как сдадим, так, значит, мебель в склад, а сами на другое место. Вот какие дела у нас нынче пошли, девонька! – заключила тяжелым вздохом свою речь словоохотливая стряпуха.
Отворилась дверь и из нее выглянула заспанная физиономия Катюши.
– Анисья Васильевна, кофей готов… Пить ступайте… А, Ганя! Вот кстати-то… Ступай и ты, с нами побалуешься горячим кофейком! Да что это, ровно лица на тебе нет, девочка? Больна ты, или обидел кто? – тревожно присовокупила она, взглянув на белое как снег личико Гани.
С первых же слов Анисьи Васильевны об отъезде Бецкой какой-то темный туман поднялся перед глазами девочки и понемногу окутал и говорившую с ней словоохотливую стряпуху, и дверь, и лестницу. Все гуще и гуще делался этот туман с каждой секундой, в то время как все тело Гани стало вдруг странно тяжелеть, словно наливаться свинцом. Шум, звон, какие-то несуществующие крики зазвучали в ее ушах, и внезапно поплыло перед ней и добродушное лицо дородной кухарки, и лестница, и дверь, и выглянувшее в последнюю минуту сознания лицо Катюши…
Как-то странно взмахнула обеими руками, точно птица крыльями, Ганя и, зашатавшись, упала на руки подоспевших к ней Анисьи Васильевны и Катюши.
Пережитые за истекшие сутки волнения, перенесенное жестокое наказание и последний, самый сильный удар – неожиданный отъезд Бецкой возымели свое действие. Не выдержал потрясений хрупкий организм ребенка, и девочка лишилась чувств.
* * *
Уже третий день лежит без признаков сознания Ганя в чистенькой, скромной по убранству комнате горничной Катюши. И Катюша, и Анисья Васильевна приняли горячее участие в заболевшей девочке.
Из своих скудных средств обе они лечили ребенка. Был позван доктор, куплено лекарство. Поили всякими микстурами и кормили порошками не приходившую в сознание Ганю, но ничего не помогало. Состояние больной ухудшалось с каждым часом. Девочка бредила и металась в жару по постели. Из отрывистых фраз ее обнаружилась пережитая маленькой сиротой тяжелая драма. Разрезанный ненароком дорогой лиф… Жестокое наказание… Угрозы «страшной Розки»… И опять предстоящие наказания в случае если не простит ее, Ганю, Мыткина – все это срывалось в одном общем хаосе криков и стонов с запекшихся губ девочки.
– Изверги! Злодеи! Мучители! До чего довели ребенка! – утирая передником слезы, говорила сердобольная Анисья Васильевна, прислушиваясь к этим отчаянным крикам.
– В больницу бы ее надо, сердешную, не померла бы у нас! – первая заикнулась Катюша. – Да и мадаме, хозяйке ейной, дать знать надо! Еще скажет, укрыли мы беглую девочку у себя.
– Как бы не так! Смеет она сказать это! – разразилась негодующая стряпуха. – Да ее самоё, подлую, с живодеркой Розкой этой в полицию предоставить надо за истязания ребенка… Да я ее! – тут негодующая речь обрывалась, и добродушная толстуха неслась, насколько ей только позволяло ее дородство, к мечущейся в жару Гане.
– Болезная ты моя! Бедняжка ты моя! И нет у тебя родителев, которые бы поплакали над тобою! – причитала она, склонясь над пышущей жаром Ганей.
Приглашенный во второй раз врач посоветовал Ганиным случайным благодетельницам отправить девочку в больницу.
– Там и уход лучше, и доктора, и лекарства под рукою, следовательно, и больше причин ожидать выздоровления, – убеждал он запротестовавших было женщин.
В тот же день закутанную в теплую шубку Катюши Ганю Анисья Васильевна вместе с горничной отвезла в ближайшую больницу. А вечером обе они были уже в мастерской мадам Пике.
О чем говорили с хозяйкой и с ее помощницей обе женщины, не слышал никто из мастериц. Но по возбужденным красным и взволнованным лицам всех четверых, когда они вышли из комнаты, было видно, что объяснение это носило далеко не мирный характер. Уходя, Анисья Васильевна суровым голосом упрекала в чем-то «саму» и старшую закройщицу, упоминала покойную Зину и как будто грозила даже. А «сама» и Роза Федоровна отвечали ей дрожащими голосами, в чем-то убеждали, в чем-то оправдывались – как, по крайней мере, шепотом передавали друг другу находившиеся в мастерской работницы.
Едва только закрылась входная дверь за неожиданными и далеко не приятными для хозяйки мастерской посетительницами, как со своего обычного места за рабочим столом поднялась мастерица Марья Петровна и торопливой походкой прошла в помещение хозяйки. А через минут пять до насторожившихся девушек долетел повышенный голос «самой», скрипучие ноты Розки и ломкий, прерываемый кашлем, высокий говор Марьи Петровны.
Разумеется, о работе нечего было и думать. И мастерицы, и их помощницы, и даже девочки побросали работу и жадно прислушивались к тому, что происходило за дверью.
Но вот внезапно стихли голоса, и на пороге мастерской появилась бледная, с горящими глазами, с резкими пятнами чахоточного румянца, выступившими на лице, Марья Петровна.
– Прощайте, девицы, – заговорила она своим слабым, высоким голосом, – не поминайте лихом, ухожу я отсюда, к другой хозяйке поступаю. И сама ухожу, и Ганю к себе возьму, если суждено ей выздороветь только. Авось, там, где пятеро человек сыты, и шестая прокормится, Бог поможет сироте! – и горячо распростившись со всеми работницами, Марья Петровна, не дожидаясь часа окончания работы, быстро покинула мастерскую.
Бог действительно помог сироте, и Ганя выздоровела. Тот день, когда она, впервые почувствовав заветное облегчение, открыла сознательные глаза, первое лицо, замеченное ею у постели, было лицо Марьи Петровны. Девочка сердечно обрадовалась приходу мастерицы, а когда та объявила ей радостную весть о том, что берет ее к себе на помощь старухе-матери для надзора за ее детьми и ведения несложного хозяйства, Ганя бросилась на шею к доброй женщине и разрыдалась счастливыми, облегчившими ее настрадавшуюся душу слезами.
С этой минуты заметно пошло на поправку здоровье девочки. Через неделю она уже разгуливала по больничной палате в сером халатике выздоравливающей, а еще через месяц уже хлопотала в крошечной квартирке Марьи Петровны среди ее четверых детишек и старухи-матери, очень ласково относившихся к любому члену семьи.
Должно быть, доброе дело, совершенное Марьей Петровной, не прошло втуне. С той минуты, как поселила добрая мастерица у себя Ганю, приятная новость в виде полученного Марьей Петровной прекрасного, хорошо оплачиваемого места заставила облегченно вздохнуть бедную труженицу.
Прибавился доход – облегчилась жизнь. Теперь увеличившаяся семья мастерицы могла себе позволить некоторую роскошь даже в виде поездки на дачу, в деревню. Сняли недорогую избу и поселились в ней. Марья Петровна даже взяла отпуск на месяц у своей новой хозяйки, особенно дорожившей знающей и трудолюбивой мастерицей, и занялась самым энергичным образом своим лечением.
Ганя вполне оправилась и поздоровела на чудном деревенском воздухе. После тяжелой жизни у мадам Пике ее пребывание в семье Марьи Петровны среди двух ласковых, добрых женщин и обожавших ее ребятишек казалось ей настоящим раем. И когда осенью она снова вернулась в город, забежавшая как-то к ней мимоходом по дороге в Гостиный двор Анютка едва узнала в загоревшей и на диво поправившейся девочке свою прежнюю слабую и болезненную подругу.
Между прочим, Анютка рассказывала удивительные вещи Гане. С самого дня побега Гани из мастерской как-то странно и резко изменились отношения «самой» и Розки к ее работницам и ученицам. Прежние крики и брань затихли. О побоях и щипках и говорить уже нечего – они совершенно исчезли из обихода старшей закройщицы и хозяйки. Сама «страшная Розка» круто изменилась и притихла. «Говорят, им от полиции вышло какое-то предостережение, чтобы, значит, не мучить нашу сестру, а не то прикроют мастерскую ейную», – захлебываясь горячим кофе, гостеприимно предложенным ей бабушкой, матерью Марьи Петровны, рассказывала Анютка.
И рассказывала, кстати сказать, совершенную правду. Испугалась ли хозяйка со своей помощницей могущих снова возникнуть недоразумений со дня побега и болезни Гани или же действительно получила предостережение от администрации, но только с этого дня заметно улучшилась жизнь бедных маленьких тружениц модной мастерской мадам Пике.
Приключения Таси
Святочная повесть

Глава первая
Почему сердятся на Тасю. Виноватая. Странный подарок. Маленькие гости. Ссора
Золотые лучи июльского солнца заливают комнату. Окно в сад раскрыто настежь, и в него тянутся ветки шиповника, покрытые душистыми розовыми цветами.
Черноглазая девочка, с капризно надутыми губами и сердито нахмуренными бровями, пишет, потешно прикусив кончик высунутого языка.
Гувернантка, низко наклонив голову над книгой и сощурив близорукие глаза, громко диктует, отделяя каждое слово: «Послушание и покорность есть самое главное достоинство каждого ребенка».
Оторвавшись на мгновение от книги, она говорит девочке:
– После «ребенка» надо поставить точку. Вы написали, Тася?
Девочка бурчит что-то себе под нос, потом отбрасывает перо и кричит на всю комнату:
– Я посадила кляксу, мадемуазель! Я посадила кляксу!
– Тише! – строго останавливает ее гувернантка, – не кричите же так, я не глухая. Приложите промокательную бумагу и пишите дальше.
– Я не хочу писать! – решительно заявляет девочка и отшвыривает тетрадь в сторону.
– Но вы должны заниматься, Тася, – чуть повышая голос, возражает Марья Васильевна. – Ваша мама желает, чтобы вы писали под диктовку ежедневно.
– Неправда! – горячится девочка. – Мамаша добрая и не захочет мучить бедную Тасю, а это все вы сами выдумали! Да, да, да! Сами, сами, сами!
Потом, придвинув к себе тетрадь и обмакнув перо в чернильницу, она неожиданно согласилась:
– Хорошо! Диктуйте! Я буду писать, раз вы требуете. Диктуйте, только поскорее! – Глаза девочки плутовато блеснули.
– Так-то лучше, – смягчилась Марья Васильевна.
Она подняла к глазам книгу и снова принялась диктовать:
«Послушный ребенок – это радость для окружающих, – его все любят и стараются сделать ему как можно больше приятного…»
В комнате воцарилась тишина. Только мерно раздавался голос Марьи Васильевны да скрип пера, бегающего по бумаге. Тася, склонив голову набок, теперь усердно выводила что-то пером на страницах тетради.
– Закончили вы, наконец, Тася? – обратилась Марья Васильевна к своей воспитаннице.
– Да, мадемуазель! – С самым смиренным видом Тася протянула ей тетрадь.
Гувернантка по привычке приблизила тетрадь к самому лицу и хмыкнула.
На странице тетради был довольно сносно нарисован брыкающийся теленок, под которым Тася старательно вывела: «Самый послушный ребенок в мире»… Внизу сидела огромная клякса, к которой изобретательная Тася приделала рожки, ноги и руки, и получилось нечто похожее на те фигурки, которые называются «американскими жителями» и продаются на Вербной неделе.
Тася была в восторге от своей затеи. Она схватилась за бока и рассмеялась.
Но Марья Васильевна не смеялась. Она высоко подняла руку со злополучным листком, и, помахивая им, как флагом, двинулась к двери.
– Прекрасно! Прекрасно! – повторяла она раздраженно. – Чудесный сюрприз приготовили вы вашей мамаше ко дню ее рождения!
Еще раз взмахнув листком, она вышла из комнаты, сильно хлопнув за собою дверью.
Тася слышала, как вслед щелкнула задвижка, как повернулся ключ в замке, – и девочка поняла, что она снова наказана.
* * *
Солнце по-прежнему ласково сияло, по-прежнему розовый шиповник тянулся в окно, но девочке уже было не так весело, как прежде.
Мамино рождение!.. «Приятный сюрприз»!.. Тася совсем забыла, что сегодня день маминого рождения. Совсем даже и не подумала приготовить подарок милой мамусе. А Леночка и Павлик, наверное, уже приготовили и будут гордиться этим перед нею, Тасей! Нет! Нет! Никогда! Ни за что! Она не оставит без подарка милую маму, которая прощает все проделки своей любимицы.
Как могла она забыть о ней, о милой мамочке!
И девочка, в знак своего негодования на саму себя, изо всех сил ударила по столу крошечным кулачком.
– Кар! Кар! Кар! – неожиданно послышалось за окном.
На ветке старой липы, росшей у дома в простенке между двумя окнами, сидела небольшая черная птица, едва оперившаяся, с желтым клювом и смешными, круглыми глазами.
Это был выпавший из гнезда птенец-вороненок, еще не умевший летать. Он беспомощно взмахивал крыльями, поминутно раскрывал желтоватый клюв и испускал свое: Как! Кар! Кар!
Тася сразу забыла и про день рождения мамы, и про злополучный рисунок, и про гнев Марьи Васильевны.
Она вскочила на стул, оттуда на стол, затем очутилась на окне и скоро исчезла в зелени липы. Карканье прекратилось, потом послышалось снова с удвоенной силой, и желторотый птенчик забился в руках Таси.
Совершенно позабыв о том, что на ней любимое мамино платье из белого батиста с нарядной кружевной оборкой, Тася, с ловкостью белки перепрыгивала с сучка на сучок и уже готовилась слезть с дерева под неистовое карканье обезумевшего от страха вороненка, как неожиданно ветка, на которую она опиралась, ушла из-под ноги девочки и Тася, перекувырнувшись в воздухе, вместе с ошалевшим вороненком шлепнулась в только что политые грядки огурцов и редиски.
* * *
Мама в своем нарядном розовом капоте «с пчелками», то есть рисунками пчелы, разбросанными по нежному розовому фону, сидела за утренним чаем.
Марья Васильевна старательно перетирала чашки, сидя за самоваром, и жаловалась на Тасю. Подле прибора мамы лежал злополучный рисунок, вырванный из учебной тетрадки. Лицо мамы было озабоченно.
Марья Васильевна говорила.
Тася невозможна. Тася непослушна. Тася дерзка. Конечно, она, Марья Васильевна, очень привязана к семье и любит Нину Владимировну, Тасину маму. Но… кажется, она не в состоянии больше воспитывать Тасю. Да и вряд ли кто возьмется за это. Самое лучшее отдать ее в какое-нибудь учебное заведение. В ближайший город, например, где у двоюродного брата Марьи Васильевны есть пансион для благородных девиц. Девочки содержатся замечательно хорошо в этом пансионе: их там учат и воспитывают. Там и Тасю исправят, а домашнее воспитание для нее – погибель.
Окончив эту длинную речь, Марья Васильевна испытующе взглянула на маму.
Мама тоже посмотрела на Марью Васильевну, потом сказала:
– Вы простите, дорогая m-ll Marie, но Тася – моя слабость. Она, вы знаете, единственная из моих троих детей, не знала отцовской ласки: муж умер, когда Тасе была всего неделя, вот почему мою сиротку я старалась баловать и за отца, и за себя. Я понимаю, что Тася избалована, но я так люблю свою девочку, что не в силах обращаться с нею строго.
– Вот потому-то я и советую отдать ее туда, – вы слишком балуете Тасю, а в пансионе моего двоюродного брата с нею будут обращаться взыскательно, но справедливо. Это принесет ей только пользу, – убеждала Марья Васильевна.
– Знаю, – покорно согласилась Нина Владимировна, – очень хорошо знаю… Но что поделаешь! Я слабая мать. Простите мне мою слабость, а заодно простите и Тасю. Сегодня день моего рождения, и мне бы хотелось, чтобы девочка была счастливой в этот день.
– Как вам угодно Нина Владимировна! Я говорила это только потому, что от души желаю добра вам с Тасей.
– Вполне верю, моя дорогая, и даю вам слово с сегодняшнего дня следить за девочкой особенно строго. Если поведение Таси окажется не поддающимся исправлению, – что делать! Я отдам ее куда-нибудь…
И Нина Владимировна тяжело вздохнула.
В ту же минуту дверь на террасу широко распахнулась, и двое детей – мальчик и девочка – со всех ног кинулись к матери.
– Мамуся! Душечка наша! Поздравляем тебя! – в один голос кричали они, бросаясь обнимать и целовать Нину Владимировну.
Старшему из детей, Павлику, уже минуло четырнадцать лет. Это был плотный, коренастый мальчик, в кадетской блузке с красными погонами, в форменной фуражке, лихо сдвинутой на затылок. Его открытое лицо было почти черно от загара, и весь он дышал силой и здоровьем.
Сестра его, белокурая девочка, болезненная и хрупкая, казалась много моложе своих одиннадцати лет. Лену постоянно лечили то от того, то от другого. Ради нее-то и проводила Нина Владимировна безвылазно зиму и лето в своем имении Райское. Доктора запретили Леночке жить в городе, и про городские удовольствия дети знали лишь понаслышке.
Райское находилось в самой глуши России, и до ближайшего города было около ста верст. Один Павлик воспитывался в Москве, в корпусе, и приезжал к матери только на каникулы.
Девочек Стогунцевых учила гувернантка, а сельский священник преподавал им Закон Божий. Нина Владимировна, зная в совершенстве французский и немецкий, учила языкам дочерей.
Кроме Нины Владимировны, Марьи Васильевны и детей, в доме находилась вторая нянюшка, выходившая саму хозяйку дома и теперь помогавшая Марье Васильевне присматривать за детьми.
Со смертью мужа, которого она очень любила, Нина Владимировна Стогунцева отдавала все свое время сиротам-детям. Она души в них не чаяла, особенно в Тасе, которую вконец избаловала.
– Вот тебе мой маленький подарок, мамуся, – немного сконфуженно говорил Павлик, вытаскивая из-за спины что-то тщательно обернутое в бумагу.
Нина Владимировна осторожно развернула пакетик и увидела красиво переплетенную записную книжку, работы Павлика.
У Павлика были золотые руки. За что он ни брался, все у него выходило споро и красиво. И трудолюбив он был, как муравей: то огород разводит, то коробочки клеит, то сено убирает на покосе или рыбу удит в пруду.
Нина Владимировна поцеловала своего сынишку, и глаза ее обратились к Леночке, которая, в свою очередь, подала матери искусно вышитый коврик к кровати.
Мама обняла свою старшую дочку, всегда радовавшую ее своим послушанием и добрым, кротким нравом.
– А Тася что же? Или она уже поздравила тебя, мамуся? – спросила Леночка.
Но никто не успел ей ответить, потому что сама Тася появилась на пороге.
Но в каком виде!
Нарядное белое платье с кружевным воланом было грязно до неузнаваемости. Целый кусок оборки волочился за нею в виде шлейфа. Волосы растрепаны. На лбу огромная царапина, а кончик носа измазан землею, как это умышленно делают клоуны в цирке.
– Мамочка! Милая! Дорогая! – кричала она с порога. – Поздравляю тебя! Ты не бойся, мамуся… Это ничего. Я только упала с дерева… С липы, знаешь?.. Мне не больно, право же, не больно, мамочка. А платье замоют… Я няню попрошу… Ну, право же, мне вовсе, ну ни чуточки не больно!
– Прекрасное поведение! – заметила Марья Васильевна в то время как Нина Владимировна с тревогой вглядывалась в чумазое личико проказницы.
– Тася! Тася! Ну, можно ли так! – говорила она. Но Тася твердила одно:
– Мне не больно, я не ушиблась! Да право же, – и покрывала поцелуями лицо, шею и руки матери.
– Ведь вы были наказаны! Как же вы осмелились выйти из комнаты? – строго спросила девочку Марья Васильевна.
– Да я и не думала выходить из комнаты, – бойко отвечала та, – я просто из окна вылезла на липу, а с липы сверзилась прямо в грядки. Не больно совсем.
– Тася! Тася! Что с тобою? Я не узнаю мою девочку! – произнесла укоризненно Нина Владимировна. – Сейчас же попроси прощения у Марьи Васильевны! – добавила она с непривычной строгостью в голосе.
– Мадемуазель, простите! – буркнула Тася, не глядя на гувернантку.
– Ваша мамаша добра, как ангел, а вы так огорчаете ее! – отвечала гувернантка. – А подумали ли вы о вашей маме? Павлик и Леночка приготовили свои сюрпризы, а вы?
– Сюрприз! Ах! – растерялась Тася.
Она стояла с низко опущенной головою. Потом вдруг лицо ее просияло, и Тася радостно бросилась на шею матери.
– Душечка мамуся! Если б ты знала, как я люблю тебя! Я не умею клеить коробочек и переплетать книг, как Павлик, или вышивать коврики, как Леночка, но зато я отдам самое дорогое, самое любимое, что у меня есть. Мне «он» так понравился, что я бы с ним никогда, никогда не рассталась, но тебе я его подарю, потому что я тебя еще больше люблю, душечка мамаша!
Она запустила руку в карман, и перед удивленной Ниной Владимировной, подле ее чайного прибора, очутилось смешное желторотое и длинноклювое существо с едва отросшими пушистыми крыльями.
Нина Владимировна невольно отодвинулась от стола. Марья Васильевна взвизгнула от неожиданности. Леночка кинулась под защиту Павлика, надеясь на его кадетскую храбрость. Словом, произошел переполох. Один Павлик храбро подступил к вороненку и кричал: «Кш! Кш!!!» – махая фуражкой.
А виновник суматохи, вороненок, испугавшись всей этой кутерьмы, совсем растерялся. Он недоумевал с минуту, потом неожиданно встрепенулся и с решительным видом заковылял по скатерти, опрокидывая по пути чашки и стаканы. Мимоходом попал в сахарницу, выскочил из нее, как ошпаренный, наскочил на лоток с хлебом и в конце концов очутился в крынке с молоком, уйдя в нее по самую шею.
Теперь из молока торчала только круглая голова с желтым клювом, из которого вылетало неистовое «Кар! Кар! Кар!»
Глаза несчастного птенчика стали еще круглее от ужаса.
– Он захлебнется! Он захлебнется! Спасите его! – кричала Тася и, недолго думая, запустила руки в крынку и извлекла оттуда своего приемыша.
Почувствовав себя на суше, вороненок разом пришел в себя. Он начал с того, что встряхнулся всем своим тельцем со слипшимися крылышками, сквозь которые просвечивала кожа, и снова заковылял по столу.
Это было до того забавно, что Нина Владимировна не могла сдержать улыбки. За ней захохотал во все горло Павлик. За мальчиком засмеялась Леночка. И, наконец, сама Тася так и закатилась громким смехом. Даже Марья Васильевна улыбнулась при виде потешной походки вымокшего птенчика.
Нина Владимировна не могла сердиться на Тасю. Как не странен был подарок ее младшей девочки – это был все-таки подарок и поднесен к тому же от души. Она погладила по голове свою проказницу-дочурку и сказала ей на ушко:
– Ты мне дашь слово, Тасенок, никогда не лазать по деревьям и вообще стараться удерживаться от шалостей и проказ. А вороненка твоего я беру охотно. Он такой смешной и забавный, а главное – он будет напоминать моей девочке о ее падении с липы и этим, может быть, предостережет ее от новых проделок. А теперь, друзья мои, – обратилась мама ко всем детям, – сегодня вас ожидает много приятного. Ваши новые друзья, дети Извольцевы и Раевы, будут у нас в гостях, а вы примите их хорошенько и постарайтесь быть добрыми хозяевами.
– Извольцевы приедут! Ура! – закричал на весь дом Павлик, подбрасывая вверх свою фуражку.
– И Тарочка! – вторила ему Тася.
– Ну уж твоя Тарочка! Забияка! – уколол сестру мальчик.
– А твой Виктор – глупый! – рассердилась та.
– Тася! Тася! – остановила девочку Нина Владимировна.
– Идите переодеваться, слышите! – строго приказала Марья Васильевна Тасе.
Та хотела буркнуть что-то по своему обыкновению, но, встретив взгляд матери, удержалась на этот раз.
– Не забудь пластырь наклеить… Нельзя же с таким лбом гостям показываться! – посоветовал сестре Павлик.
Тася рванулась было к брату. И снова добрый взгляд матери остановил ее.
* * *
Их было шестеро.
Сначала подъехал высокий фаэтон-долгуша с детьми Извольскими и их пожилой гувернанткой-англичанкой мисс Мабель.
Старший из детей был маленький, с завитой барашком прической паж Викторик, от которого нестерпимо пахло духами, так как он перед отъездом вылил на себя целую банку резеды. Викторик говорил по-французски и не снимал с рук белых перчаток. Его сестры, Мери и Нини, были очень похожи на двух фарфоровых куколок в своих пышных белых платьях с роскошными поясами и с туго завитыми по плечам локонами. С ними приехал их дальний родственник, хромой Алеша, круглый сирота, которого воспитывали в доме Извольских с самого раннего детства.
Вслед за чинными, выдержанными детьми Извольцевыми, поглядывавшими на всех с некоторым высокомерием, прикатили дети Раевы – брат и сестра, Тарочка и Митюша; она – пухлая, румяная девочка, шалунья и хохотунья, любимая подруга Таси; он – толстый карапузик, большой забияка. С ними приехала и их молоденькая француженка-гувернантка, не менее веселая и жизнерадостная, чем они.
– Вот потеха-то, – с порога кричала Тарочка, – нас чуть из кабриолета Лука не вывернул. Он ударил Красавчика, а Красавчик понес… и экипаж набок… Вот смеху-то было! M-lle кричит, Митюша бранится, а я хохочу, хохочу, хохочу!
– Ах, как страшно! – в один голос вскричали сестрицы Нини и Мери.
– Я не понимаю, что тут смешного, когда лошадь несет и экипаж на сторону, – пожал пренебрежительно плечами Викторик, взбивая рукою свои туго завитые волосы. – Если б наш кучер осмелился нас вывалить, я бы его проучил.
– Во-первых, он не вывалил, а во-вторых, ты не смеешь драться! – сказала Тарочка.
– Неприлично говорить «ты» старшим. Я старше вас, – Викторик наградил девочку негодующим взглядом.
– Ах, ты, фофан! – неожиданно расхохоталась Тася, и прежде чем маленький паж успел опомниться, она подняла руку и в один миг испортила его великолепную прическу, спутав тщательно завитые волосы.
– Как ты смеешь, невоспитанная девчонка! – сердито крикнул маленький пажик, в то время как его сестры Нини и Мери дружно испустили вопль негодования и испуга.
– Ах, скажите, пожалуйста, какая неженка! Велика важность – ему прическу смяли! – потешалась Тася, бойко поглядывая на остальных детей, как бы ища у них сочувствия.
– Девочка не должна так поступать. Это стыдно, – произнесла по-английски незаметно подошедшая мисс Мабель.
Но Тася не понимала английского языка. Да если бы и понимала, то не обратила бы ни малейшего внимания на замечание гувернантки. Она была вполне счастлива, потому что Тарочка и Митюша – ее закадычные друзья – восхищались ее проделкой, в то время как Павлик и Леночка старались успокоить разобиженного Викторика.
– Дети, обедать! Обедать скорее! – послышался голос Нины Владимировны.
И маленькие гости в сопровождении своих юных хозяев, двинулись в столовую.
Тася первая бросилась к столу, у которого хлопотала чистенькая симпатичная старушка в ослепительно белом чепце.
– Есть хочу! Есть! Есть! Есть! – кричала Тася на всю комнату.
– Да ты бы, Тасюшка, раньше гостей рассадила, – укоризненно покачала головою няня.