Текст книги "Успех"
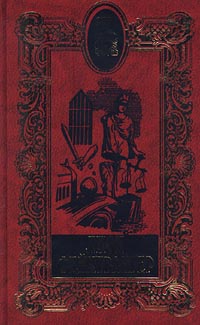
Автор книги: Лион Фейхтвангер
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 36 (всего у книги 64 страниц)
В то время как она продолжала лежать в кровати, он поднялся, попросил с внезапным наплывом вежливости разрешения закурить, оделся. Рассказал, что в компании с фон Дельмайером и Людвигом Ратценбергером, ловким мальчуганом, которого он очень любит, занят проведением в жизнь одного проекта, касающегося покойного короля Людвига II. Прикрываясь его именем, в Баварии можно добиться такого же успеха, как пользуясь именем старого Фрица в Северной Германии. Упомянул о том, что ради этого проекта приносит в жертву некую добродушную скотину. Он ходил взад и вперед по комнате, куря сигарету, одеваясь, Мода тех лет была неудобна и бессмысленна. Мужчины пристегивали твердые, охватывавшие шею крахмальные воротнички – тесную, ненужную, некрасивую часть одежды – и обвивали их трудно завязывающимися, бесполезными бинтами, так называемыми галстуками. В то время как Эрих Борнгаак, продолжая при этом рассказывать о проекте, касавшемся покойного короля, ловко налаживал петли этих силков, Иоганна, внимательно слушая, следила глазами за всеми его движениями. Такими же непонятными, как этот обычай надевать на шею воротничок, были почти все современные условности, внутренние и внешние. Сейчас, например, этот мальчик, должно быть, был убежден, что одержал невесть какую победу тем, что спал с ней. Он обладал ею. Обладать кем-нибудь – какое глупое слово! Но он все же казался не очень уверенным в своей победе. Иначе он не пытался бы задеть ее дурацкими россказнями о покойном короле. В мире многое непонятно и многое невозможно понять. Мартин Крюгер в тюремной камере. Ветреный Эрих Борнгаак, который «устранил» депутата Г., отравлял собак, спал с ней и теперь обвязывал сложным, узлом туго накрахмаленный воротничок. Чемпионка по теннису Фенси де Лукка сломала ногу и застрелилась из револьвера. Крупный буржуа Гессрейтер, в течение одной ночи всем сердцем и всеми чувствами своими любивший ее и теперь искавший в своей серии «Бой буков» утешения от мухоморов, длиннобородых гномов и всех житейских нелепостей. Все это одновременно скопилась в ее комнате на Штейнсдорфштрассе.
Юноша неожиданно и с досадой услышал вдруг, что Иоганна смеется. Она смеялась не громко и не тихо, не зло, но и отнюдь не добродушно. Он был слишком самоуверен, чтобы отнести этот смех к себе; все же легкое сомнение коснулось его, и он спросил Иоганну, почему она смеется. Он не получил ответа. Она не сказала ему, что смеется над всем тем бессмысленным и мучительным, что предпринимают люди и что, по-видимому, считают целесообразным и приятным: над их половой моралью хотя бы, над их войнами и юстицией, и что смеется она, пожалуй, также над самой собой и над своим удовлетворенным сейчас вожделением.
Видя, что Иоганна упорно молчит, юноша почувствовал себя неудовлетворенным. Он привык к нежности, слезам, уверениям, мольбам, следовавшим за минутами близости. Серьезность Иоганны он находил нелепой и оскорбительной. Он был разочарован. Он ждал тепла, потока чувств. Эта женщина между тем оказывалась холодной сладострастницей, которая получила от него больше, чем дала. Он почувствовал себя обманутым. Закурил сигарету, подкрасил губы. Так как, видимо, не было способа вывести эту женщину из ее состояния холодного равнодушия, он в конце концов сказал, что теперь отправится в «Серенький козлик». Ему еще удастся поймать там Людвига Ратценбергера. Она ни одним словом не попыталась удержать его. Он начал насвистывать мелодию модного негритянского танца, ушел, небрежно простившись.
Тогда Иоганна во второй раз рассмеялась. На этот раз – свободно и хорошо. Она распахнула окно, чтобы выветривался запах сигареты и легкий запах кожи и свежего сена. Теперь это было позади, изжито – и ладно. Она стала под душ, вытягиваясь, сжимаясь под брызгами холодной воды. С любопытством и возрастающим удовольствием наслаждалась тем, как вода обтекала ее голову, освобожденную от длинных волос. Затем вернулась в спальню мимо газетного листка с дефектной буквой «е», легла в постель, потянулась, согнула колени, уснула крепко, без снов.
23. Довоенный отец и послевоенный сын
Пиво доктора Гейера согрелось, выдохлось, он не отпил от него почти ни глотка. Из вежливости к хозяину он, давясь, проглотил несколько кусочков поданной ему жареной свинины: больше он не мог.
Перегруженный поручениями, снова втянутый в политическую жизнь, опутанный нитями бесчисленных дел, из двадцати четырех часов едва ли шесть уделявший сну, адвокат сейчас просиживал не один из своих драгоценных вечеров в кабачке «Собачья голова». Худой, в некрасивой напряженной позе, с трудом удерживая в покое нервные тонкие руки, сидел он среди рабочих, сотрудников профессиональных союзов и фанатически настроенных, не отличавшихся хорошими манерами литераторов в этом бедно обставленном кабачке, наполненном дымом и шумом бессвязных споров. На лице его отражалось старание скрыть явное неудовольствие.
Он оглядывался каждый раз, как открывалась дверь кабачка. В эту неприятную ему обстановку его привлекала легкая, полуосознанная надежда. Нередко «патриоты» приходили в «Собачью голову», как и коммунисты – в «Серенький козлик», задевали и поддразнивали коммунистов до тех пор, пока не начиналась изрядная драка. В таких драках особенно отличался Людвиг Ратценбергер, иногда в них участвовал и популярный боксер Алоис Кутцнер, дравшийся мрачно и меланхолично. В их компании изредка оказывались и двое молодых людей северогерманского типа – некий Эрих Борнгаак и фон Дельмайер.
Итак, слабая надежда, основанная на этих данных, жила в душе адвоката, когда он упрямо, хотя и с чувством неловкости, сидел в «Собачьей голове» за кружкой пива, которое ему не нравилось, и едой, которая была ему не по вкусу. Все же он был поражен, увидев однажды в кабачке Эриха в обществе Людвига Ратценбергера. По странной случайности с ними не было страхового агента фон Дельмайера. Вызывающе элегантный, сидел Эрих Борнгаак за деревянным некрашеным столом на грубом поломанном стуле в наполненном дымом кабачке. Его задевали, насмехались над ним, впрочем не без грубого доброжелательства. Он отвечал, дерзко улыбаясь своими очень красными губами, вызывающе, явно стремясь спровоцировать столкновение, был сегодня особенно нагл. За последнее время он попал в полосу неудач, какой у него давно уже не бывало. Разве не смахнула его эта Иоганна Крайн, как смахивают попавшую на платье грязь? Даже небо фон Дельмайера не удалось ему оградить от туч. Чего только ни наговорил он Руперту Кутцнеру, внушая ему, что престиж партии будет огражден только в том случае, если она объявит дело Дельмайера своим делом. А сейчас вот фон Дельмайер, только что выпущенный из-под стражи, снова уже находится под угрозой. Гартль, по настоянию Кутцнера, провел освобождение фон Дельмайера. Но Кленк был не согласен, бесился, требовал, чтобы все дело было доставлено ему на дом, в постель. Должно быть, накануне своего падения именно на этом деле он хотел показать «патриотам», что он еще существует. Фон Дельмайер каждую минуту мог быть вновь арестован. Эрих сидел в самом мрачном настроении рядом с Людвигом Ратценбергером, разжигай его жажду драки. Адвокат с пересохшими губами глядел на мальчика, не зная, подойти ли к его столу, уверенный, что мальчик резко оборвет его.
Заметив присутствие адвоката, Эрих внезапно изменил поведение. Если до сих пор он подзадоривал Людвига Ратценбергера, то сейчас, как раз в момент когда должна была начаться драка, он стал удерживать его. Удивительно было, как молодой шофер, при всей своей горячности, подчинялся ему. Ожидавшаяся драка не состоялась. Оба приятеля удалились, не выполнив своего первоначального плана и вызвав разочарование у большинства присутствующих. Намеренно пройдя мимо стола адвоката и небрежно поклонившись, мальчик бросил ему на ходу: «Завтра я зайду к тебе по делу».
На следующий день доктор Гейер не пошел к себе в контору, велел сообщить в суд, что заболел. Распорядился никого, кроме Эриха, не принимать, даже не звать его к телефону. Экономка злорадно сообщала об этом всем, кто звонил. Доктор Гейер ждал. Шаркая ногами, бродил взад и вперед, прихрамывая сильнее, чем всегда. Впервые за долгое время достал связанную шнурком рукопись: «Право, политика, история». Прошло утро, полдень, первые послеполуденные часы. Адвокат вынул счета банка, пачки иностранных банкнот, которые хранил дома. Здесь были порядочные суммы, большие ценности для Германии тех лет. Адвокат считал, подводил итоги, затем отложил деньги в сторону, ждал. Позвонили. Он опустился в кресло.
В комнату после перебранки с экономкой ворвался управляющий конторой. Принесенные им новости были срочного, неотложного характера. Он только мельком извинился за свое вторжение. Георг Рутц, социал-демократический депутат рейхстага от избирательного округа Мюнхен II, погиб при автомобильной катастрофе. Доктор Гейер, первый кандидат по списку, – член рейхстага.
После ухода управляющего конторой доктор Гейер вздохнул, чаще замигал, с трудом проглотил слюну, почувствовал стеснение в сердце. Итак, свершилось. Он уедет из этого стоячего болота, из Мюнхена в кипящий жизнью Берлин. Он не сделал этого сам, и вот судьба дает ему толчок. Бросает его чуть ли не силой туда, где его настоящее место. Он давно стремился в Берлин, много лет мечтал о депутатском кресле в рейхстаге, всеми силами своего разума твердил себе, что только Берлин – подходящий для него город. Он зашагал взад и вперед, упал на кушетку, прикрыл под толстыми стеклами очков тонкие воспаленные веки. Лежал, закинув руки за голову, отдавшись быстрой игре воображения. Рисовал себе, как, стоя на самой видной трибуне в стране, говорит свое слово о баварских делах, свое остро воспламеняющее всех жгучее слово. Но и эти мечты, так часто и любовно лелеянные, не согревали его душу.
Лежа на спине, опустив покрасневшие веки и заложив за голову тонкие руки, адвокат вдруг как-то перестал думать о рейхстаге, о мальчике, о Кленке. Ему вспомнилась девушка Эллис Борнгаак, озеро в Австрии, лесная тропинка, по которой он однажды поднимался с ней. Ясно встали перед ним извилины тропинки, постепенно расширявшийся кругозор, открывавший то новую бухту озера, то новую деревушку. Как называлась эта деревушка? Мальчик вошел в тот момент, когда он тщетно пытался вспомнить это название.
Эрих Борнгаак сел. Бойко, без всяких вступлений заговорил о деле.
– История с кошачьей фермой, – сказал он, – к сожалению, провалилась. Дело не удалось из-за мизерности предоставленной тобой в мое распоряжение суммы. С такими смехотворными деньгами нельзя делать деда, – укоризненна добавил он. – С одной ротой даже Наполеон не мог бы вести войну.
– К сожалению, у меня тогда больше не было, – тихо ответил адвокат. – Сейчас я мог бы дать тебе больше.
– Благодарю, – сказал Эрих. – Сейчас мне деньги не нужны. У меня в данное время есть лица, которые меня щедро финансируют, и другие, более рентабельные дела.
Он умолк. Его развязность, его вызывающие манеры на этот раз были явно напускными. Адвоката тронуло, что этот так горько любимый им человек все же стыдился, не решался обратиться к нему со своей просьбой.
– Речь идет о господине фон Дельмайере? – помог он ему.
Да, речь шла о г-не фон Дельмайере. Дело могло обостриться. Возьмет ли адвокат на себя ведение этого процесса?
Доктор Гейер должен был предвидеть нечто подобное, был готов к этому. Фон Дельмайер глупый, пустой, преступный субъект; обезвредить его было бы только полезно. Адвокат не желал принять на себя ведение его дела. У него были теперь деньги, он согласен был отдать их мальчику. При свойственной тому предприимчивости он мог затеять с ними любое дело. Но он должен развязаться с этим Дельмайером. Ведь просто счастливый случай, что обвиняли его, а не Эриха. Мальчик должен был понять это. Он поговорит с мальчиком, так много есть что сказать ему, теперь представлялся удобный случай.
Мальчик сидел перед ним с деланно безразличным видом. Доктор Гейер на практике не был большим знатоком людей, но даже и он понимал, что этот вид – лишь маска, что, вероятно, единственным на свете, к чему мальчик не был безразличен, была судьба этого ветреного, гнусного фон Дельмайера. Адвокат увидел брюки мальчика, ботинки, гетры. Да, он сегодня был в гетрах – вот уж два месяца, как гетры вошли в моду. И странно: хотя дела мальчика, по его словам, шли хорошо, на правой гетре недоставало пуговки. Все это адвокат увидел в ту минуту, когда собирался разъяснить мальчику свои взгляды, побудить его к разрыву с этим фон Дельмайером. Но он не решился на это, не решился заговорить. Вместо этого он сказал, что охотно взял бы на себя ведение дела, вчера еще он взял бы его. Но тем временем умер депутат Рутц: он должен отправиться в рейхстаг, и теперь это невозможно. Его слова звучат фальшиво, сдавленно, неубедительно. Он сам слышал, как неубедительно.
Адвокат не мог знать, что этим ответом именно сегодня наносил мальчику особенно чувствительный удар. Эрих считал, что сейчас крепче, чем когда-либо до сих пор, сомкнулось вокруг него кольцо неудач. Поэтому сразу соскользнула с него уверенность в своей способности очаровать кого угодно, и он почувствовал себя беспомощным и жалким. Поражение у Иоганны Крайн. Неспособность разогнать тучи на горизонте фон Дельмайера. А сейчас оказывалось, что он утратил власть даже и над этим жалким человеком, не может заставить его подчиниться своей воле.
Адвокат увидел, что лицо мальчика исказилось, стало холодным, презрительным. Увидел, что мальчик встает, направляется к дверям. Сейчас, вот сейчас он уйдет и, может быть, навсегда. Доктор Гейер хотел еще что-нибудь сказать, что-нибудь, чем он мог бы удержать его, но Мозг его был опустошен. Он искал, как ищут во сне что-то вечно ускользающее, – какую-нибудь фразу, какое-нибудь слово, способное удержать Эриха. Но раньше чем он успел что-нибудь придумать, лицо мальчика перекосилось в безмерном презрении, глаза его сверкнули насмешкой, и он проговорил полным ненависти мальчишеским голосом, но без обычной самоуверенности:
– Я мог быть заранее уверен, что ты откажешь, если к Тебе обратиться за настоящим одолжением.
Мальчик успел уже открыть дверь, когда адвокат хрипло проговорил:
– Я не отказываюсь. Я еще подумаю. Дай мне три дня на размышление.
– Три дня? – с издевкой переспросил Эрих. – Почему не год?
– Подожди хоть сутки! – тихо попросил адвокат.
На следующий день ранехонько он вежливым, почти униженным письмом сообщил мальчику, что жалеет о своих колебаниях. Он согласен принять на себя защиту г-на фон Дельмайера. Но еще в тот же день он получил ответ Эриха Борнгаака: надобность миновала, г-н фон Дельмайер больше не нуждается в его услугах. Дело в том, что Кленку так и не удалось вмешаться в дело Дельмайера. Ему пришлось подать прошение об отставке, и сейчас министерский пост, по-видимому, займет Гартль, который и ликвидирует дело фон Дельмайера в духе, желательном «патриотам». Черный день Эриха миновал. Он мог снова, выплыв на поверхность, позволить себе роскошь утереть нос старику.
Адвокат доктор Гейер и в этот день не пошел к себе в контору. Срочные дела остались лежать без движения. Клиенты бесились. Приходил управляющий конторой, просил подписать бумаги, кое-что необходимо было сделать именно сегодня. Он сообщил, что из комитета партии, ввиду того что в квартиру доктора Гейера дозвониться было невозможно, неоднократно звонили в контору, прося адвоката подтвердить свое согласие на принятие освободившегося мандата. Ему придется также в ближайшие дни сделать об этом официальное сообщение.
– Сделайте сообщение, – произнес адвокат. Казалось, он вовсе не слушает.
– Это невозможно без вашей подписи, – голосом, в котором звучало порицание, сказал заведующий канцелярией.
Адвокат взял белый лист бумаги, машинально, медленно начертил на нем свою подпись.
– Разрешите сообщить, что вы в конце недели будете в Берлине? – спросил управляющий.
Адвокат не ответил. Тщательно сложив белый лист бумаги, заведующий канцелярией удалился с видом явного неодобрения.
24. Иоганна Крайн купается в реке Изар
Иоганна ехала в Одельсберг. Живыми, довольными серыми глазами глядела она на плоский, скучный ландшафт. Неудобства поездки не раздражали ее. Париж, г-н Гессрейтер, ветрогон, как ни мало времени протекло с тех пор, остались далеко позади. Она не раскаивалась – просто забыла. Эрих Борнгаак? Кто это такой? Однажды после той ночи он позвонил ей. Она не подошла к телефону, почти не вспомнила о нем, ни разу, ни на мгновение не пожелала увидеть его. Словно где-то позади осталась тяжкая, наконец-то выполненная обязанность.
До этой ночи, проведенной с ветрогоном, она, думая о предстоящем свидании с Мартином Крюгером, ощущала некоторую неловкость, откладывала встречу с ним. Она давно не видела Мартина Крюгера, с самой поездки своей во Фракцию. А сейчас она была полна нетерпения, гнева против его врагов, горячей дружбы к нему.
На живом лице Мартина Крюгера всегда непосредственно, как у ребенка, отражалось каждое душевное движение. Сегодня, когда вошла Иоганна, его серое, слегка обрюзгшее лицо сразу так просияло, что ее охватило мучительное недоумение: как могла она так долго не видеть его? Ни следа не осталось в нем от прежнего жеманства и сентиментальности. Не было Мартина прежних лет, как не было и тупого, замкнутого в себе. Перед ней был новый человек: открытый, привлекательный, без тени рисовки, оживленный.
Между тем положение его в одельсбергской тюрьме отнюдь не улучшалось. Человек с кроличьей мордочкой стал очень нервным, принюхивался, откуда дует ветер, не мог этого уловить. Так много перемен произошло в руководящих министерских сферах. У него оставалось уже мало времени, – так легко могли забыть о нем. Печально было бы уйти в отставку, получая содержание всего только по двенадцатому разряду. Гартль был могуществен, но временным правителем министерства был Мессершмидт. Не поймешь, не поймешь. «Истинные германцы» создали очень сильное параллельное правительство. Не кто мог знать чем это кончится? Политические симптомы менялись, и человек с кроличьей мордочкой вместе с ними.
Малейший оттенок в истолковании этих симптомов, мельчайшее изменение во взглядах директора тюрьмы фертча на соотношение сил в министерстве немедленно же отзывались на положении Мартина Крюгера. Но эта вечная борьба, вечное колебание из стороны в сторону не парализовали его, а оживляли. Его можно было лишить книг, работы, но не мыслей, не идей. Нельзя было отнять у него все выраставшего, ширившегося представления о мятежнике Гойе. Мартин Крюгер жил. Жил в тюрьме ярче, многограннее, чем жил ранее вне ее стен.
Сейчас при виде Иоганны он просветлел. Увидел ее лицо, загорелое, полное жизни, ставшее еще более смелым благодаря подстриженным волосам, ее крепкую фигуру спортсменки. Мартин Крюгер увидел, что Иоганна хороша, и сказал ей об этом. Иоганна покраснела.
Он рассказал о своем споре с Каспаром Преклем, рассказал с улыбкой, в дружеской тоне. Рассказал, посмеиваясь над самим собой, о том времени, когда почта заменяла ему весь мир. Он безусловно не имел намерения обидеть Иоганну, но она ощутила жгучий стыд за то, что в свои письма к нему не вкладывала больше души. Он рассказывал о своих товарищах по заключению, о Леонгарде Ренкмайере, добродушно, образно, занимательно. Сильно, без пафоса, говорил о художнике Франсиско Гойе.
Здоровье его было не так чтобы плохо. Он выглядел серым, но теперь уже не вялым. Сердце, правда, иногда причиняло ему страдания. Он описал ей это отвратительное чувство уничтожения; какая-то серая пелена опускается, окружая человека, давит его, сжимает, теснит. Словно вдавливаются друг в друга машины, а человек оказывается между ними. Кажется, будто все внутри каменеет. Можно выдохнуть, но вдохнуть нельзя. Шатаясь, вскинув вверх руки, жадно ловишь воздух. Это длится целую вечность. Когда приходишь в себя, если около тебя есть кто-нибудь, хватаешься, держишься за него. Не можешь поверить, когда тебе говорят, что весь припадок длился всего несколько секунд. Со стороны видно только, что лицо сереет, человек шатается, иногда падает. Хуже, если приходишь в себя и вблизи нет никого. Когда ты соприкоснулся с ужасом уничтожения и вновь выплыл на поверхность, то ощущаешь потребность в чем-нибудь живом. Однажды это случилось с ним ночью; звук шагов надзирателя был тогда для него спасением. Он рассказывал так, что Иоганна перечувствовала все сама. В общей сложности у него было четыре таких припадка. Но он не жаловался, не испытывал к самому себе сострадания, был полон надежд.
Потом он рассказал ей о том, что совсем потерял представление о картине «Иосиф и его братья». Это огорчало его. Фотографии и то, что он прежде писал об этой картине, уже не могли заменить ему самой картины. Но зато у него был теперь его Гойя.
Под конец, незадолго до наступления момента, когда ей нужно было уходить, Иоганна увидела, что ее тело очень волнует Мартина. Глаза его затуманились. Он пытался заговорить, не мог, часто задышал, схватил ее. Она не отступила, не пыталась высвободиться. Но она судорожно согнула свободную правую руку, пальцы, должна была сделать над собой большое усилие, чтобы не проявить чувства отвращения. Надзиратель сидел при этом, тупой и безучастный. Даже и тогда, когда она уже уходила, Мартин, казалось, еще не овладел собой. Он с трудом, заикаясь, бормотал какие-то пустяки.
Иоганна возвращалась домой глубоко потрясенная. Последние минуты она просто вычеркнула. Она не хотела сохранить в своей памяти Крюгера с лицом, почти не отличающимся от лица ветрогона. Тем глубже волновала ее перемена в нем, проявившаяся в предшествовавший час.
Освобождение Мартина Крюгера было задачей, довести которую до конца она решила во что бы то ни стало. Но она никогда не скрывала от себя, что это намерение подчас казалось ей тягостным. Крюгер как человек утратил свое лицо, стал отвлеченным представлением. И вот сейчас он снова живой и вещественный, вступил в ее жизнь, новый, незабываемый.
Незабываемый? Куда делся окрыленный, жизнерадостный друг прежних дней? Куда делся тихий, серо-коричневый человек в тюремной одежде? Она испытывала хорошее, крепкое чувство дружбы к этому новому Мартину, твердое намерение быть от него неотделимой.
Незабываемый? Внезапно, против ее воли, перед ней встало полное страсти лицо последних минут, волнуя ее и в ней самой разжигая страсть. Будет ли она когда-нибудь опять путешествовать с ним, принадлежать ему? Она отогнала от себя это видение. Услышала сквозь стук колес его спокойные и твердые слова, в которых выражалась его уверенность скоро быть снова на воле. Как бы там ни было, ей следовало много теплее, с большим участием говорить с ним. Она рассердилась на себя за свою вялость, неповоротливость. Слишком мало успела она сказать ему. Времени было мало, она медленно подыскивала слова, не умела быстро находить нужные выражения. Она решила подробно написать Мартину, так написать, чтобы слова не высохли раньше, чем дойдут до него. Еще в пути она стала составлять это письмо и так глубоко погрузилась в свои мысли, что соседи по купе с любопытством поглядывали на нее.
В эту ночь Иоганна не видела снов и под утро пробудилась так внезапно, словно кто-то прикоснулся к ней. В комнате было совершенно темно, Иоганна не могла понять, где она находится. Она лежала в абсолютной пустоте, в пустоте мирового пространства. Она внезапно очутилась во мраке, в пустоте, одна, без имени, без связи с самой собой, без ясного будущего, без прошлого, выброшенная сызнова в новый мир. Она знала, что существуют сложные философские учения о времени и пространстве. Но сейчас они были для нее бесполезны. Она была всецело предоставлена самой себе, всецело свободна. С трепетом почувствовала она, как замерло течение ее жизни; так река, задержанная в своем течении, останавливается и разрывается на отдельные потоки. После великого изумления ее охватил великий страх. Так неожиданно приходилось ей, ей самой взять свою жизнь в собственные руки. Самой решать все, ей одной.
Она распахнула окно. Внизу, пустая, в искусственном освещении, виднелась набережная, шумела река. Иоганна жадно втягивала в легкие прохладный воздух, уже пахнувший утром.
Период прозябания в коконе кончился, жизнь вновь отдана ей в руки. Прошлого не было. Оно не обязывало ее ни к чему, не давало ей никаких прав, никому не давало прав на нее. Она сама могла решить, будет ли ока бороться за Мартина. Она могла выбирать. Выбрала. Будет бороться.
Совсем рано утром она оделась, по пустым, непривычным утренним улицам прошла далеко за город. Натолкнулась на скромную купальню. Показался старичок, отпер. Иоганна, словно именно для этого она прошла весь длинный путь, натянула потертый, взятый напрокат костюм, выплыла на середину быстрой прохладной реки. Никогда в своей жизни не придавала она своим поступкам символического значения. Не задаваясь мыслью, зачем, к чему, она полностью смыла с себя сейчас в волнах Изара прежнюю Иоганну. Было прохладное, дождливое утро, и она оставалась одна. Старик сторож не удивлялся ничему. Она поехала назад в город, ясная, свежая, с твердым и непреложным знанием того, что она должна делать, и уверенностью, что все сейчас сложится хорошо и просто. Сейчас она пойдет к Жаку Тюверлену и с ним вместе пройдет добрую часть пути. Она вернулась к себе домой взрослой, знающей жизнь женщиной своего времени, не стремившейся к большему, чем она может свершить, не требующей большего, чем на ее долю приходится, бодрой и серьезной.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































