Текст книги "Александрийский квартет: Жюстин. Бальтазар"
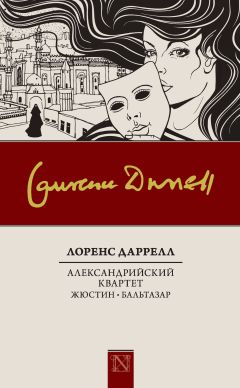
Автор книги: Лоренс Даррел
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 39 страниц)
«Да-да», – Нессим, разумеется, прекрасно знал, что пустыня для египтян – проклятые земли, обиталище демонов и прочего рода чудовищных посланцев Иблиса, мусульманского Сатаны.
Нессим уснул, а когда проснулся, брат, полностью одетый, уже стоял у его кровати, держа наготове сигареты и кофе. «Пора, – сказал он. – В Александрии ты, наверно, привык спать допоздна…»
«Нет, – сказал Нессим, – как ни странно. К восьми я обычно уже в офисе».
«К восьми! О, бедный мой брат!» – насмешливо возгласил Наруз и помог ему одеться. Лошади были уже оседланы, и они поскакали туда, где сквозь голубоватую дымку над озером понемногу пробивалась заря. Свежий, с запахом морозца воздух – но солнце уже просочилось в небо над их головами и слизывало росу с деревенского минарета.
Наруз ехал впереди, петляя по извилистым дорожкам, по прихотливо изогнутым вьючным тропам, перебираясь через дамбы, не задумываясь, почти не глядя по сторонам, ибо вся эта земля хранилась в его голове, как детальная, искусным картографом сработанная карта. Он всегда носил ее в себе, как план битвы, помнил возраст каждого деревца, водоотдачу каждого колодца, скорость наноса песка – до дюйма. Эта земля владела им безраздельно.
Не торопясь, они объехали обширную плантацию, трезво оценивая результаты приложенных усилий и обсуждая план дальнейшего наступления – когда установят новые машины. Затем, немного погодя, когда они достигли уединенного местечка на берегу реки, скрытого со всех сторон высокими тростниками, Наруз сказал: «Погоди минуту…» – и спешился, снимая на ходу с плеча старый кожаный ягдташ. «Надо кое-что припрятать», – сказал он, улыбнулся и, как всегда, потупился. Нессим нелюбопытно следил за ним: он расстегнул сумку и перевернул ее так, чтобы содержимое вывалилось в воду. Но вот чего Нессим не ожидал увидеть, так это сморщенной человеческой головы с желтыми зубами, тускло блеснувшими из-под раздвинутых губ, со страшно скошенными к переносице глазами, – голова выкатилась из сумки и медленно скрылась в глубокой зеленоватой воде. «Что это, черт побери, такое?» Наруз тихо, с присвистом, рассмеялся и ответил, глядя в землю: «Абдель-Кадер – точнее, голова от Абдель-Кадера». Он встал на колени принялся энергично полоскать ягдташ в воде, а потом одним движением вывернул его наизнанку, как выворачивают рукав, и вернулся к лошади. Нессим глубоко задумался. «Итак, тебе-таки пришлось его… – сказал он. – Именно этого я и боялся».
Наруз на секунду перевел на брата взгляд лучистых голубых глаз и сказал серьезно: «Если бы у нас снова начались проблемы с бедуинами, на следующий год мы лишились бы тысячи деревьев. Риск был слишком велик. К тому же он собирался меня отравить».
Больше он не сказал ни слова, и в полном молчании они ехали до самой границы сходящих понемногу на нет возделанных земель – то была, так сказать, линия фронта, зона активных боевых действий – длинная неровная полоса, похожая на край рваной раны. По всей ее длине инфильтрация с орошаемых полей и подпочвенные воды пустыни нанесли с обеих сторон соли, насквозь пропитавшей почву, превратив эти места в аллегорию мерзости запустения.
Только гигантская осока и тростниковое просо росли здесь да редкий колючий кустарник. Рыба в соленой воде не жила. В мертвом мареве ядовитых испарений, зловещая, жестокая и совершенно немая, лежала она – черта, где встретились в смертельном объятии пески и посевы. Теперь они ехали сквозь заросли тростника с выбеленными солью стеблями – мелкие кристаллы блестели на листьях. Лошади тяжело дышали, с трудом пробираясь через солончаковое болото, и гнилая вода оставляла белые пятна соли на шкуре, там, куда попадали брызги; илистые озерца были затянуты поверху коркой соли, копыта проламывали ее, с чавканьем погружались в ил, выпуская наружу тяжелые запахи и – иногда – рои кусачих мух и москитов. Но даже и здесь Наруз поглядывал вокруг с интересом, глаза его блестели – ибо он уже видел, да что там – уже засадил бесплодные эти пространства рожковым деревом – завоевал их. Однако оба они старались дышать неглубоко и совсем не разговаривали между собой, пока не оставили позади сей последний зловонный барьер и примыкавшие к нему длинные лоскуты сморщенной земли, похожей на кожу мумии. Выбравшись наконец на окраину пустыни, они немного передохнули в тени, пока Наруз шарил по карманам в поисках палочки синего мела, каким пользуются маркеры в бильярдных. Они натерли мелом указательные пальцы и осторожно мазнули себя под каждым веком, чтобы уберечь глаза от песчаного блеска, – они всегда так делали, еще детьми; и повязали готовы платками на манер бедуинов.
А после: первые дуновения чистого пустынного воздуха, и обнаженность пространства, голого, как теорема, уходящего в пропитанное вековечным молчанием великое небо, и ни единого живого существа, если не считать тех, кто создан был людской фантазией, чтобы хоть как-то населить пейзажи, искони чуждые человеческим страстям, иссушающие пустотой своей мозг и душу.
Наруз гикнул, и лошади, вдруг проснувшись, исполнившись чувством свободы и бескрайнего пространства вокруг, сорвались в причудливый, рывками, галоп по песчаным дюнам, плеснули по ветру гривы и бахрома на сбруе, заскрипели седла. Так они неслись минуту за минутой, и Нессим смеялся от возбуждения и радости. Как давно это было в последний раз – галоп, пустыня.
Вскоре они придержали коней и без особой спешки тронулись дальше к востоку – длинною плавной дугой через поросшую чахлым кустарником пустошь, где средь бесплодных песчаных дюн цвели цветы и на этих невзрачных, но жизнестойких образчиках пустынной флоры бражничали бабочки. Копыта цокали по усыпанному галькой дну каменистых долин, огромные иглы из желтого песчаника и острые гребни утесов из глинистого сланца складывались постепенно в давно знакомый пейзаж. Нессим захлебывался воспоминаниями о далеких, в ранней юности, ночах, проведенных под седым от звезд небом, под грохочущим на ветру промерзшим шатром (заиндевевшие веревки сверкают, как бриллианты), и глядит сверху Вега – прямо на тебя, – и пустыня раскинулась, тихая, словно пустая комната. Как так выходит, что самые сильные переживания забываются – и так надолго? Пустыня лежала вокруг, словно гигантская клавиатура: фортепиано всегда было под рукой, но крышка не открывалась годами, по забывчивости, а может, просто не доходили руки. Картины одна другой великолепней вставали перед его внутренним взором, застили свет солнца, и он следовал за Нарузом слепо, уже и не глядя вокруг. А потом он вдруг увидел себя и брата со стороны, издалека, в окружении огромного пустого мира – два крошечных пятнышка, как два голубя высоко в безоблачном небе.
Они остановились и передохнули еще немного в тени гигантской одинокой скалы – пурпурный оазис тьмы, – задохнувшиеся, счастливые. «Если поднимем пустынного волка, – сказал Наруз, – я загоню его курбашем», – он взял в руки кнут и ласково протянул его сквозь полусжатую ладонь.
Когда они снова тронулись в путь, Наруз принялся неторопливо петлять из стороны в сторону в поисках древней караванной тропы – мазраба, – которая вывела бы их на Квазир-эль-Аташ (Пристанища Тех, Кого Мучит Жажда), где люди шейха должны были ждать их до полудня. Когда-то Нессим тоже знал эти дороги как свои пять пальцев – тропы контрабандистов, по которым из века в век курсировали между Алжиром и Меккой караваны, – «щедрые пути», единственный способ переправить через пустынное безлюдье груз пряностей или переливчатые шутки шелка, перекачать целое состояние с одного конца Африки на другой, а для благочестивых – добраться до Святого Города. Внезапно он ощутил ревность к брату, по-прежнему оставшемуся с пустыней на «ты». Когда-то и он умел так. И тут же поймал себя на том, что старательно копирует каждое его движение.
Вскоре Наруз крикнул хрипло, указал куда-то вперед, и несколько минут спустя они выехали на мазраб – большую караванную тропу; извилистые, но строго параллельные тропки, местами въевшиеся глубоко в камень, тянулись от горизонта до горизонта. Младший брат и здесь поехал первым. Его синяя блуза под мышками стала фиолетовой. «Скоро уже», – крикнул он, и из-за дрожащего перламутровым маревом края неба постепенно выплыла высокая скала из красноватого базальта, из которой песок и ветер высекли за долгие тысячелетия некое подобие (так видишь иногда лицо в тихо дышащих пламенем углях) сфинкса, мучимого жаждой; под самой скалой, в густой тени, поджидали их, коротая разговорами время, проводники к шатрам шейха – четыре высоких худых человека, словно свернутые из плотной коричневой бумаги: иссохшие хриплые голоса похрустывали сухо и почти бессмысленно для стороннего уха, и смех – словно спущенная со сворки ярость. Они подъехали – их встретили туго обтянутые кожей костлявые руки, колючий клекот едва понятного арабского – Наруз тут же перешел на диалект.
Нессим остался в стороне и вдруг почувствовал себя европейцем, горожанином, чужаком: эти несколько человек принесли с собой целую вселенную, замкнутый, непроницаемый, древний мир арабских кочевников – его церемонную вежливость и обычай кровной мести – во всей примитивности и прямоте. Он с удивлением поймал себя на том, что пытается вызвать в памяти картину Боннара или стихотворение Блейка – так измученный жаждой человек протягивает руки к струйке родниковой воды. Похожие чувства мог бы, наверное, испытывать путешественник, оказавшийся волею судьбы в окружении шотландцев из какого-нибудь дикого горного клана, – восхищение при виде мозолистых лап и волосатых мускулистых ног, но и странное чувство благодарности за то, что общая сумма европейской культуры не укладывается в узкий канон их силы, презирающей жизнь, взыскующей ран и смерти. Внезапно он понял: брата нет больше с ним рядом, ибо Наруз уже погрузился в жизнь этих арабских пастухов так же самозабвенно, как был совсем недавно поглощен жизнью своих деревьев. Его могучие узловатые мышцы налились гордой силой, ведь он, горожанин, александриец, едва ли не презираемый здесь назрани, – мог дать десять очков вперед – в стрельбе ли, в скачке или в разговоре – любому из них. Они же, зная его характер, не спускали с него внимательных, лишенных всякого выражения глаз; тихого сейчас Нессима им тоже доводилось видеть раньше, и в разных масках. Хорошо ухоженные руки выдавали в нем городского пижона. Но они были вежливы.
Сейчас требовалось только знание форм, не более, ибо едва ли не сказочные эти жители пустыни были всего лишь механизмы; вспомнив вдруг о Маунтоливе, Нессим улыбнулся – где, интересно, британцы умудрились собрать столько сказок о пустынных арабах, чтобы слепить из них популярный миф? Яростная тривиальность их судеб была столь бедна, столь незамысловата. Если они вообще могли волновать, вызывать интерес, то подобный же интерес вызывает и волынка, неспособная выразить ничего, кроме банальности, причем банальности примитивной. Он наблюдал, как свободно вертит ими брат, опираясь всего лишь на знание их форм поведения, так трюкач манипулирует дрессированными блохами. Бедняги! И возросшее на городской почве чувство превосходства тихо шевельнулось в нем, поигрывая мускулами воли, сдержанности и строгой дисциплины ума.
Теперь они ехали все вместе, тесной группой, к шатрам шейха, вдоль длинных рифленых языков песка, сквозь миражи зеленых пастбищ, грезы грозовых туч, пока, наконец, не добрались до стоящих по окружности шатров, этих рукотворных – из звериных кож – небес человечества, выдуманных людьми, чьи детские воспоминания были столь ужасны, что они просто вынуждены были выдумать небо не столь широкое, чтобы спрятать под ним семя расы; в этом маленьком кожаном конусе был рожден первый ребенок, и первая близость человеческого поцелуя родилась на свет здесь же… Нессиму вдруг остро захотелось уметь писать, как Клеа, так же хорошо. Абсурдная мысль, и совершенно не к месту.
Но шейховы шатры раскинулись широко, покрыв едва ли не две тысячи квадратных футов полосами зеленой, темно-бордовой и белой материи, сотканной из козьей шерсти. В тех местах, где полосы были сшиты между собой, свисали длинные разноцветные кисти, и ветер их перебирал.
Шейх и его сыновья, похожие на разложенную по порядку колоду игральных карт, встретили их традиционными приветствиями, и на каждое из них Наруз знал правильный ответ. Шейх самолично ввел их в шатер и произнес: «Этот дом – ваш дом, все, что есть в нем, – ваше. А мы – ваши слуги». А за его спиной уже теснились водоносы – следовало омыть руки, ноги и лица: кожа у них после поездки высохла и заветрела. В коричневой здешней полутьме они отдыхали не менее часа, ибо полуденный жар был в разгаре. Наруз храпел на подушках, раскинув руки и ноги, Нессим же дремал, проваливаясь временами в сон, временами пробуждаясь, чтобы снова увидеть спящего брата, – свободное, без усилий течение сна человека, втянутого в круговорот физической деятельности. Он вяло думал об уродстве брата – о великолепных белых зубах, сияющих сквозь щель в ярко-розовой верхней губе. Время от времени бесшумно входил глава очередного рода, снимал у входа в шатер обувь и целовал Нессиму руку. Каждый шепотом произносил одно-единственное слово приветствия: «Махуббах».
Далеко за полдень Наруз наконец проснулся, потребовал воды, быстро разделся и попросил принести свежую одежду, что и было немедля исполнено, причем принес требуемое старший сын шейха. Наруз широко шагнул из шатра на раскаленный солнцем песок и сказал: «Теперь займемся лошадкой. Это может занять пару часов. Ты не возражаешь? Мы, может быть, припозднимся сегодня, а?» Неподалеку, в тени, разложили подушки, и Нессим с радостью сел, откинулся назад и принялся наблюдать за тем, как брат быстро идет по ослепительно блестящему на солнце песку к табунчику представленных ему на суд молодых лошадей.
Кони играли легко и невинно – плавное движение их голов и грив казалось ему и в самом деле похожим на «волну в июньском море», совсем как в поговорке. Наруз подошел к ним и остановился, внимательно присматриваясь. Затем что-то выкрикнул, и к нему тут же побежал человек с уздечкой и удилами. «Белая!» – хрипло крикнул Наруз, и сыновья шейха тоже что-то прокричали в ответ, но Нессим не расслышал. Наруз снова повернулся и каким-то странным ныряющим движением метнулся в самую середину табуна; и едва ли не в тот же момент уже сидел на спине белой кобылы, взнуздав ее неуловимым движением руки.
Мифический зверь стал как вкопанный, кося назад широко раскрытым блестящим глазом, словно пытаясь осознать во всей полноте незнакомое и страшное ощущение всадника на спине, затем медленная дрожь пробежала по его телу – первые сквознячки паники, непременного спутника подобных столкновений людского мира с миром зверей. Лошадь и всадник застыли, словно позируя скульптору, замкнутые друг в друге.
Лошадь заржала вдруг тихо и пронзительно, встряхнулась и, выгнувшись, раз десять или двенадцать подпрыгнула на месте, каким-то нелепым деревянным манером, словно механическая игрушка, каждый раз с силой опускаясь на передние ноги. Наруз, однако, по-прежнему сидел у нее на спине – разве что нагнулся вперед и прорычал ей что-то прямо в ухо; лошадь взвилась и пустилась с места неровным, прыгающим, беспорядочным кентером [133]133
Мелкий галоп.
[Закрыть], вертясь, подскакивая и припадая на передние ноги. Она медленно шла по неровной кривой вокруг лагеря, пока не вернулась обратно, туда, где у входа в главный шатер уже стояла целая толпа арабов и молча глядела. Тут бедное животное, словно осознав, что некая часть его жизни – может быть, детство – ушла безвозвратно, простонало еще раз, так же пронзительно и тихо, и сорвалось вдруг в размашистый, легкий, летящий галоп, столь характерный для ее породы, мигом перечеркнув пустыню до самого горизонта, подобная падающей звезде на ночном небе; всадник словно прирос к лошади, сжав ей бока могучими ножницами ног, – неподвижный, как крепленная рым-болтами фигура на носу корабля, – и стал быстро уменьшаться в размерах, пока оба они вовсе не исчезли из глаз. Общий крик одобрения поднялся над шатрами, и Нессим, вместе с кофе и творожистым сыром, принял набор адресованных брату комплиментов.
Два часа спустя Наруз пригнал ее обратно, мокрую от пота, задыхающуюся, и сил у нее, завоеванной, хватало только на то, чтобы переставлять ноги и загнанно фыркать. Но и сам он был измотан до предела, так, словно успел за эти два часа съездить в ад и обратно; запавшие, налитые кровью глаза и сведенное судорогой лицо свидетельствовали ясно: борьба шла не на жизнь, а на смерть. Он шептал лошади на ухо что-то ласковое, и губы его были сухи и потрескались. Но там, внутри, под коркой усталости и жажды, он был счастлив – и счастье буквально брызнуло на него, когда он каркнул, чтобы принесли воды, и попросил полчаса на отдых, прежде чем отправиться в обратный путь. Ничто не могло сломить это могучее тело – даже оргазм долгой и жестокой схватки. Но стоило ему закрыть глаза под струей воды, которую сливали ему на голову, и он снова увидел темное, истекающее кровью солнце, образ смертельной усталости, и ощутил, как пышущий жаром и безжалостным отблеском света пустынный песок высасывает из него влагу, прямо сквозь кожу. В голове у него одновременно вспыхивали ярких контрастных тонов пятна и удивительно четкие картины, несколько разом, – весь его аппарат восприятия растаял на солнце и спекся, как краски в забытом на песке ящике, сплавились воедино мысль, желания и чувства. На душе у него было легко и радостно, и он ощутил себя невесомым, как радуга. Но не прошло и получаса, как он уже был готов ехать домой.
Они тронулись в путь, и сопровождали их на сей раз совсем другие люди – сквозь наклонный частокол косых закатных лучей, разбросавших пятна розовой и пурпурной тени по ложбинам меж барханов. До Квазир-эль-Аташа ехали дольше, чем днем. Наруз распорядился, чтобы сыновья шейха доставили ему белую кобылу позже, на неделе, и ехал теперь, никуда не торопясь, ни о чем не беспокоясь, роняя время от времени куплет-другой какой-то песни. Когда они добрались до Пристанищ Тех, Кого Мучит Жажда, уже стемнело. Они попрощались с хозяевами и двинулись дальше.
Они ехали небыстро и глядели, как встает из-за горизонта ущербная луна, окруженная люминесцирующим гало, – в полной тишине, нарушаемой разве что внезапным – иногда – перестуком копыт по каменистым обнажениям да завываниями шакалов вдалеке, и вот теперь, ни с того ни с сего, Нессим ощутил, что барьер снят, и сказал: «Наруз, я женюсь. Я хочу, чтобы ты сказал об этом Лейле вместо меня. Не знаю почему, но мне трудно самому это сделать».
Наруз почувствовал, как его тело обратилось в кусок льда, – фигура без лица, закованная в доспехи; он покачнулся в седле, будто бы от радости, и буквально выдрал из глотки слова: «На Клеа, Нессим? На Клеа?» – и кровь облегченно хлынула назад в его пересохшие, сухо пульсирующие жилы, когда брат покачал головой и удивленно на него посмотрел. «Нет. С чего бы? На бывшей жене Арноти», – ответил Нессим с привычной классической ясностью мысли. Некоторое время они ехали молча, сопровождаемые лишь скрипом седел, а потом Наруз – его лицо сияло во тьме широкой улыбкой – крикнул: «Я так рад, Нессим! Наконец-то! Ты будешь счастлив, и у тебя будут дети!»
Здесь, однако, Нессима вновь захлестнула волна неуверенности, и он пересказал Нарузу все, что знал о Жюстин и о ее пропавшем ребенке, добавив в конце: «Она пока меня не любит и даже не притворяется, но кто знает? Если я смогу вернуть ей ребенка, смогу вернуть ей спокойствие духа, чувство уверенности в себе, всякое может случиться». И через минуту спросил: «Как ты думаешь?» – не потому, что его интересовало чье бы то ни было мнение, просто чтобы перебросить мостик через молчание, выросшее вдруг между ними, как наметенная ветром песчаная дюна. «С ребенком труднее всего. Криминальная полиция раскопала все, что только можно было найти, – если и есть какие-то улики, они указывают на Магзуба (Боговдохновенного), в городе в тот вечер был праздник, и он там был. Его уже несколько раз обвиняли в похищении детей, но потом отпускали за недостатком улик». Наруз весь подобрался и ощетинился, как волк. «Ты имеешь в виду гипнотизера?» Нессим продолжил задумчиво: «Я посылал к нему человека, предлагал деньги – очень большие деньги – за интересующие меня сведения. Чуешь?» Наруз с сомнением покачал головой и поскреб в короткой бороде. «Он сумасшедший, этот твой Магзуб, – сказал он. – Каждый год появляется на Святой Дамьяне. Но он не просто сумасшедший. Зайн-эль-Абдин. Он еще и святой».
«Да, ты понял, о ком я говорю», – сказал Нессим; и, словно вспомнив об упущенном важном деле, Наруз остановил обоих коней и обнял его, выложив весь набор положенных в семье по такому случаю поздравлений. Нессим улыбнулся и спросил: «Так ты скажешь Лейле? Прошу тебя, брат».
«Конечно».
«После того, как я уеду?»
«Конечно».
Напряженность ушла, с Нарузом все вышло на удивление гладко, и у Нессима как будто гора упала с плеч. И тут же он почувствовал, что очень устал, что еще чуть-чуть, и он заснет прямо в седле. Ехали они быстро, но без особой спешки и только к полуночи достигли края пустыни. Здесь лошади вспугнули зайца, Наруз попытался загнать его кнутом, но быстро потерял в темноте.
«Это очень хорошая новость! – крикнул он издалека, словно короткая скачка по залитым лунным светом пескам как раз и позволила ему сосредоточиться, чтобы составить окончательное мнение. – Ты привезешь ее к нам на той неделе – нужно показать ее Лейле, ладно? Я ее, кажется, видел, но точно не помню. Очень смуглая, да? “Мотыльку огонь в ночи такие очи”, как в песне». Он рассмеялся, глядя, по обыкновению, вниз.
Нессим дремотно зевнул. «О Господи, у меня все кости болят. Вот что получается, когда подолгу живешь в Александрии. Наруз, прежде чем я окончательно усну, хочу еще кое о чем тебя спросить. Я не успел повидаться с Персуорденом. Что собрания?»
Наруз со свистом втянул воздух сквозь зубы и поднял на брата лучистые глаза. «Да-да. Все в порядке. В следующий раз – на мулид Святой Дамьяны, в пустыне. – Он поиграл могучими мышцами плеч и шеи. – Все десять семей будут, можешь себе представить?»
«И ты будешь очень осторожен, – сказал Нессим. – И проследишь, чтобы все было тихо и чтоб не было утечки».
«Конечно!»
«Я хотел бы, – продолжил Нессим, – чтоб на начальных стадиях это не имело политической окраски. Когда они разберутся по-настоящему, как в действительности обстоят дела, вот тогда и… А? Я не думаю, например, что тебе имеет смысл говорить с ним открыто, скорее – дискуссия, позиции сторон, общие вопросы. Мы не имеем права рисковать. Видишь ли, дело не только в англичанах».
Наруз нетерпеливо дернул ногой и ковырнул ногтем в зубах. Он вспомнил о Маунтоливе и вздохнул.
«Французы тоже – и они не ладят между собой. Конкуренция. Вот если бы мы могли обернуть это себе на пользу…»
«Да знаю, знаю», – перебил его Наруз и тут же осекся под жестким взглядом брата. «Слушай меня внимательно, – сказал тот резко, – потому что очень многое зависит от того, насколько хорошо ты поймешь и почувствуешь грань, за которую нам пока никак нельзя переходить».
Наруз окончательно сник. Он покраснел и, глядя в упор на брата, сплел пальцы. «Я слушаю», – проговорил он тихо, севшим голосом. Нессиму стало стыдно, он взял брата за руку и продолжил негромко, доверительным тоном:
«Понимаешь, время от времени происходят странные вещи. Старик Коэн, например, меховщик, он умер в прошлом месяце. Он работал на французов в Сирии. Когда он вернулся, египтянам было известно о его миссии все. Каким образом? Не знаю, и никто не знает. Среди наших друзей определенно есть враги – прямо в Александрии. Теперь понимаешь?»
«Да, понимаю».
На следующее утро Нессиму нужно было уезжать, и братья вместе доехали, не торопясь, до самой переправы. «Почему ты никогда не выберешься в город? – спросил Нессим. – Поехали со мной, прямо сейчас. Сегодня бал у Рандиди. Развлечешься – разнообразия для». На лице у Наруза тут же появилось неприятное выражение, как всегда, когда кто-нибудь предлагал ему съездить в город. «Я приеду на карнавал», – сказал он медленно, глядя в землю; Нессим рассмеялся и дотронулся до его руки: «Так и знал, ничего другого ты и не мог ответить! Всегда одно и то же, раз в год, на карнавал. Хотел бы я знать – почему!»
Он прекрасно знал почему. Наруз смертельно стыдился своего уродства и сам загнал себя в угол, в полную изоляцию, почти как мать. Только карнавал с его безликим черным домино мог дать ему свободу от ненавистной этой рожи; последнее время он даже в зеркальце для бритья не мог на нее смотреть. Была и еще одна причина, уже и вовсе неожиданная: длившаяся вот уже несколько лет страсть к Клеа, к той самой Клеа, с которой он за всю жизнь не сказал и пары слов, да и видел-то ее всего дважды, когда Нессим привозил ее в имение, так сказать «на экскурсию». Тайны этой исторгнуть из его груди не могла бы даже пытка, но каждый год он неизменно приезжал на карнавал и бродил в толпе всю ночь в смутной надежде на случайную встречу с прекрасной дамой, чьего имени он доселе даже вслух никогда не произносил – если был не один.
(Ему так и не суждено было узнать, что Клеа терпеть не могла карнавала и все время, пока шел праздник, проводила запершись у себя в студии: рисовала, читала.)
Они расстались тепло, напоследок обнявшись, и Нессимова машина перечеркнула пыльным вымпелом теплый воздух над полями за рекой, стремясь поскорее вернуться назад, на шоссе вдоль морского берега. Боевой корабль на рейде дал двадцать один орудийный залп, салют в честь какой-нибудь египетской высокопоставленной персоны, и мерное буханье пушек, казалось, именно и взбило жемчужную пену легких облаков, всегда по весне висевших над гаванью, подрагивая и меняя цвет. На море сегодня опять штормило, и четыре рыбацкие лодки галсами шли к берегу, торопились с уловом домой. Нессим остановился только раз – чтобы купить себе гвоздику в петлицу у цветочника на углу Саад Заглуль. Затем направился прямо к себе в контору. Уже на лестнице он остановился еще раз, и ему почистили туфли. Город никогда не казался ему таким красивым. Уже сидя за столом, он подумал о Лейле, потом – о Жюстин. Что скажет о его решении мать?
Наруз отправился в летний домик выполнять возложенную на него миссию в то же утро; но прежде нарезал целую охапку красных и желтых роз, чтобы сменить цветы в двух огромных вазах по обе стороны отцовского портрета. Мать спала, сидя за столом, но щелкнула щеколда, и она тут же проснулась. Змея сонно прошипела и снова опустила голову на землю.
«Благослови тебя Бог, Наруз», – сказала она, увидев у него в руках цветы, и встала, чтобы вынуть из ваз старые. Они принялись подрезать розы и ставить их в вазы, и Наруз тут же выложил свою новость. Мать остановилась посреди комнаты и стояла так довольно долго; она не была слишком взволнована, но глаза у нее посерьезнели – она словно сверялась с самыми сокровенными своими мыслями и чувствами. Наконец она сказала, скорее для себя же, чем для кого-либо другого: «Почему бы и нет?» – и повторила эту фразу раз или два, словно проверяя верность тона.
Затем она поднесла к губам большой палец, укусила его легонько и, обернувшись к младшему сыну, сказала: «Но если она авантюристка и охотится за его деньгами, я этого не допущу. Я уж постараюсь от нее отделаться. В любом случае ему придется просить моего согласия».
Нарузу слова ее показались невероятно смешными, и он расхохотался так, словно услышал хорошую шутку. Она осторожно взяла его волосатую руку. «Я так и сделаю», – сказала она.
«Да, брось ты!»
«Я тебе клянусь».
Он хохотал уже вовсю, закинув голову и явив свету розовое нёбо. Она же по-прежнему отрешенно слушала себя. Сама едва заметив, она похлопала легонько его, смеющегося, по руке и прошептала: «Тише», – а затем, после долгой паузы, сказала, словно бы даже удивившись собственным мыслям: «Вот ведь что самое странное: именно так я и сделаю».
«И что, ты рассчитываешь на меня, да? – спросил он, все еще смеясь, но в голосе у него уже шевельнулась тревога. – Ты же не можешь поручить мне следить за собственным братом, оберегать его честь, так сказать». Смех еще владел его телом, согнутым едва не пополам, но лицо было серьезным. «Бог мой, – подумала она, – как он уродлив». Ее пальцы пробежали по черной парандже, ощупывая сквозь ткань огромные оспины на лице, с силой прошли по коже, словно пытаясь их стереть, сгладить.
«Славный мой Наруз», – сказала она едва не со слезами в голосе и запустила пальцы в густую его шевелюру; волшебная поэзия арабской речи сразу успокоила его, расслабила: «Мой сладкий, голубь мой, хороший мой Наруз. Скажи ему да и передай мое благословение. Скажи ему – да».
Он стоял смирно, как жеребенок, впитывая музыку ее голоса и такую редкую ласку ее теплой, умело-нежной руки.
«Но передай ему, что он должен привезти ее сюда, к нам».
«Я передам».
«Передай сегодня же».
И он ушел нелепой судорожной походкой, большими шагами – ушел в особняк, к телефону. Мать снова села, облокотилась на пыльную столешницу и повторила дважды, тихо и удивленно: «Зачем это Нессиму понадобилась еврейка?»
V
Все это – реконструкция, и материалом к ней мне послужил лабиринт оставленных Бальтазаром заметок. «Вообразить – не значит выдумать, – пишет он. – Да и трудно претендовать на всезнание, толкуя людские поступки. Из веток растут листья, действия – из чувств, по крайней мере так принято считать. Но возможно ли сквозь поступки прозреть те чувства, что вызывают их к жизни? Если писателю достанет смелости самому заделать зияющие дыры между фактами, взвалив на себя ответственность интерпретатора, кто знает, может, ему и удастся вернуть утраченное единство. Что творилось в голове, в душе Нессима? Вот вопрос, чтоб ты над ним помучился».
«Или – в голове, в душе Жюстин? В то же самое время, а? Разве можно знать наверное; единственное, в чем я уверен, так это в том, что их уважение друг к другу росло в обратной пропорции к чувству взаимной расположенности, – я, по-моему, достаточно ясно показал тебе: никакой любви между ними не было, да и быть не могло, согласно взаимной договоренности. Вероятнее всего, и сейчас ничего не изменилось. Я подолгу с ними говорил, с каждым в отдельности, но так и не смог отыскать ключа, ответа на вопрос – что их связывало? Да и сама их привязанность таяла день ото дня; так понижается понемногу уровень земли, уровень воды в озере, и никто не знает почему. Искусством камуфляжа они владели в совершенстве – ведь в дураках остались едва ли не все, кто их знал, ты, например. Хотя, конечно, я отнюдь не разделяю взглядов Лейлы – ей Жюстин сразу не понравилась. Я ведь сидел с нею рядом на тех смотринах, которые организовал Наруз, приурочив их к ежегодному, под Пасху, большому мулиду в Абу Гирге. Жюстин уже распрощалась с иудаизмом и перешла в лоно Коптской церкви, так хотел Нессим; а поскольку жениться он мог на ней только частным, так сказать, образом – она ведь уже побывала один раз замужем, – Нарузу пришлось довольствоваться не настоящей свадьбой, а всего лишь, по его понятиям, вечеринкой, чтобы показать невесту брата всем, кто имел отношение к Дому, всем, на кого он смотрел как на членов одной большой семьи».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































