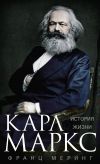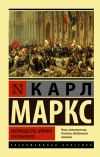Текст книги "Записки старика"

Автор книги: Максимилиан Маркс
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
Москва (1861–1864)
I
10 января 1861 г. я выехал в знакомую мне белокаменную. Здесь я провел 4 незабвенные года. Да и для кого прекраснейшие лета тогдашней студенческой жизни не незабвенны? То было строгоновское, или станкевичево, время. Называйте, как угодно. Дело не в названии, а в самой сущности, самом содержании его. Я, впрочем, за первым названием, и вот почему. Не будь такого попечителя как гр. С.Г. Строганов, не было бы и таких студентов, как Станкевич. Их разослали бы в местности, куда и Макар телят не водил, или не в столь отдаленные как Герцена, или, по крайней мере, восвояси к родителям, как Огарева, ежели не забрили бы лоб в ордонанс-гаузе, как Полежаеву[248]248
Полежаев Александр Иванович (1804–1838) – второстепенный русский поэт и переводчик, за поэму «Сашка», критикующее обычаи и порядки Московского университета царь Николай I приговорил его к военной службе.
[Закрыть]. При гр. Строганове все переродилось. Помощник его, Д. П. Голохвастов, прежде десятками исключавший из университета за одну не застёгнутую пуговицу в мундире, и ругавший площадной бранью проректора Котельницкого за то, что в одно из очень частых посещений университета не оказалось ни одного заключенного в карцере, этот молниеносный Дмитрий Павлович сделался добрым, мягким и милым человечком. А инспектор Платон Степанович Нахимов, памятный кадетам морского корпуса своею ярою щедростью в приложении розог к их телесам, преобразился в гуманнейшего, хотя Флакона Стакановича, но все-таки любимого, и теперь даже с любовью вспоминаемого начальника. Вот как изменяются люди, и вот сколько добра может сделать одна светлая личность, хотя бы и при самой тяжкой и гнетущей обстановке. Гр. Строганов сумел поставить Московский университет так прочно, что после него люди, которые умели только портить все хорошее, не испортили его нисколько.
Чрез Драгомилавскую заставу, на лихой тройке, влетел я с женою в Москву и удивился. На заставе нет шлагбаума. Никто не остановил меня, никто не спросил у меня приготовленного уже на последней станции паспорта, и никто не залез в возок проводить меня, записать место, где я остановился, и сообщить о том его благородию господину квартальному надзирателю. Времена изменились!
Целый два дня я осматривал Москву и показывал ее жене. На мой взгляд, все-таки сама она очень мало, или, лучше сказать, не изменилась нисколько. Правда, над рекою, воздвигнулся огромный и с огромным блестящим куполом храм Спасителя, за мостом выросла Кокоревская гостиница, в соседстве с высочайшею колокольнею при малейшей церковке; пожар много способствовал к украшению театра, дома Пашкова реставрированы, и один сделался новым корпусом университета, а другой четвертою гимназиею (вскоре Румянцевским музеем). Явились станции железных дорог, Николаевской и Нижегородской, и даже конка – из рядов, к бирже и на Покровку, а газ стал освещать хотя только магазины и трактиры. Но я рядах стояли такие же зазывальщики и визгливо кричали проходящим: «Чай, сахар, кофе; сукна, материи, полотно; платки, шали, бурнусы; сапоги, туфли, башмаки; сюртуки, жилеты, брюки» и пр., и пр., и пр. «все хорошие». Сидящие за прилавками коммерсанты также прохлаждались чайком у самоварчиков. В Охотном ряду, у Воронина, блины те же, и курить поганое зелье – табак, так же не разрешается. В Замоскворечье вечером, часов в 8 или 9, когда все ворота и калитки заперты, и цепные собаки спущены, можно не только заблудиться, но даже разбить себе нос или лоб, как это случилось с Меркурием, явившимся к Юпитеру из посылки в серпуховскую часть (Орфей в аду – Оффенбаха). У будок стоят также с алебардами блюстители порядка, и также на Самотеке, Дербеновке и даже самом модном Кузнецком мосту, милые существа ловят и тащат к себе проходящих молодцов.
Без сомнения, все то же и теперь, хотя протекло с тех пор целые полвека. Москва и консерватизм – это les idées inséparables[249]249
Неразделимые идеи (франц.).
[Закрыть].
Представитель московской интеллигенции, профессор и академик М.П. Погодин, хотя и житель не Замоскворечия, не мог не восставать против европейского нововведения освещать улицы газом, и восставал в думе всею силою исторических и народнических доказательств.
12-го числа – св. Татьяны и праздник основания Московского университета. Я отправился в университетскую церковь, виделся со многими прежними товарищами своими, и обедал с ними[250]250
М. Маркс учился в Московском университете в 1837–1840 гг.
[Закрыть]. Приятно мне было с ними встретиться, радостно и они встретили меня. Несмотря на то, что воспоминания о студенчестве нашей жизни было почти единственною темою, варьированною при разговоре с каждыми отдельно, мне удалось много и очень много узнать нового. Довольно значительное число сотоварищей отправилось уже ad patres[251]251
К праотцам (лат.).
[Закрыть], иные расползлись далеко по лицу земли русской и нерусской, многие из прежних сорванцов и повес сделались солидными, а некоторые и важничали. Даже несколько прежних тружеников потолстело, почреватело, расплылось, и по всему видно, что изменилось. Были и такие, которые ни по наружному виду, ни по внутреннему содержанию, увы, никак нельзя было узнать. И все это – в 20 лет!
Я радовался одному, что не смотря на приобретенную мною в это время плешь во всю голову, все-таки все сразу узнавали меня. Порядочное число было здесь и с проседью, один или два – совсем седые, плешивых в разных степенях и размерах – много, и несмотря на то, в заключение обеда мы все пропели, или правильнее и справедливее сказать – проревели: «Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus!»[252]252
Начальные слова студенческого гимна: «Возрадуемся, пока мы молоды» (лат.).
[Закрыть], совершенно забывши, что мы никак уже не juvenes…
Генерал-губернатором московским был тогда генерал Тучков, обер-полицейместер, кажется, ген. Потапов, попечителем учебного округа – Н. В. Исаков (потом начальник военно-учебных заведений), инспектором студентов П. Д. Шестаков (впоследствии попечитель Казанского округа) – все это люди и parexcellence[253]253
Исключительные (франц.).
[Закрыть], каких трудно найти даже днем с фонарем. Казалось, лучшего и желать нечего: обстоятельства общие – выше обстоятельств местных.
II
Первый визит, сделанный мне, был Райко Ивановичем Жинжифовым с другим болгарином, фамилии которого теперь не упомню. Они не застали меня дома. Их приняла жена моя и просила вечером на другой день без всяких церемоний побывать у нас. На оставленной карточке была надпись «Ксенофонт Иванович Жинжифов».
Болгары, с очень небольшим исключением почти все были стипендиатами университета, получавшего за их содержание и обучение плату то из кабинета Ее и Его Высочеств, то из славянского комитета, состоявшего под высочайшим покровительством. В комитете это числились и были главными орудователями: Погодин, Вельтман[254]254
Вельтман Александр Фомич (1800–1870) – картограф, переводчик, писатель и журналист. Значительная часть его творчества посвящена истокам Руси.
[Закрыть], Аксаков, Бартенев[255]255
Бартенев Петр Иванович (1829–1912) – выдающийся пушкинист, основатель журнала «Русский архив». Был проповедником славянофильства.
[Закрыть], и многие другие, носившие не совсем правильное название славянофилов, потому что одни из них (Погодин) были начисто москволюбцы, а некоторые (Аксаков) и монголюбцы даже. Одного только Вельтмана, автора романа «Светославич – вражий питомец» можно назвать руссо-, или варяголюбцем. Общая славянская идея была им неизвестна, или, по крайней мере, игнорировалась ими. Неопределенность понятий и тенденций вела к разладу, и прежде Аксаков, а потом и Погодин, каждый отдельно перессорились с прочими.
На другой день Жинжифов с товарищем явился в назначенный час и отрекомендовался мне именем Райко, т. е. тем, которым он подписывался в письмах ко мне, в бытность мою в Смоленске. Я невольно спросил, почему же братец его, Ксенофонт Иванович, посетивший меня вчера, не соблаговолил прийти вместе с ним.
– У меня нет никакого брата, и это карточка моя, – ответил он с каким-то смущением.
– Да, ведь вы – Райко Иванович?
– Точно так, но все-таки я должен зваться и подписываться ненавистным мне греческим именем Ксенофонт. Только между своими я Райко.
Я стал в тупик, но дело объяснилось вот чем. В церковных русских святцах нет имени Райко, и на этом основании славянин Райко по настоятельному требованию должен был официально фигурировать под греческим именем Ксенофонта.
В этот же вечер я узнал Жинжифова вполне. Он был со мною откровенен. Идеалами его, как истого народника были: равенство прав, вече – рада – сейм – скупчина[256]256
Скупщина – название парламента в некоторых балканских странах.
[Закрыть] с общею подачею голосов. Болгарию свою любил он всею душою, любил ее загнанный народ и готов был за него пожертвовать не одною только своею собственною жизнью. К туркам питал более презрение, нежели ненависть, но фанариотов готов был хотя бы до последнего всех перевешать. После, именно по случаю бегства Лангевича[257]257
Лангевич Мариан (1827–1887), польский генерал, участник Январского восстания 1863–1864 гг. в Польше.
[Закрыть] за границу, я слышал от него слова:
– Дельно полякам! За что они не послушали Мерославского[258]258
Мерославский Людвик (1814–1878), участник Ноябрьского восстания в Польше 1830–1831 гг. После поражения восстания пребывал в эмиграции во Франции, где активно участвовал в жизни польской эмиграции. Автор работы по истории Ноябрьского восстания. Участник революционных событий 1848 г. В феврале 1863 г. прибыл в Царство Польское, где возглавил партизанские войска на Куявах. Центральный Комитет назначил Мерославского диктатором и предводителем восстания. Однако он не выиграл ни одной битвы и считается «генералом проигранных битв».
[Закрыть] и не перевешали панов своих угнетателей.
Тут, кажется, не нужны никакие комментарии.
И странную комедию сыграла судьба с этим человеком: он умер, не дождавшись освобождения своего отечества, и умер Ксенофонтом и преподавателем греческого (!) языка.
Чрез несколько дней я обещал быть в собрании болгар.
Там было около 20 молодых людей, встретивших меня очень радушно (что мне бесконечно понравилось) и почтительно (что меня вводило в какое-то неловкое положение). Вскоре однако же я сумел приобрести общее дружеское расположение всех присутствующих. Мне очень понравилось, что они между собою непременно говорили по-болгарски, и только с одним мною, в виде исключения, должны были объясняться по-русски. Жинжифов тут же прочел свое новое стихотворение, и оно понравилось всем. Меня расспрашивали о болгарах смоленских, о Рачинском, и очень возмущались поступком Динькова на железной дороге.
– Погерченец! – было окончательным решением одного, по-видимому, старшего как летами, так и значением, болгарина.
– Погерченец! – повторил за ним весь наличный хор.
Был тут один серб и один черногорец. Серба нельзя было отличить от прочих, но черногорец поразил меня и своим телосложением и физиономиею. Атлет с сильно откинутым назад челом, горбоносый, с сильно выдавшимися вперед бровными дугами, черноволосый и черноглазый, с длинными висячими усами и торчащим между ними выбритым подбородком, он показался мне вышедшим из рам, в галереях старопольских домов, каким-нибудь Жолкевским, Кмитою, Замойским и пр. Удивительное сходство! И когда бы подбрить ему голову, оставить только на макушке чупрыну, то, верно, в каком-нибудь доме нашелся бы самый сходный портрет виденного мною сына Черной Горы.
Пропели несколько народных песен. Мне понравился марш, смахивающий несколько на марсельезу. Угощение. Как и следовало, состояло из чаю и табаку. Разошлись мы по домам уже за полночь.
Не более как через неделю, явилась к моей жене молодая, не более 16 лет, болгарочка. Она привезла с собою для передачи мне «Болгарский сборник», только что вышедший тогда в Москве. Книжечка была в изящном переплете и с надписью «от московских болгар». При первом свидании с женою девушка хотела поцеловать у нее руку, как момке. Это ей не удалось. Жена обняла ее и сперва поцеловала в голову, а потом в щечку.
Она воспитывалась в каком-то княжеском или графском доме, и была вывезена, кажется, из Кишинева. Милая и бойкая, она очень понравилась моей жене, и после когда, хотя изредка, посещала нас, была сердечно принята и обласкана ею.
Однажды я, выходя из своего кабинета, был поражен неожиданной картиной. В гостиной жена моя сидела в кресле и держала в объятиях болгарочку, припавшую лицом к ее груди и, видимо, рыдающую. Встретя какой-то умоляющий взгляд жены, я отступил и вернулся в кабинет. Девушка уехала, провожаемая женою, не видевшись со мною. На вопрос «что там у вас было, и чего она плакала?» – жена отвечала мне:
– Тоскует, бедняжка, по родине, и неудивительно: на чужой стороне и среди чужих людей!
– Так зачем же эти чужие люди завезли ее на чужую сторону?
– Спроси у них, и едва ли они сами знают это.
В самом деле, любопытно было бы услышать от этих благотворителей ответ на этот вопрос.
Говорят, что болгары, воспитывавшиеся в России деятельны, энергичны, храбры, но не благосклонны к русским. Должно быть, и благотворить нужно с умением, а его что-то не видно ни в комитетах, ни в частных домах.
III
Знакомых в Москве нашли мы множество. Кроме университетских товарищей, большею частью семейных, явилась и университетская молодежь, сперва из витебских и смоленских, а вслед за ними и из других местностей. Редко, очень редко обедали мы без 2–3-х гостей студентов, а когда по прошествии полугода и дочь моя прибыла из Вильны, у нас установились по пятницам домашние вечера, на которых никогда не было менее 15 человек. За чтением и пением, музыкой и танцами, чаем и легкою закускою, время проводилось очень приятно, и пролетало так быстро, что гости наши расходились не ранее 2–3-х часов утра. О картах не было и помину, и любители игры редко являлись к нам.
Студенты уже были без мундиров: некоторые только на последних курсах донашивали свою форменную оболочку. Казеннокоштные сделались стипендиатами, и жили вне университета, на частных квартирах, по своему выбору. Бриться и стричься под гребенку не считалось обязанностью. Голохвастову, Нахимову и анекдотическому Вл. Ив. Назимову и делать ничего не оставалось бы в университете. Даже введенная последним, любимая им и специальная его наука – шагистика была отменена Horrible dictu![259]259
Страшно сказать! (лат.).
[Закрыть]
– Когда ко мне является кто-нибудь в мундире своего ведомства, то я и знаю, с кем имею дело, а фрак вводит меня в недоразумение. Согласитесь сами, ведь его может надеть каждый сапожник, – сказал мне Вл. Ив. в 1860, когда я, увы, в черном фраке, явился к нему как к генерал-губернатору во время поездки моей из Смоленска в Вильну.
Студенты разделялись тогда по землячеству на кружки, принадлежность к которым не была однако же обязанностью, подобно германским корпорациям. Кружки эти составлялись почти по необходимости. Молодой человек, приехавший из провинции для поступления в университет, отыскивал прибывшего прежде в Москву своего знакомого, а иногда и родного, советовался с ним, сближался, и часто даже поселялся у него. За ним в том же году или в следующем являлся другой-третий и т. д. Вот и кружок. Сходные, или же одинаковые условия жизни и отношений, связывали их теснее и теснее. Потребности их делались общими, в случае нужды каждый прибегал за помощью к своему кружку. Составлялись из пожертвований и взносов кружковые кассы и библиотечки. Вновь выходившая книга, приобретенная студентом, не переставая быть его собственностью, входила в каталог кружка. Когда владелец ее по окончании курса уезжал, мог взять ее с собою или оставить для общего употребления. Из этих-то остатков составлялись маленькие, но отличные по содержанию кружковые библиотечки, из самых важных и капитальных в науке сочинений. Уезжающий на каникулы студент в случае нужды мог позаимствоваться с кружковой кассы, с обязательством оплатить по возвращении в августе или сентябре. В случае болезни студент был обеспечен лекарствами, а врачей бесплатно было своих ad libitum[260]260
Сколько угодно (лат.).
[Закрыть].
Рассматривая каталоги кружковых библиотек, каждый должен был убедиться, что молодежь работала, трудилась и училась не для выдержания экзамена только и для получения диплома. На что студентам нужны были Блохнер[261]261
Бюхнер Людвиг (1824–1899) – немецкий философ и врач, сторонник материализма, натурализма и атеизма.
[Закрыть] и Фейербах, а между тем они не только составляли необходимость каждой библиотечки, но даже явились литографированные переводы их сочинений. Кто же нибудь переводил их и издавал, и без сомнения, не без нужды были деланы эти переводы.
В мое время все это было, но еще в эмбриональном только периоде, а многое считалось и утопиею. А мое время было строгоновское, про которое все вспоминают как об одном из лучших моментов своей жизни. Закон прогресса всегда и везде одинаков: последующее лучше предыдущего.
Не знаю, везде ли также устроились студенты как в Москве. Знаю только, что в Петербурге пробавлялись они и пустячками. Там даже выходила печатная скабрезная газетка «Клубничка», многие статьи которой, судя по содержанию, писаны в Москве, но не получили в ней ходу. По Николаевской чугунке прилетали тоже не в малом количестве листки «Великоросса» и «Земли и воли». Пресловутый редактор Московских Ведомостей и Русского Вестника, М.Н. Катков[262]262
Катков Михаил Никифорович (1818–1887) – журналист, обозреватель и издатель. Редактор «Московских ведомостей» в 1863–1887 гг. В 1863 году особенно яростно выступал против Январского восстания.
[Закрыть], знал все это очень подробно и молчал, т. е. находил выгодным для себя делом молчать. После Севастопольской войны у нас вдруг повеяло либеральным духом, а широкая русская натура сейчас же понатужилась и захотела превзойти либеральные идеи всех народов. Уж либеральничать так либеральничать, на вскочь, очертя голову! Чего тогда не говорилось и чего не писалось! Вспомнить теперь – и грустно, и смешно.
Кружки формировались большею частью по губерниям. Были тверичи, смоляне, калужане, и пр. был даже кружок и новороссийских евреев, но тот держался как-то в стороне и вполне изолированно. Жители самой Москвы, особенно аристократического пошиба, не составляли никакого кружка, и ежели у них было что общее, то не иной что как разгул и кутеж, избегаемые прочими как по недостатку средств, так и по убеждению. Аристократы, как и в мое время, приезжали в университет на ухарских рысаках или на мышеобразных пони, постоянно в белых перчатках и говорили между собой не иначе как по-французски. Предметами их разговоров как любителей изящных искусств были: балы с графинями и княжнами, театры с балеринами, цирки с наездницами и хоры с цыганками. Только обожаемые ими мундиры, треуголки и шпаги подменились кратчайшими пиджаками и визитками, белыми жилетами, вычурными галстуками и шляпами ronds, plats[263]263
Круглые, плоские (франц.).
[Закрыть] и пр. всех возможных и невозможных фасонов.
Для взаимных сношений и во избежание всяких столкновений между кружками, введены были сходки. Место сходок летом назначалось обыкновенно в университетском саду, а зимою в одной какой-нибудь аудитории.
IV
Самым многочисленным и вместе с тем плотнее организованным был польский кружок. И неудивительно. Русские кружки были раздроблены и считали в своем составе только десятки студентов. В польский же кружок входили сотни, прибывшие из огромного пространства от Западной Двины и Днепра до границ империи с Пруссиею и Австриею, т. е. из тех учебных округов, которые лишились в 1831 г. своих университетов.
Каждый член кружка заявлял свои житейские средства и вносил определенный процент с заявленной суммы в общую кассу. Процентный налог соизмерялся потребностями кружка и производился крайне добросовестно. Контроль, пред которым ничто не могло укрываться: ни получаемые из дому деньги, ни приобретенные частными уроками или другими работами доходы, контроль неофициальный, мертвый, не всегда обходимый, а товарищеский, живой и строгий, заставлял всех быть крайне откровенными, и нести этот налог не только без ропота, но даже с каким-то предупредительным рвением. Многие добровольно уплачивали значительно более причитающегося за ними. К чести кружка должно заметить, что ценз взносы не давал всем взносившему никаких особенных преимуществ.
Собранная сумма возрастала коммерческими оборотами, а именно: 1. Каждый член кружка, обеспеченный или необеспеченный, за поручительством обеспеченного, в случае крайней необходимости мог взять заимообразно, из кассы, нужное ему кол-во на короткий срок, с уплатою одного процента за это время. 2. В разных местностях обширной Москвы устраивались мелочные лавочки. Товары для снабжения их закупались оптом, прямо из фабрик или заводов, а продавались врозь по общепринятым ценам всем покупателям за исключением членов кружка, получавших из лавок чай, сахар, табак, писчую бумагу, свечи и пр. по ценам фабричным.
Главными статьями расхода были: во 1) ежемесячное безвозмездное вспомоществование неимущим товарищам по 5 рубл. 2) плата за свидетельство на право торговли в лавочках, наем помещения и сидельца, закупку товаров и пр. 3) приобретение книг, как научных, так и литературных, на всех без различия языках, для кружковой библиотеки. Библиотека составляла общее достояние и отличалась как выбором, так и числом входящих в нее сочинений. После расходы увеличивались вновь явившимися потребностями, вызванными безотрадным положением учебного дела в белорусском округе.
Трудно представить, как низок был уровень знаний кончивших курс гимназий в Литве и Белоруссии. Слушать профессорские лекции для них было впрямь невозможно. В учителя поступали в виде обрусителей люди, нисколько не подготовленные и даже нисколько не способные. За малыми исключениями это были по большей части бурсаки из великорусских губерний, убоявшиеся бездны премудрости[264]264
Аллюзия на «Недоросля» – классическую комедию Дениса Ивановича Фонвизина, посвященную недостаткам русского дворянства. Один из второстепенных героев пьесы, малообразованный учитель Кутейкин, учась в семинарии, написал в своем «челобитье», «такой-то де семинарист, из церковничьих детей, убоялся бездны премудрости».
[Закрыть]. Были и канцелярские служители, получившие за выслугу лет чин XIV класса – отъявленные пропойцы и забулдыги. Даже унтер-офицера, выдержавшие экзамены в гимназиях на первый офицерский чин, высылались в уездные учителя. Можно судить, что и как преподавали такие личности, и легко понять, что, кроме отвращения и пренебрежения к себе, они ничего не могли возбудить в окружающей их среде. Дело обрусения по так мило придуманному плану, вместо успеха понесло, как и следовало по порядку вещей, блистательное фиаско, заставившее потом прибегать к муравьевскому террору.
Потребность учения между тем усиливалась со дня на день и чувствовалась в жизни все назойливее и настойчивее. Число желающих поступить в университет ежегодно возрастало, и молодежь толпами ехала в университетские города. Образцовое устройство кружка, известное и на родине, влекло чуть не всю массу в Москву, и наехало полуголовых (półgłówków) тьма тьмущая. Им советовали приготовиться к поверочному экзамену, не теряя нисколько времени, но известно, что люди этого сорта не слушают умных советов. Они все знают, потому что всему обучались. Историю они знали из руководства Устрялова, географию из Ободовского и т. д. и когда им говорили, что лучше совсем не знать ни географии, ни истории, нежели знать по Устрялову[265]265
Устрялов Николай Герасимович (1805–1870) – русский историк и один из основных сторонников теории официальной народности. Автор многочисленных учебных пособий и учебника истории для гимназий.
[Закрыть] и Ободовскому[266]266
Ободовский Александр Григорьевич (1796–1852) – русский географ, педагог, автор множества учебников, в т. ч. учебника географии 1844 г.
[Закрыть], что по-русски они не выучились, в латыни не смыслят ни бельмеса, что в математике они очень слабы, а в физике совершенные невежды, они не только не верили, но еще и обижались таким дружеским предостережениям. Хуже всех были фармацевты, большею частью удовлетворявшиеся уездным училищем. Этих субъектов, по справедливости, в параллель прочим, надо было звать окончательно безголовыми (acephali).
Настали экзамены – и совершилось избиение младенцев. Воплям, жалобам, стонам и упрекам не было конца. Сильнее всех досталось почтенному и добрейшему профессору О. И. Пеховскому[267]267
Пеховский Осип Иванович (1815–1891), российский филолог, ординарный профессор Московского и Харьковского университетов.
[Закрыть], как поляку, который с строжайшею справедливостью и беспристрастием немилосердно castigavit[268]268
Фигурально: резать на экзаменах (лат.).
[Закрыть] и полу– и безголовых.
– Вы нас погубили, куда нам деваться? – кричали они ему.
– Домой ехать, – отвечал профессор.
– А там что делать?
– Bóty szyć, bóty (сапоги шить, сапоги),[269]269
(орфография автора.)
[Закрыть] – было ответом.
И в один прекрасны полдень в конце августа по рельсам Николаевской чугунки летел вагон III-го класса, сплошь и исключительно набитый будущими bóty szyć.
Некоторые однако же поблагоразумнее остались в Москве с целью усидчивым трудом наверстать прежнюю невольную потерю лет, и кружок пришел им в помощь. Им доставлены были все средства самообразования, и нашлись даже добровольные и безвозмездные руководители и наставники. Вскоре прибыла и новая молодежь, не самонадеянная, и готовая трудиться в поте чела, лишь бы выйти из ненормального положения своего в обществе. Их звали футурами (будущими, подразумевается, студентами).
Футуры входили в кружок студентов без малейшего различия в правах и обязанностях. С присоединением их увеличились средства кассы, но зато увеличился в таком же отношении и расход ее на учебные пособия, для них и годные только.
Десяток (приблизительно) студентов и футуров, живущих по соседству, избирали одного из себя в десятники, как представителя своей общины. Сотник, тоже избранный, представлял за 10 таких десятков интересы более общие. Избирались, кроме того, кассир, библиотекарь и по одному помощнику к ним, а в конце учебного года три члена для всеобщего контроля.
Кончившие университетский курс и остающиеся на жительство в Москве большей частью не выходили из кружка и оплачивали соответствующий своим доходам налог. Богатая библиотека была тут главною приманкою. Но они не входили в счет сотен и десятков и, не имея голоса на сходке, не могли быть избираемы ни в какие должности, от которых, впрочем, каждый принужден был бы отказаться по их обременительности.
Самыми выдающимися сотнями были арбатская и трубецкая. Первая состояла почти вся из молодежи зажиточной, аристократической, князей, графов, любивших жить поприличнее, даже с великосветским комфортом. За то чуть не две трети сбора в кассу кружка уплачивались ими. Труба, напротив, состояла из плебса, пробивающегося со дня на день, жившего по-спартански в каких-то конурах, спавших иногда на соломе, питавшихся по-ирландски – сухим хлебом и картофелем, и при благоприятных только случаях пивших чай или молоко, и в третьей почти части всего своего числа получавших по 5 рубл. из кассы. Трудно ответить на вопрос, спали ли когда-нибудь эти люди? Потому что днем и ночью они трудились, работали, и горячечно суетились. Тут были и библиотека, и касса, и контроль, одним словом, вся внутренняя жизнь кружка. А на курсовых экзаменах, между тем, блистательнее прочих выступали жители Трубы. В числе футуров своих, надобно отметить, сотня эта считала двух графов: Мечика (Мечислава) Вельгорского и Гутю (Густава) Шадурского. Последний все-таки не мог расстаться с рыцарскими замашками, и получил известность в Москве как ярый и неумолимый преследователь жуликов и защитник милых существ на Цветном бульваре.
Кутежи и скандалы преследовались очень строго. Суд совершался явною подачею голосов. Наказанием были штраф, арест и даже исключение из кружка с бесчестием (infamia). Исключенному никто не подавал руки при встрече, и он отчуждался от всех своих товарищей. К чести кружка сказать нужно, что во все время его существования случаев исключения было только два, не считая третьего, вполне своеобразного, совершившегося на Трубе. Некто Журавский, добрый и милый молодой человек, любил кутнуть и поскандалить. Ни штрафы, ни аресты не помогали нисколько. Исключить было жалко, да и самые подвиги его были больше шалостями, нежели проступками. Решено было прибегнуть к телесному наказанию, что и исполнено было с успехом, превзошедшим всякие предположения: потому что кутило и скандалист сделался самым скромным, воздержанным и нравственным субъектом, и не только не обиделся произведенною над ним операцией, но даже с назидательною целью умильно рассказывал о ней вновь прибывшим футурам.
Одним словом, студенческий польский кружок в Москве был организован прекрасно, и в нравственном, и в экономическом отношениях, и все явившиеся после худые отзывы о нем – не более как умышленная и злобная клевета. Противозаконного, безнравственного, а тем более преступного, в нем ничего не было.
Издание литографированной 3-й части «Дзядов» Мицкевича, строго запрещенной цензурою, сделано было на средства частные, доставленные из Литвы. Польский кружок был виноват только тем, что не помешал этому изданию путем доноса. Да какая стать была ему брать на себя некрасивую обязанность сыщика и доносчика при усиленном действии явной и тайной полиции, к несчастию, не видевшей ничего у себя под носом?
Чехи, подползавшие тогда под крылышко московских славянофилов, и восхищавшиеся вместе с Гездерою, русским языком в церковно-славянской молитве господней, составляли тоже свой очень немногочисленный кружок. Я был приглашен на один из вечеров у них вместе с проезжавшим через Москву в Карлсбад И. Верниковским, товарищем Мицкевича по университету и обществу филаретов, а потом директором харьковской гимназии. Пили чай, пели песни, например, такую:
Или «Brantwein, brantwein, horylka kochana»[271]271
Водка, водка, водочка любимая (нем., словацк.).
[Закрыть], и много-много толковали о средствах выбиться из-под немецкого ига. Один из ярых младочехов выступил с речью, которую начал-то по-чешски, а кончил по-немецки.
– Это потому, – сказали мне, – что наш язык не может выразить всех тех философских спекуляций, которые удобно оттениваются в немецком языке.
– Ну, Бог с вами, долго же вам, очень долго оставаться под немцами, – подумал я и другой раз никак не мог решиться на посещение их сходок.
V
19 февраля 1861 года[272]272
Манифест был прочитан только 5 марта 1861 г.
[Закрыть] торжественно в Успенском соборе был прочитан высочайший манифест незабвенного царя-освободи-теля. Газеты прокричали, что в Москве весь народ ликовал этот день восторженно. Так ли только? – Известно, кажется, как народ, какой бы ни было – русский или не русский выражает свою радость; а между тем едва ли в этот день откупщик Кокорев[273]273
Кокорьев Василий Александрович (1817–1889) – русский предприниматель и меценат, известный своим богатством. Маркс намекает на то, что одним из основных источников доходов Кокорьева была торговля алкоголем.
[Закрыть] получил сколько-нибудь более обыкновенной выручки. Что народ был рад – в том не было сомнения никакого, но радовался он как мог, т. е. пассивно. Для выражения его радости, даже самой задушевной, нужны были непременно: во 1) инициатива, и еще, во 2) разрешение. Униженный, загнанный и забитый многовековым рабством, он мог только выражать свою радость тихою благодарственною молитвою, принесенною Богу в уединении. Так он и радовался, быть может, скрывая даже свою радость от постороннего взгляда. Для откровенного ликования не было инициативы, да и где можно было сыскать инициаторов?
Не в московском ли дворянстве? Да оно из последних сил становилось на дыбы, защищая свои боярские прерогативы. Оно скорее заплакало бы, ежели бы только уверения М.Н. Муравьева, что «ничего не будет, и на этой дудочке поиграют недолго», не поддерживали их надежд на лучшее будущее. Даже после манифеста оно съехалось еще раз для заявления вновь придуманного какого-то протеста; но, по распоряжению свыше, было не совсем даже вежливо разогнано жандармским полковником Воейковым. А как и с какими затруднениями вводилось новое положение, можно между строк видеть из газеты «День», начавшей выходить под редакцией И. С. Аксакова с октября того же года.
Не в московском ли купечестве, казавшемся покойному Николаю Павловичу любящим его народом – в купечестве, отмеченном в лице своего представителя почетным прозванием «Царский»[274]274
Вероятно, это аллюзия на Ивана Никитича Царского (1789–1853), известного московского купца, старообрядца и коллекционера старопечатных книг.
[Закрыть]? – Но ведь девизом купечества везде и всегда было: «Всё – нам, ничего – другим!», а московское разве могло быть исключением? Освобождение крестьян при том не представляло никаких ему выгод. Фабриканту или заводчику выгоднее было приобретать рабочие руки, сносясь с помещиками, живущими чужим только трудом, и не слишком высоко ценящими труд рабов своих, нежели со свободными работниками, сознательно знающими цену своего труда.
Не в интеллигенции ли? Но лучшая честь из имеющей значение и могущей иметь влияние интеллигенции давно переселилась в Петербург, а там усердно действовала, не жалея ни сил, ни трудов своих в пользу народа и на славу дорогой им России. В Москве осталось несколько только самозванных славянофилов, да отребие гегелистов, дошедших до крайних абсурдов, которых не избежал в конце своей жизни и гуманнейший из них – Висс. Белинский.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.