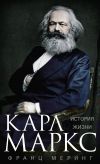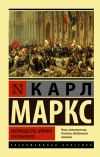Текст книги "Записки старика"

Автор книги: Максимилиан Маркс
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
Через священника разжился я шестью дестями бумаги, двумя карандашами, сотнею перьев и полубутылкою чернил. У него же нашел на первый раз оставшийся от семинарского курса экземпляр Энеиды, за который я ухватился как тонущий за соломинку. Прочитанная по крайней мере сто раз в молодости, эта римская сказочка, этот Бова-королевич[355]355
Герой русского, белорусского и украинского фольклора.
[Закрыть], или Еруслан Лазарович[356]356
Герой древнерусских сказок и фольклора.
[Закрыть], занимала меня как ни один французский роман не занимает самой страстной молодой читательницы. Эта мертвечина показалась мне теперь вкусным блюдо, потому что умственный голод также мучителен, как и физический, и, в случае необходимости, может удовлетвориться чем-нибудь, хотя бы то была и падаль. Но главным занятием, поглотившим все мое время и все мои мысли, была математика. Без руководств я повторил алгебру, тригонометрию, аналитическую геометрию, дифференциальные и интегральные исчисления, ворочал на всевозможные лады неопределенные уравнения, решал ими задачи т. н. волшебных квадратов, затем пошла теория переложения и вычисление π до тридцатой децимали. Я задавал себе самые копотливые задачи только для того, чтобы при решении их действовать мозгом, но действовать последовательно, систематически и без прыжков. Голова была полна мыслей и мне уже не приходилось спрашивать себя: «Что же я не думаю?»
А бедный доктор? Диагноза его была верна! Через года два я услышал горькую весть – он сошел с ума. То же, по всей вероятности, ожидало и меня.
Вот именно в самую критическую минуту, когда я во всей Кежме не мог найти себе квартиры, страдалец Малевич поступил к какому-то кулаку в сидельцы на зимовье (постоялом дворе на таежной дороге), и собирался ехать сперва один, без жены. Что его побудило обратиться ко мне – не знаю, но только он предложил мне квартиру со столом в своем доме, с платою трех рублей серебром в месяц, и с обязанностью беречь его бедную жену, пока он не устроится на новом месте и пока она не угодит к нему. Я принял предложение с радость, и в тот же день переехал к нему. Чрез дня три он простился с женою, заплакал, прощаясь со мною, уехал, и я остался каким-то хозяином дома. Глухонемая постоянно сидела дома, стряпала и шила что-нибудь, я предался своим вычислениям, и не выходил почти никуда, кроме изредка к священнику, который тоже посещал нас иногда. Хотя скучно и грустно, но как-то спокойнее текли дни за днями. О прошедшем некогда было думать, и будущее казалось уже не так страшно. Одно настоящее было тяжко, а неизвестность о судьбе дорогого семейства мучала меня наяву и во сне.
Пьяные арлапы, довольно часто проходя около избы, посылали в нее свои полновесные косолапые каламбуры. Глухонемая не слышала их, а я не слушал.
Через месяца три пришло почтою письмо от Малевича к жене с десятью рублями и приглашением ехать к нему. Несчастная женщина заплакала от радости и стала размахивать руками, и издавать какие-то сочетания губных согласных с неопределенными азбукою гласными. В два дня она снарядилась в дорогу, и на прощание со мною также заплакала, также замахала руками и также закричала. Но что выражали эти звуки во второй раз, я не мог понять.
Оставшись вполне одиноким, мне нужно было самому взяться и за топку печи, и за стряпню, и за мытье белья. Только хлеба я не пек, потому что родные уехавшей по ее просьбе, согласились за сходную цену снабжать меня по мере потребности. Им же я должен был ежемесячно уплачивать по рублю квартирных денег. Затруднительнее всех работ было для меня ношение ведрами воды из Ангары, особенно зимою и во время стирки белья. Все это, однако, делалось безотлагательно, и оставалось еще довольно времени для умственных занятий. Я уставал страшно, а сон мой был все-таки неспокойный.
Прошло порядочно времени, как вдруг совсем неожиданно меня позвали в волостное правление и там сказали расписаться в получении письма. Письмо было мне отдано, я взглянул на него и узнал почерк дочери. Поспешнее побежал я домой, еще на бегу разорвал пакет, вбежал в избу и в первых же строках прочел: «Мы едем к тебе!» Этого довольно! Я ожил и, проспавши всю ночь преспокойно, проснулся на следующий день чуть ли не в полдень.
Через три месяца после я ехал в Енисейск на новую борьбу, не с Арлапами, а с другим элементом, более сильным, хотя не более осмысленным.
Кежемским общественникам остался теперь на съедение один священник. Они отправили от себя депутацию к архиерею с обвинением его в неверии и просьбою суда над ним, и он был потребован в Красноярск почти за 1000 верст. Нечего говорить, что был оправдан, но сам же просил о перемещении его куда-либо в другой приход, и вследствие собственной просьбы был назначен в минусинский округ.
Вот что после слышал я от приезжающих из Кежмы: Кустов пьяный сгорел в собственном доме. Найдены были только его обгоревшие ноги на печи, и такая же свинья, вместе с другими покраденными вещами, в подполье. Александра Ефимовна прельстила какого-то жидка, обратила его в христианство, обвенчалась с ним, и зажила в довольстве ив почете. Малевич умер, и глухонемая жена его сошла с ума. Ефим Лаврентьич тоже скончался вследствие воспаления мочевого пузыря. Волхвитка Афонькина не была ни «запечатана», ни «сожжена» по-тихвински. А Иван Яковлевич отдыхает на лаврах, заслуженных удалением священника, наслаждаясь сивухою и толкуя святое писание товарищам своих попоек. А товарищи эти уважают и чтут его не менее того, как москвичи уважали и чтили его тезку – Корейшу[357]357
Корейша Иван Яковлевич (1783–1861) – русский юродивый, более 47 лет находился в психиатрических больницах. Почитался многими современниками в качестве прорицателя и блаженного. Упоминается в произведениях классической литературы, в т. ч. Ф. Достоевского, Н. Лескова, Л. Толстого и И. Бунина.
[Закрыть].
Милая грамота! Как ты жалка сама по себе. Без тебя ведь и Кустовы, и Ефимы Лаврентьевичи, и Иваны Яковлевичи невозможны и немыслимы даже!
ЕнисейскМ. Маркс
Енисейск (1869–1888 гг.)
Из Кежмы в Енисейск единственный путь и летом, и зимою – Ангара, и мне предстояло ехать по той же дороге, которою два года прежде я уже ехал. Мерещились в памяти Потоскуи и Погорюи со смоленскою цыганкою, и полынья на реке – да и то, мерещились только. Не до наблюдений и не до затверживания впечатлений тогда было. Ехал я куда-то, в какую-то даль неизвестную, неприветную, угрюмую, темную, непроницаемую, а главное – безнадежную, и ехал безвозвратно. А теперь меня ждут пылкие объятия дражайшей жены и сердечные ласки дочери. Ежели бы на всех семистах верст все были только Потоскуи и полыньи, и тогда бы дорога показалась мне лучше всякой шоссейной, а неуклюжие, тесные крестьянские сани были выгоднее лучшего вагона первого класса на чугунке. Кто-то правда сказал, что впечатления измеряются восприимчивостью.
6 декабря 1868 года я выехал из Кежмы с ходоком, т. е. с сельским почтальоном, отправленным в соседственную Пинчугскую волость, и до самой Пинчуги катил днем и ночью безостановочно. Здесь я мог отдохнуть по своему произволу, и отсюда мое время вполне принадлежало мне. В Пинчуге однако же я оставался не более 6 часов. Приехали мы в нее около полуночи, а еще задолго до рассвета лошадь с санями была для меня приготовлена. Тоже, как и прежде, движение шагом по речному льду, с такими же ямщиками-женщинами, только уже не «под строжайшим караулом». В Иркинеево везла меня дева-невеста, ехавшая на свидание к своему жениху. Мороз доходил по крайней мере градусов до 30. Она оделась потеплее и из предосторожности облеклась в отцовские штаны. К несчастью, гардероб этот пришёлся ей не по мерке, и в половине дороги съехал с ног и образовал что-то вроде кандалов, не позволявших ей шагнуть с места. Пришлось остановиться, чтобы помочь горю, а как сама она не могла справиться с непривычным для нее прибором, то я volens-nolens должен был пособить ей раздеться на холоде и закрепить толстенные и грязнейшие штаны на ее торсе без следов талии.
Под Кондаками дело было похуже. Лошадью правила девочка не более 12 лет. Пока ехали мы по дороге, куда ежедневно почти ездили со двора за сеном, лошадка бежала сама безо всякого понуждения довольно бойко, но когда пришлось свернуть в сторону, она заупрямилась, и начала потом постоянно поворачивать в обратный путь. «Огневой девке», как мне рекомендовали ее при отъезде, не в силу было управлять лошадью. Я взял веревочные вожжи в руки и ударами плети заставил лошадь идти, не сворачивая с дороги. Так проехали мы верст 15, как вдруг левая гнилая вожжа лопнула, лошадь дернулась в правую сторону, сани опрокинулись, девочка, крича «ой, погибнем!», осталась на снегу вместе с моею поклажею, а я поволокся на вожже за лошадью по огромнейшей дуге, более версты в длину. Управиться с лошадью, тянувшею обратно домой, мне не было никакой возможности с одною вожжою в руке. Голос девочки, кричавшей во всю мочь, сперва едва лишь слышался, а потом и совсем замолк. Положение мое было скверное, и я не мог даже придумать, что тут делать. Как вдруг послышалось ботало (бубенец), а за ним и человеческие голоса. Ехали из Кондаков крестьяне на двух санях. За рубль один согласился свезти меня в Кондаки. Девочка уселась в свои сани, и лошадь ее побежала вслед за санями другого крестьянина.
Сибирь отличается недостатком преданий. Это не то, что в России, особенно в западной и южной ее части, где чуть не каждый холмик, не каждый овражек, наводит на какое-нибудь воспоминание, историческое ли, или предисторическое, т. е. митологическое, неправильно называемое суеверным. Остяки и тунгусы, уступая свои земли и уходя в таежную глушь, не уносили с собою памяти о жизни отцов своих в странах, ими оставленных, и все, что теперь можно знать из прошедшего Сибири – то должно почерпать или из официальных рапортов казацких ватаг московским воеводам, или из очень немногочисленных записок, оставленных после смерти какого-нибудь монаха-летописца, не всегда прямодушного, а еще реже сколько-нибудь осмышленного.
Кондаки однако же сохранили, хотя очень темное предание о своем прошедшем. Одна скала носит здесь название тунгусского камня. Здесь-то в 1615 г. тунгус Данул в первый раз встретил с ружьем в руках московского воеводу Молчанова. Он пал в битве, и преемники его Иркиней (деревня Иркинеевка на Ангаре) и Тасей (река Тасеева, впадающая в Ангару у Кондаков) в 1621 году были уже объясачены.
В Кондаках и я простился с Ангарою. Далее пошла via sicca[358]358
Сухой путь (лат.).
[Закрыть], и ямщиками очутились мужчины.
15-го числа ночью въехал я в Енисейск, цель моей поездки, и чуть-чуть не погиб у ворот блаженства.
Енисейск, не смотря на сильно развитую тогда в нем золотую лихорадку (xebris aurea), был городом осень неказистым, и жизнь, за исключением бешеного сентября, как времени выхода рабочего люда из промыслов, текла в нем глухо и сонно. После захождения солнца на улицах не видно было никого, ворота дворов все заперты, цепные собаки спущены и ставни окон закрыты. Темень, глушь и мороз градусов в 40. Знал я только, что семейство мое остановилось в доме Ростовцевых, но как найти этот дом там, где не у кого и спросить даже.
Подъехал я к одному дому, стучу в ворота и ставни. На дворе окликается, среди разъяренного собачьего лая, непременно женский голос: «Чей ты?». Что тут отвечать кроме «свой». «Убирайся к черту, варнак!» – и более ничего не добьешься. Обыкновение спрашивать «чей?» пошло со времен открытия золотых приисков, и отвечать следовало «григорьевых, бернардских, малевинских, базилевских» и пр., и в свою очередь вопрос этот породил новые фамилии мещанские и купеческие с окончанием на – их: Белых, Черемных, Сизых. Я этого не знал, и в семи или восьми домах получил в ответ одни только ругательства. Более двух часов колесил я по городу, и нигде не мог добиться какого-нибудь толку. Ямщик мой, промерзающий наравне со мною, что называется, до костей, заявил мне наконец, что он свезет меня на известный ему постоялый двор, а я днем скорее отыщу каких-то Ростовцевых, нежели теперь ночью и в такой мороз. Я согласился. Едем на постоялый двор в конце города. На большой улице в одном доме ворота отперты, и у подъезда стоят сани. Я окликнул: «Чья лошадь?» – «Доктора Антоневича» – ответил кучер.
Доктор Антоневич[359]359
Константин Антоневич, врач, выпускник Дерптского университета, умер в Енисейске.
[Закрыть], из ссыльных поляков, жил прежде меня в Кежме, мне про него много рассказывал тамошний священник Г.С. Олофинский.
– Стой, брат, стой! – закричал я своему ямщику. В это время вышла дама и хотела садиться в сани.
– Позвольте узнать, дома ли доктор? – обратился я к ней.
– Нет его дома, но ежели по больному, то я сейчас же сообщу ему, и он приедет. Ваша фамилия?
Я назвался. Дама эта была г-жа Антоневич, с которою семейство мое уже познакомилось.
– Садитесь со мною, я довезу вас к вашему семейству, – сказала она мне. Ямщик поехал вместе с нами. Мы подъехали к деревянному двухэтажному дому. В верхнем этаже в окнах был свет, в нижнем ставни заперты.
– Вот здесь, стучите в эти ворота. Отворят нескоро, и потому до свидания. Завтра ждем вас с семейством, – сказавши это, г-жа Антоневич уехала.
Я стал стучать и в ворота, и в ставни окон. Нескоро, очень нескоро за воротами окликнулся женский голос: «Чей ты?»
– Пустите ради Бога, здесь наверху мое семейство.
– Да чей ты? Говори!
– Я-то свой, и семейство мое здесь живет. Пустите ради Бога поскорее.
Замолкло все и замолкло надолго. Я начал стучать снова. Собаки заливались лаем, начали уже хрипеть, и вдруг несколько притихли. На дворе послышались по скрипучему снегу шаги нескольких человек.
– Кто тут?
Я узнал голос дочери.
– Катя, дорогая моя, отворяй поскорее, это я!
– Мама, мама! Это папа! Он сам! Его голос!
Собак посадили на цепь, ворота отворились и я, окоченевающий от холода, очутился в объятиях жены и дочери.
Замерзающий ямщик, выпивши несколько рюмок водки, согрелся, положил лошади сена и лег на печи спать.
II
Целые два дня мы едва находили время, чтобы напиться чаю и что-нибудь съесть. Разговоры и расспросы разрастались до бесконечности, и делались все интереснее и интереснее. Да и было, о чем поговорить.
Не один я из заключенных в крепости подвергся галлюцинациям. Было кроме меня довольно таких, которым одиночество и тягость тюрьмы были не по силам, и потрясли их умственные способности даже безвозвратно и на всю жизнь.
Вдруг разнеслось, что я бежал с дороги. Кто-то из погостивших в Петропавловской крепости встретил даже меня в Москве на улице. И что же? Тогда как я изнывал с горя в Кежме, семейство мое было арестовано в Москве. Содержалось оно в Серпуховской части с половины мая по конец октября 1867 г., сперва в одной камере, а потом в разных и, по возможности, отдаленных. Несмотря на болезнь матери, не дозволено было моей дочери навестить ее даже при свидетелях. С какою целью и по каким побуждениям все это делалось – трудно догадаться, и знать могут разве только те, кто распоряжался. Должно быть, во все это время были наводимы справки по всему пути до самой Кежмы: потому что и там, когда один из ссыльных назвал меня из вежливости отцом, то получил от Паншинского священника предостережение, что он ошибается во мне, и что я не более и не менее как московский жулик, назвавшийся именем бежавшего за границу. В Енисейске же это мнение было в большом ходу, несмотря на то, что при проезде моем чрез этот город, я виделся с двумя личностями из знакомой мне московской молодежи.
В день приезда моего семейства в Енисейск, т. е. 8 октября, г-жа Бартошевич, жена здешнего соляного пристава, сделала ему первый визит, а на другой день навестила его вместе с приятельницею своею г-жею Жданович[360]360
Имеется в виду Эмилия Зданович (1835–1884), дворянка, жена Ивана Здановича, чиновника Енисейской губернии.
[Закрыть]. Обе эти дамы оказали самое теплое сочувствие как к жене моей, так и к дочери, и вместе с г-жею Антоневич составляли почти весь круг их знакомства в городе.
Не прошло и месяца, как г-жа Бартошевич в сильном смущении сообщила моей жене неприятнейшее известие, что в Кежме под моим именем живет какой-то негодяй, самозванец, совсем не муж ее, бежавший с дороги и находящийся теперь за границею. Можно представить, как это поразило бедную женщину, пожертвовавшею всем, решившуюся из любви ко мне, ехать в страну неизвестную и страшную по одному своему имени, ехать для того только, чтобы разделить со мною тяжесть моего несчастья, облегчить его своими ласками и утешениями, и нравственно укрепить дух мой в борьбе с невзгодами жизни. Но письма, полученные ею в Москве, были, без сомнения, мои. Как же согласовать эти противоположности? Неужели находящийся в Кежме был только посредником в передаче нашей переписки. Притом же ответ мой из Кежмы на письмо с посылкою теплого платья, высланною ко мне из Енисейска, писано моим почерком. Мучительное сомнение это окончательно разрешилось только личным моим появлением.
– Он сам! Его голос! – вскрикнула дочь моя, услыша за воротами мою просьбу открыть поскорее.
Кежемская жизнь не осталась без зловредных влияний на мой организм. Цинга начала развиваться во мне с весны 1868 г. Я не обращал на нее никакого внимания и даже решил не лечиться, чтобы скорее разделаться опостылевшею жизнью. Но когда получил известие, что семейство мое едет ко мне, захотелось не только жить, но даже и быть здоровым, и поспешил подать прошение о дозволении ехать в Енисейск для поступления там в больницу. Разрешение на то, при самом усердном старании жены моей, пришло от г-на губернатора из Красноярска только через три месяца, потому что, по предписанию умнейшего г-на Замятнина, в больницу можно было отпускать гражданских ссыльных только по справке, находится ли в ней свободная кровать. В противном случае не дозволялось больному лечиться. Что же касается осужденных Верховным уголовным Судом, то принимать их не иначе как с разрешения самого губернатора. Сколько раз можно больному умереть во время всей этой процедуры – про то не подумал г-н Замятнин. А может, и подумал, но что же мог сделать? Ведь у таких людей форма и объем переписки – верх совершенства администрации.
В Енисейске здоровье мое быстро стало поправляться. В конце мая я начал чуть не ежедневные ботанические экскурсии. К этому же времени появилось в огромном количестве черемша (Alliumursinum L.), неблаговонное, но прекраснейшее лекарство от цинги. Жаль, что она может употребляться только в свежем состоянии, и до сих пор не придумали способа делать из нее консервы. Соленая, квашеная и маринованная оказалась крайне отвратительною и нисколько не действующею. Запах ее, схожий с чесночным, изобличает в ней значительное количество фосфорной кислоты. В здешней золотопромысловой тайге заболевших цингою отправляют целыми партиями на подножный корм, снабдив их хлебом, солью и кирпичным чаем, дней на 10. По истечении этого срока возвращаются все здоровешеньки. Но там места значительно возвышенные, и, судя по стоянию барометра, достигают 550 метр. над поверхностью моря. Енисейск же лежит открытой низменности, покатой несколько к северо-западу, и окружен со всех сторон тундрами.
Мало-помалу круг знакомства моего стал расширяться. Интеллигентное общество здешнее состояло, как везде в России, из наезжих административных правителей, из великорусского дворянства золотопромышленников, тоже наезжих, и то, временно только, а постоянно проживающих в Петербурге, из местного купеческого сословия, отчасти тоже золотопромышленного, и, по особенному условию сибирских городов, из ссыльных поляков.
Первые, как и везде, вне всяких похвал. Как исключение, впрочем, во все время моего пребывания в Енисейске, верховные здешние правители-исправники (Романович, Геце, Шитилов и пр.) были люди вполне на своем месте. Про других, особенно стоящих ниже в административной иерархии, этого сказать нельзя. Все они были или выжившие из ума пропойцы, или запросто сошедшие с ума субъекты, высылаемые сюда за недостатком сумасшедших домов, на должности до исправления.
Дворяне-золотопромышленники и присылаемые ими управляющие старались поддержать барство и барское гостеприимство. Дома их были открыты в полном значении этого слова. У постоянно жившего здесь И. А. Григорова можно было прийти, поесть и выпить хорошенько, и уйти, не сказавши ни слова с хозяевами и даже не видевши их. Именины же и дни рождения самого его и всех членов его многочисленного семейства были праздниками для всего города. При крайней простоте и чистосердечности в обращении, в доме его царствовала тончайшая вежливость и изысканный комфорт. И в эти-то праздники у него, как в какой-нибудь кунсткамере, можно было приглядеться к самым крупным здешним слонам и самым мельчайшим букашкам.
Купечество коренное местное полу-, а иногда и совсем безграмотное, отличалось тогда самообожанием, произведенным в громкий чин патриотизма. Оно или ничего не читало, или читало официально обязательные Московские Ведомости, и только под диктовку М.Н. Каткова могло и думать, и чувствовать. Замкнутость и отчужденность были основными элементами всей их жизни. Крупнейшие из них, занявшись золотопромышленностью, разумеется, старались подражать европейским коллегам, но это было настоящее обезьянничанье с наружными приемами цивилизации, утрированной до смешного. До открытия золотопромышленности купечество енисейское, при всей патриархальности своего быта, много однако же, хотя косвенным образом, способствовало к благосостоянию страны. Тут особенно памятны два семейства: Кобычева и Калашниковы. Первый, будучи головою города, пожертвовал чуть ли не всем своим имуществом, спасая Туруханский край от нашествия петербургского квартального. Вторые же в 1834 году перенесли 8 ульев пчел в деревню Озерную, а через 2 года имели уже 72 улья. В 1837 года скопцы (сосланные солдаты кавалергардского полка) 10 ульев отсюда перенесли в свою колонию Искуп, а оттуда пчеловодство распространилось по Енисею за Туруханск даже. Зато были и другие впрямь противоположные направления. Селиванов, например, обдирал трупы бедных остяков, павших от оспы и тифа, а оставшихся в живых заставлял ставить пред собою зажжённые восковые свечи, им же продаваемые, и молиться ему, как угоднику божию. Теперь все эти крайности затерлись. Нивелировка цивилизации, хотя туго и не всегда удачно, сравнивает все эти шероховатости.
Ссыльных поляков было в Енисейске около сотни. Некоторые из них, особенно врачи и ремесленники, устраивались безбедно. Много служило в тайге и в городских конторах европейских золотопромышленников. Купечество, считая легендарную интригу, проповедуемую Катковым, за евангельскую истину, не допускало их к своим интересам. Многие импровизировались в садовники, огородники, в учителей музыки и танцования. Вся педагогия тогда состояла из трех самых жалких учителей уездного училища и из двух учительниц женского приюта, а потребность грамотности и еще более чего-то сверх нее была уже очень ощутительна. И вот многие, несмотря на правительственные запрещения, занялись преподаванием уроков. Строжайшие законы с угрозами строжайших наказаний, бессильны пред необходимостью. Заклятый формалист губернатор Замятнин, когда ему доложили о преподавании уроков по домам поляками, сказал только: «Об этом говорить не следует», а гражданский офицер Яшин одному отцу семейства, спрашивавшего у него совета по этому предмету, категорически ответил: «Вашим детям нужно учиться, а им нужно есть. Вот и все, что могу вам сказать». Были здесь и две польки: Рожнецкая (в платье которой бежал из Колымажного двора Домбровский) и Белуцкая. Обе они занялись огородничеством: первая в городе, а вторая в соседственном каменском заводе, из которого и теперь жители города исключительно почти снабжаются овощами. Впоследствии открылся и модный магазин «Варшавский», но он существовал недолго и расстроился по непониманию коммерческих оборотов членами-вкладчиками. Многие поляки здесь поженились и обзавелись семействами. Во всяком случае бесспорно то, что им Енисейск во многом обязан благодарностью. Первые они не только обули ножки здешних красавиц в варшавские ботинки, но пропагандою и примером поставили самих их на европейском пьедестале, выведши из удушливого терема родителей, и внушивши им чувство собственного достоинства.
Все это однако же не без исключений. Порядочное число или изменилось к худшему, или твердо отстаивало свои прежние недостатки. Ко мне явился московский футур, бывший член общества трезвости, пьяный до неустойчивости на ногах. Когда я стал приводить ему на память прежнюю его трезвую и светлую жизнь, он, вздохнувши, мог только ответить: «Эх, что же делать, когда здесь климат таков». Он служил в золотопромышленной конторе, и управляющий конторою не мог достаточно восхвалить его.
– Трудно найти человека дельнее и трудолюбивее, но дать ему жалованья побольше нельзя. Во-первых, потому, что ему нужно непременно утром отпустить косушку спирту, которую он выпьет, не разводя водою, а во-вторых, что и при малом жалованьи, дня 3 или 4 по получении его, он никуда не годится. Пропьет все, и тогда дело у него кипит в руках.
Бывший член общества трезвости уехал потом в Минусинск, и больше я не слышал об нем. Должно быть, представился в невменяемом виде.
Другой, одаренный даже недюжинным поэтическим талантом, утонул в Енисее, желая доказать стоявшим на берегу истину пословицы «пьяному море по колено».
На улице встретил я сапожника, одного из лучших по своему мастерству. Он выходил из кабака и плотно прижимал к груди штоф с водкою, напевая:
– Jam się z Polki zrodził, z jej piersi wyssałem
Ojczyźnie być wiernym, a kochance stałym.
(Я родился от польки, с ее груди высосал быть отечеству верным, а любовнице постоянным).
И стыдно, и жалко, и отвратительно!
Это неустоявшие, падшие и погибшие существа, а вот и l`esprit fort[361]361
Вольнодумец (франц.).
[Закрыть].
Некто Валевский с претензиями на графское звание, гордившийся тем, что известная в Европе Леония ему сродни, бывший помещиком, щеголявший знанием французского языка, и писавший даже письма к жене французскими стихами, заявлял постоянно, что он ни за какие деньги не продаст труд свой кому-нибудь ниже себя. Уехал он из Енисейска прежде в Красноярск, потом куда-то далее, выше себя не нашел никого, и умер в какой-то деревушке с голоду. И это после курса лечения у Муравьева и Берга?
А во теще образчик.
Один ссыльный канцелярист какого-то, должно быть, нижнего земского суда, пользуясь глупостью старухи жены управляющего прииском, бывшей до замужества, увы, гувернанткою, соблазнил ее, а та, для милого дружка, чтобы получше угостить его, и самой для него же поэффектнее принарядиться и подмалеваться, разорила своего мужа окончательно. Он потерял и место, и здоровье, и остался с супругою своею без куска хлеба. «Глупо сделали и бесчестно вдобавок», – сказал я молодому человеку при разговоре об этом подвиге.
– Чем же я виноват, trafiіem do jej przekonania (я попал в ее убеждение).
– Прекрасно, что вы попали в убеждение, но какие последствия? Они разорились, а вы не пробрели тоже ни нравственного, ни материального блага.
– Lecz maleparta zawsze idzie do czarta (Но худо нажитое всегда идет к черту), – было ответом.
Я не нашел возражений для дальнейшего разговора.
В городе было немногим более 7000 жителей. Каменных построек, кроме 8 церквей (2 монастыря и две кладбищенские), как казенных, так и общественных, и частных, считалось 23. Прочие все дома были деревянные, и за исключение 4-х или 5, престранной архитектуры. Окна большею частью были не стеклянные, а слюдяные, с железными рамами, и готовые привозились по Ангаре и Енисею. По ним-то строились дома с двумя, тремя, четырьмя окнами в фасаде на улицу. Привозные окна были двух сортов: привозные и половинчатые. Половинчатые были не более 10 вершков в вышину, и назначались, собственно, для нижних подвальных этажей, наполовину углубленных в землю. Но это не мешало их употреблять и в высших этажах, иногда рядом с целыми. Непривычный глаз встречал на каждом шагу одно только безобразие, но жители и новые дома строили по образцу прежних: «было бы тепло да уютно, про красоту и слушать не хотим» – было ответом на даваемые им советы. Далее от центра города встречались в окнах и брюшина вместо слюды, а кое-где и бумага, пропитанная рыбьим жиром. Тундристая почва покрывала стоящие на ней постройки. Кровли только на каменных домах были железные. На улицах грязь непролазная, и даже среди лета во многих местах стояли отвратительно вонючие лужи. Нынешний Енисейск в сравнении с тогдашним – красавец.
Не оттого ли и жизнь здешних золотопромышленников так резко отличалась от красноярских. Сударев, Тарасов, Базилевский завелись очень замечательными библиотеками; а в 1860 году здесь открылась даже частная публичная библиотека Н.[икита] В.[иссарионович] Скорнякова. В Красноярске же, городе безумной роскоши, как его назвал Кастрен, в то время не было ни одного хотя бы ничтожного собрания книг, ни одной книжной лавки. Но зато шампанское лилось там рекою, а дамы, все почти, из крестьянок, казачек, и изредка из поповен, таскали за собой шелковые шлейфы, не короче полутора саженей, платили за прическу головы на вечер по 25 рублей, и не стыдились по стенам и столам своих будуаров размещать свои портреты, снятые фотографически то одиночно – в виде Афродиты, выходящей из купели, то в группе трех голеньких граций. Неудивительно, что после всего этого цивилизаторы со своими милыми дамочками вылетели в трубу, разорив сотню глупцов, вверивших им свои капиталы.
III
Более 6 лет горела тундра на ночь от Енисейска, а жители не обращали на то ни малейшего внимания, хотя очень часто ветер наносил на город целые клубы едкого и удушливого дыма. Золотопромышленник Григоров в 1867 г. предлагал городу взять на себя порубку зарослей на болоте, осушку его и превращение в луга с одним только условием, что во все время пребывания своего в Енисейске луга эти будут в его владении, а по отъезде его останутся собственностью города. Дума со своей стороны сделала другое предложение. Купить всю эту тундру и потом распорядиться ею по своему усмотрению, причем, заломили такую посаженную плату, что и в 10 лет нельзя было бы возвратить сеном издержки на одну только покупку этого обширного тундристого пространства. Григоров[362]362
Григоров Иван Александрович (1826–1892) – один из самых известных золотодобытчиков Енисейского округа. В его имении ссыльный Игнаций Валицкий организовал первую оранжерею.
[Закрыть], не смотря на свою барскую тароватость, принужден был отказаться. Последствия этого отказа вскоре жутко почувствовали енисейцы.
1869 год с сухим летом, был особенно богат пожарами. В конце июня или в начале июля загорелся навес от поставленного под ним самовара в постоялом дворе у сенного базара. Ветер дул с запада и сейчас же перебросил огонь через улицу. Сгорело 12 или 13 дворов, со всеми находящимися на них постройками. Погиб один рабочий плотник, сильно пострадавший и умерший на другой день в городской больнице. Это была прелюдия и как бы предостережение жителям. Но они поговорили о пожаре и чрез неделю притихли, а тундра между тем разгоралась своим порядком, и дымом закапчивала город постепенно.
25 августа приехал в Енисейск вновь назначенный губернатором г-н Лохвицкий[363]363
Лохвицкий Аполлон Давыдович (1823–1885) – русский политический деятель, Якутский (1865–1868) и енисейский губернатор (1868–1882). В Красноярске его прозвали губернатором «от пожара до пожара».
[Закрыть], сменивший Замятнина. На другой день, в празднество коронации, жители дали ему бал, устроили фейерверк, на какой хватило знания какого-то отставного артиллерийского солдата, и сожгли несколько дегтярных бочек и старых изломанных колес. 27-го утром его превосходительство изволило ревизовать полицейское управление, как в 10 часов ударили в набат.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.