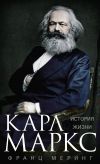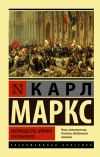Текст книги "Записки старика"

Автор книги: Максимилиан Маркс
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
– Что это? Только-то? Где же лик, где сам святой угодник? – с удивлением спросила мадам Мирович.
– Какого там угодника видели вы, мадам? Я присматривался долго и внимательно и не видел ничего более, как только то, что нарисовал.
– И вы не видели самого лица под митрою?
– Не видел.
– Ни глаз, ни бровей, ни носа, ни губ?
– Не видел.
– Ни бороды?
– И той не видел, потому что серый цвет камня ни светлее, ни темнее над развилиною широкой полосы.
– Ну, так excusez-moi, monsieur, и не сочтите за l’impertinence de ma part[123]123
Извините меня, мсье, и не сочтите за грубость с моей стороны (франц.).
[Закрыть], когда я скажу вам, что на вас не пала ни малейшая капля божьей благодати.
– J’y consens, madame[124]124
Я согласен, мадам (франц.).
[Закрыть], – было моим ответом.
Я откланялся и удалился. Так кончилось мое знакомство с мадам Мирович, но история с камнем кончилась погромче.
Пытливый ум детей Евы, вкусившей запретного плода, хотел добиться непременно, какой же это святитель явил свой зряк на камень. Местный патрон униатский был, разумеется, Иосафат; православный же человек не может нигде обойтись без св. Николая, как среди белорусов, так и среди бурят и якутов. Все видели митру, епитрахиль и посох, видели О и А в мнимой подписи, но прочее все дополнялось силой воли. Св. Николай на образах бывает то с русою бородою (летний), то с белою (зимний), а Иосафат положительно был чернобородый, и фантазия зрителей, как и у г-жи Мирович видела на соответствующем месте соответствующий воле оттенок. Подпись тоже не решала ничего: Николай и Иосафат имеют О и А в том же порядке. И вот разгоряченные разуваевскою горилкою умы, на основании что du choc des opinions jaillit la vérité[125]125
В спорах рождается истина (франц.).
[Закрыть] стали сначала спорить, после взялись за убеждения, сперва кулаками, а потом и кольями из забора. Произошла настоящая баталия, которую уняла только команда гарнизонных солдат, прибывших из города. Человек с десяток были доставлены в больницу на излечение. Калечества и смертного случая вовсе не было. Поклонников Иосафата, отшлепавши, отпустили по домам. Это было последнее дыхание унии в Витебске.
Ленкевич при намеке о камне отмахивался только рукою и отделывался одним звуком: «Ат». Что сделалось с камнем – не знаю, кажется, он, прежде поколотый и потом побитый в щебень, пошел на шоссировку строящейся тогда дороги.
Акварельную копию с масляной картины живописца Лохова я видел где-то. Угодник сделан с белыми власами и седою бородой, точь-в-точь Борей[126]126
Бог из греческой мифологии. Правитель и олицетворение северного бурного ветра.
[Закрыть] в день рождения Александра Павловича, и с подписью буквами новейшего шрифта: Николай!
Униатские священники не беспокоили помещиков никакими требованиями. Являлись только к ним с поздравлениями на Пасху, на Рождество, в день именин и выканючивали себе таким образом как-нибудь подаяние. Они довольствовались хижинкой при церкви и небольшим огородишком при хижинке. Не то было с наехавшими из России священниками. Они стали требовать себе руги, полей, лугов и приличных, да и со службами еще домов. Морщились помещики, а должны были удовлетворять их требования. Мало того, новообращенную паству нужно же было поучать, хотя на непонятном для нее языке, и прихожане должны были для того ходить по праздничным дням в церковь, а они и не ходили. Священники стали отмечать неходящих, и что же оказалось: дворовые люди, особенно повара и кучера, совсем не посещали храмов божиих. Вышло предписание помещикам беспрекословно отпускать к обедне в праздничные дни всю свою прислугу. Не легче стало: прислуга отговаривается дальностью расстояния от церкви. Приказано давать ей подводы. Тут уж не вытерпели и православные помещики и завели с попами судебные распри. Католики молчали и с самодовольною улыбкою потирали себе руки. Несколько лет продолжалась эта борьба, пока не опротивела обеим сторонам, и дело уладилось как-нибудь.
Самым ярым борцом со священниками выступил полковник Виссарион Савич Комаров, воспетый Сенковским[127]127
Сенковский Осип (Иосиф) Иванович (1800–1858) – русский писатель польского происхождения. Выпускник Виленского университета. Свою писательскую карьеру в России он сделал под псевдонимом Барон Брамбеус. Прославился как писатель и редактор журнала «Библиотека для чтения».
[Закрыть] в повести «Висяша и фея»[128]128
Вероятно, это ошибка Маркса. Сенковский – автор повести «Висячий гость», но трудно найти в ней намек на В.С. Комарова.
[Закрыть], бывший после губернским витебским люстратором казенных имуществ и женившийся потом в третий раз на жене Клингера-Тришки. Как наторелый крючкодей он так ловко громил расходившихся попов, что сам Полоцкий епископ смиренно глотал пилюли, предписываемые ему этим заступником православия и гонителем унии. Это был господин с огромнейшим задатком энергии, тяжко ложившейся не только на несчастных крепостных, но даже и на собственное его семейство.
Однажды кормилица младшего сына его Виктора, бывшая униатка, молилась как умела, и он услышал слова ани жадной речи[129]129
10-я заповедь в православии имеет совершенно иную формулировку.
[Закрыть]. Это взбесило его, как кощунство над молитвою.
– Послушайте, послушайте только, какую эта безумная несет ахинею! – обратился он ко мне в присутствии своих более взрослых детей.
Оказалось, что кормилица читала десятую заповедь, полагая, что это молитва, и читала так, как ее выучил униатский священник, а именно: «Не пожелай жены ближнего твоего, ани жадной речи (и никакой вещи) его».
– Слышите, что это такое? Какое жадной речи, когда там сказано не ближнего, а искреннего твоего, и потом уж ни дома ближнего твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни…
– Вот без последних и можно было бы обойтись, – сказал я, прерывая его.
– Нет, анафема тем, кто изменит или пропустит одну йоту в законе, – возразил он очень резко.
Но этим дело не кончилось. Когда мы остались вдвоем, он со всевозможною серьезностью, насколько ее в нем хватало, обратился ко мне:
– Не понимаю, как вы решаетесь высказывать свои революционные идеи, да еще и при детях. Разве не знаете того, что рабство есть единственное благонадежное основание государственного благоустройства и что без рабства оно немыслимо. Оставьте же всякий вольнодумный вздор, ежели не желаете погибнуть, это я вам предсказываю наверняка.
И что же, этот недоросль энергии был прав, потому что, когда энергия уже выросла в особе М.Н. Муравьева, сбылось пророчество ужасно![130]130
Цитата из произведения Ивана Дмитриева «Ермак», рассказывающего о завоевании Сибири Московским государством.
[Закрыть]
Вместе с постепенным уничтожением унии шло и обрусение страны. Администрация и судопроизводство подчинились общему своду законов, а учебный Виленский округ был переименован в Белорусский с местопребыванием попечителя в Витебске. Учителя были почти все переменены вновь приехавшими из Московского университета и из Петербургского педагогического института. В числе первых резко выдались пред прочими братья Чистяковы, Василий[131]131
Чистяков Василий Борисович, выпускник Московского университета. Преподавал русский язык в Витебской гимназии в 1831–1834 гг., затем до 1837 г. исполнял должность инспектора студентов.
[Закрыть] и Михаил[132]132
Чистяков Михаил Борисович (1809–1885), педагог, писатель, выпускник Московского университета. Преподавал русский язык в Витебской гимназии в 1835–1837 гг. Позднее переехал в Петербург. В 1851–1860 гг. вместе с А.Е. Разиным редактировал «Журнал для детей», одно лучших в России изданий такого рода.
[Закрыть] Борисовичи, как честные люди и опытные педагоги. Они только и были достойными преемниками своих предшественников и нисколько не походили потом на присылаемых обрусителей.
VI
В конце 1830 года очень неприятные вести стали приходить в Витебск с востока. Московская почта привозила письма, поколотые насквозь, и то промоченные какою-то жидкостью, то закопченные каким-то куревом. Холера путем тараканов и пасюков из Индии чрез Персию, где она сильно проредила народонаселение, перешла в Россию и остановилась на зимней квартире в Москве, где едва-едва не произвела избиения врачей и младенцев их – студентов без различи посещаемых ими факультетов. Весь медицинский персонал очутился в осадном положении. К охране университета приставлены были две роты солдат. Один только профессор Мудров, лечивший ожирелых и отупелых замоскворецких и рядских купцов святою водицею, строгим постом без разрешение на вино и елей и сотнями поклонов при ежедневных молебнах у часовни Иверской Божьей Матери, с пешим хождением туда и обратно был не только вне всякой опасности, но достиг даже высшей кульминационной точки своей славы. Пред его домом толпился народ тысячами, превознося его похвалами и взывая: «Помоги, отец родной!» На улицах выпрягали ему лошадей и то возили его, впрягшись сами, то носили его на руках по лестницам вверх и вниз. Сам он после рассказывал про эти овации на лекциях в виде наставления, как следует прилагать научные сведения к практике при разных условиях жизни.
Весною 31 года холера была уже в Смоленске. Здесь отличился удачным лечением ее один мещанин (кажется, дорогобужский), некто Хлебников, получивший диплом из медицинского департамента на свободную практику во всех местах, охваченных эпидемиею. Способ лечения у него был какой-то индейский. Он состоял: во 1) из приложения к животу компресса, смоченного прямо в кипятке; во 2) в растирании членов во время судорог твердыми сапожными щетками, смоченными в спиртовом настое стручкового перца; и в 3) в учащенном приеме внутрь по грану опиума в порошке и запивании его холодным крепким чаем.
В конце июня явились первые заболевания холерою в Витебске, и сейчас же за ними явился и Хлебников, способ лечения которого вскоре был принят всеми врачами города, не исключая и самого знаменитого фон Гюбенталя, написавшего потом много вздора о холере, а на деле лечившего ее все-таки а la Khlebnikoff[133]133
М. Маркс несправедлив к К. Гюбенталю. Именно К. Гюбенталь разработал те эффективные меры борьбы с холерой, которые сам М. Маркс описывает ниже. Кроме того, еще с осени 1830 г. К. Гюбенталь участвовал в успешной ликвидации вспышек холеры в Саратовской и Волынской губерниях. Свой опыт борьбы со страшной «азиатской гостьей» он обобщил в статье, опубликованной в 1831 г. в одном из немецких журналов. К. Гюбенталь отказался от лечения холеры опиумом и кровопусканием и предложил использовать водные и спиртовые растворы кофе, которые «возбуждают угнетенную и упавшую деятельность сосудистой системы». До нашего времени при явлениях ослабления сердечнососудистой деятельности при холере используется кофеин, который содержится в кофе.
[Закрыть].
Город был разделен на участки, и к каждому участку приставлен один надзиратель из местных жителей и один врач. За пределами города устроены две больницы, а на Песковатике выкопаны огромнейшие ямы для погребения, отдельно христиан, отдельно – евреев. По ночам трупы заливались в ямах раствором известки, а по наполнении засыпались землею и обливались тем же раствором. Врачебная управа предписала жителям запастись хлорною водою, которая должна была стоять налитою на тарелки в каждой комнате, и спиртовым настоем стручкового перца для втирания при судорогах. Дом, в котором оказывалось заболевание, сейчас же оцеплялся стражею, и ни входа, ни выхода из него не дозволялось никому. Вот какие санитарные предосторожности были приняты на встречу грозной гостьи. Хлебников, ходивший постоянно с раскуренною трубкою, советовал от себя всем здоровым курение табаку и употребление рюмки водки после принятия пищи.
Холера посещала тогда Европу в первый раз и как бы для устрашения ее свирепствовала неимоверно. Большею частью она поражала так быстро, что времени на какое бы то ни было лечение ее не хватало. Это был вид ее Cholera fulgurans, и в самом деле, двух-трех часов достаточно было, чтобы крепко сложенный и здоровенный человек был бездыханным трупом. Встречался я потом с этою же эпидемиею в Смоленске и в Москве, но тогда она была сравнительно очень слаба. Чаще всего прежде проявлялась холериною и в конце переходила в тиф. На все это ей нужно было несколько дней – ничего подобного не было в первый ее визит.
Часов в 11 утра я встретил на улице помещика Богдановича, месяца два или три пред тем женившегося на знакомой мне девице. Он пригласил меня к себе, я зашел к ним, мы закусили и поболтали весело. Часа в 4 пополудни г-жа Богданович известила уже меня, что муж ее умер. В другой раз по тротуару впереди меня шел жандарм с какою-то официальною бумагою к генерал-губернатору, вдруг упал и стал метаться в судорогах. Пакет у него сейчас же взяли и отправили по адресу, а его взвалили на плечи и повезли за город в больницу, но туда доставлен был уже труп, который свезли на Песковатик.
Народ падал на улицах. Число умерших в сутки доходило до 120. В каждом участке было по две большие телеги, возившие из домов и улиц больных в лазареты и мертвых из домов и лазаретов в ямы. Два служителя, одетые в черное, пропитанные дегтем платье, были при каждой телеге, а полицейские сторожа распоряжались по указанию врача и смотрителя этим амбулянсом.
Особенно пострадали бедные евреи. Почти три четверти смертностей пало на их дома. И гигиенические условия их жизни, и санитарная обстановка ее и, наконец, физическая расовая их слабость – все враждебно действовало на них, и, кажется, ни один заболевший из них не оставался при жизни.
– Плохос, очень плохос, – говорил Хлебников, – евреи, можно сказать, дохнут-с, как мухи от молока с перцем. Ужасти!
Горькая правда была в этих словах.
Но и при этих ужастях были события, достойные смеха.
Сапожник Божен в един из дней субботних отправился в Разуваевку святити его и, возвращаясь оттуда через Песковатик, опочил сном праведных где-то на перепутье из больницы к ямам. Возчики наехали на него, осмотрели, сочли мертвым, ввалили на воз, скинули в яму, бросили на него еще несколько трупов и поехали обратно. Каково же было их удивление, когда, прибыв с новым транспортом, они были встречены сперва криком, просящим о помощи, а потом и руганью за медленность действий. Холод ямы и росистого летнего утра пронял Божена так, что он протрезвился и выкарабкался из лежавших на нем покойников, но не мог сам вылезть из ямы, дрожа всем телом, как осиновый лист. Он остался жив и здоров, пил по-прежнему и рассказывал потом, что его по Песковатику водили какие-то хохлики, когда он возвращался из Разуваевки.
Между тем, в конце 30 года вспыхнуло восстание в Варшаве, и полки один за другим потянулись чрез Витебск на запад. Генерал-губернатор кн. Хованский издал прокламацию к жителям Витебской и Могилевской губернии. В ней, между прочим, было сказано, что эти жители всегда были преданы России и верно служили ей, и потому он надеется, что они окажутся теперь и пребудут впредь такими же. Трудно определить, сколько правды было в этих словах и сколько проку в этих надеждах. Солидарности-то между помещиками польского происхождения и белорусскими крестьянами не было никакой, и последним жутко было жить на свете в настоящую минуту. Как и прежде при польском правлении Конституция 3 мая их не коснулась, и они про нее не слыхали, но жалованные русские помещики и их управляющие довели крепостное право до nec plus ultra[134]134
До крайних пределов (лат.).
[Закрыть], до таких пределов, про какие полякам прежде и не снилось. Более надежды можно было полагать на инертность забитого и отупленного состояния крестьян и на то, что польские помещики все без исключения были тарговичане и боялись каких бы то ни было либеральных идей хуже огня. Среди белорусского народа тогда не могло быть никаких революционных движений. Иное дело там, где народонаселение было смешанное, например, с латышами, которые помнили прежнюю свою жизнь и не могли еще позабыть тех притеснений, которым они подвергались при каждом движении русских войск, начиная с древнейшего похо-да Меншикова и особенно Шереметьева при Петре Великом, с тогдашними фуражировками, набором клеперов и «чухонских девок». И в самом деле, в Динабургском уезде были вспышки, но не более как вспышки, и вдобавок нисколько не страшные и вполне ничтожные.
Я твердо помню причитание белорусской крестьянки над колыбелью сына:
«Авой, авой, дзяцюк ты мой!
Не на радосць, не к счасцью ты родзився!»
Этот вопль слишком красноречив, и комментировать его, кажется, нет никакой надобности.
В 1863 году правительство могло прочно надеяться на поддержку крестьян. Введение инвентарей, а еще более объявление об освобождении от крепостной зависимости привлекло их на сторону России. Притом же в 30 году поляки не пели гимнов, и слово ojczyzna[135]135
Родина (пол.)
[Закрыть] нельзя было изменить в pańszczyzna[136]136
Баршина, паншина (пол.)
[Закрыть]. А и это немало значит.
Прокламация его ухмыляющегося сиятельства (говоря словами Вирлы) прошла незамеченною. Прочитали ее – вот и все! Несомненно сильнее подействовали военные песни, которые, которые раздавались и в городе на площадях, и за городом в корчмах, куда спешили солдатики, жаждущие хлебнуть дешевой и крепкой горелки, и дорвавшиеся до нее только при вступлении из великороссийских губерний в Белоруссию.
Все эти песни, судя по их канцелярскому слогу, скабрезности содержания, недостатку смысла, утрированному самохвальству, беспредельной ругани и постоянному употреблению словца, которое Барков сравнивает с солью в прекрасном русском слоге[137]137
Барков Иван Семенович (1732–1768) – русский поэт, получивший известность как автор «срамных од» на фривольные темы. Маркс ссылается на стихотворение Баркова «Е**на мать», в котором главный герой повествует о поразительной двусмысленности очень вульгарного русского выражения.
[Закрыть], были, без сомнения, творениями полковых писарей, игравших тогда в своей среде роль разухабистых Дон-Жуанов, а никаких не интеллигентных людей.
Особенно типична была песенка:
«Идем Польшу разорять»,
которая, начиная со второго стиха, вся состояла из непечатной ругани, хотя в ней было 6 или 7 куплетов по шести стихов. Брань и угрозы панам, паннам, а более всего несчастным паненкам сыпались градом с присвистом, прищелкиванием и особенным усилением трескучего звука рр. Угрозы эти, однако же, к чести русских солдат, оставались тогда только угрозами, и никто не мог предвидеть, что чрез 33 года после они приведутся в исполнение в имении графа Моля и притом не грозными солдатами, а безответственными белорусскими мужичками. Sic, tempora mutantur[138]138
Так, времена меняются (лат.).
[Закрыть].
VII
Не совсем благоприятные вести приходили с запада. Дворницкий[139]139
Дверницкий Юзеф (1779–1857) – генерал во время Ноябрьского восстания 1830–1831 гг. По поручению национального правительства должен был вторгнуться на Волынь и Подолию с целью поднять восстание.
[Закрыть] действовал на Волыни, Гелгуд[140]140
Гелгуд Антони (1792–1831) – польский генерал. Во время Ноябрьского восстания 1830–1831 гг. предпринял неудачную попытку захватить Вильну (проигранная битва под Понарами (ныне Аукштейи-Паняряй).
[Закрыть] – у Вильна. Полки пехотные и кавалерийские шли форсированным маршем. Витебская губерния поставлена на военную ногу.
В одно утро узнаем, что в прошедшую ночь великий князь цесаревич Константин Павлович с супругою прибыл в Витебск и занял верхний этаж генерал-губернаторского дома. Свита князя была очень немногочисленна: придворный врач его Кучковский с лакеем, один майор польских войск, и два так называемых черкеса, а собственно кубанские линейцы – унтер-офицер и рядовой. В Витебске встретила князя депеша государя императора, который, уезжая в Москву, предписывал ему остановиться на пути в Петербург до своего возвращения из этой поездки.
Около недели князь был невидим в городе. Военные и городские власти явились к нему, он принял их и откланялся только. Супруга же его не выходила и не принимала решительно никого.
Вдруг в одно воскресение в 10 часов утра Великий Князь подъехал в двухколесном кабриолете на паре белых лошадей, которыми правил сам, к бернардинскому католическому костелу св. Антония. С ним была и супруга его с молитвенником в руках. Она выпрыгнула из экипажа, быстро взбежала по ступенькам паперти, вошла в церковь, встала среди нее на колени, перекрестилась и уселась на незанятом конце скамейки, далеко не первой по порядку. Великий князь поехал далее по городу. За ним ехали верхами два его черкеса в полном своем вооружении. Через час он подъехал опять к костелу. Обедня еще не отошла, и более четверти часа он просидел в кабриолете, ожидая выхода супруги. Она вышла так же спешно, вспрыгнула в экипаж, и они быстро помчались домой. В городе было тихо, на улицах людей очень немного, холера держала всех в страхе, она усиливалась со дня на день.
Через день, т. е. во вторник, повторилось то же, но в костеле две первые скамейки не занимал никто, а князь, проезжая по Замковой улице, наткнулся на очень неприятное зрелище. Из одного еврейского дома выносили мертвеца и укладывали его в телегу. Жена покойника рвалась на улицу с воплем и криком. Ее не пускали из дома, а между тем и она, и четверо детей ее третий день сидели в оцеплении без пищи. Великий князь остановился, приказал возчикам делать свое дело и ехать далее, расспросив подробно еврейку, несмотря на то, что она за плачем и стонами, усиленными еще визгом вырвавшихся на улицу и прибежавших к ней ребятишек, не могла толково изложить своего горя. Князь послал одного ординарца за инспектором врачебной управы. Гюбенталь явился моментально и объяснил, что оцепление домов предписано мимо его протеста г-ном генерал-губернатором, а отменить это предписание он не в праве, хотя знал прежде и знает теперь, что оно и неуместно, и неудобоисполнимо, и даже вредно. Другой ординарец полетел за кн. Хованским, но того князь не дождался, возвратился под костел, взял супруг и поехал домой. Гюбенталь затирал только руки, а кн. Хованский еще чаще улыбался. Сказывают, что ему пришлось выслушать очень энергическую брань и очень неприятную угрозу от великого князя.
А войска шли и шли денно и нощно. И вот разом четыре полка: 1 артиллерийский, 1 кавалерийский и 2 пехотные, из коих один егерский, очутились в Витебске. Вечером по городу разнеслась весть, что в 6 ч[асов] утра на другой день вел[икий] кн[язь] будет делать смотр этим полкам на Песковатике. Несмотря на большую опасность, любопытных нашлось больше сотни. В 5 ч[асов] утра я был уже на месте. Артиллерия стояла у Иосафатовой часовни, кавалерия – под Разуваевкой, а пехота – поближе к городу. Утро было свежее, росистое, на Двине и в долинах лежал туман. Я выбрал незначительный холмик у дороги в Разуваевку и поместился на нем. С него были видны все окрестности. Еще до приезда князя один кавалерист упал в судорогах с лошади, вслед за ним повезли и другого пехотинца. Сколько заболело там после – не знаю, но, наверное, можно смело считать десятками.
Около половины седьмого вел[икий] кня[зь] показался на дороге в Разуваевку. Впереди скакал черкес, его ординарец и выбрал же местечко – тот же холмик, на котором я расположился. Нечего делать, надо было убираться подальше. Благо, в недальнем расстоянии была другая довольно удобная местность, но из нее не было видно части, прилегающей к городу.
Великий кн[язь] был в полной форме, туго перетянут в талии шарфом, в большой и высокой треуголке, надвинутой на правую бровь, и в огромнейших ботфортах. Ему подвели верховую лошадь, и он бойко вскочил с седло. Маневры начались обычным порядком. Трубы и барабаны давали сигналы, музыка гремела, артиллерия палила то залпами, то поодиночке, кавалерия извертывалась во все стороны, то стягиваясь, то растягиваясь, егеря пошли врассыпную, падали, ползали, вскакивали, строились, выскакивали перед фронт и скрывались за ним. Все это, по-видимому, нравилось князю. Он только заметил, что две пушки в залпе опоздали, и выстрелы их не слились в один гул с прочими. Но солнце между тем сильно пригрело и стало жарить утомившихся и людей, и лошадей, пески высохли, а в них лафеты вязли по ступицы, а люди и лошади чуть не на четверть аршина, пыль поднялась страшная, покрыла весь Песковатик, и в шагах десяти трудно было видеть что-нибудь. А трубы и барабаны подавали новые и новые сигналы. Утомился, должно быть, и сам Константин Павлович и приказал остановиться. Минут через 10 пыль проредела, тогда он приказал полкам поочередно проходить мимо него.
Прежде явилась кавалерия.
– Здорово, ребята! – громко крикнул князь.
– Здравия желаем, в[аше] и[мператорское] высочество! – был ответ тысячи голосов.
Но ребята были сильно утомлены, а лошади их вязли в песке и поневоле карабкались из него и не в ногу, и не в строй.
– Плохо, гадко! – кричал князь в нос.
Потянулся пехотный полк. Тут уже каждый нисколько не знающий военных экзерциций мог сказать тоже: «Плохо, гадко». Князь вышел из себя.
– Стой! – войска остановились.
– Эй, ты, толстый майор, поди сюда!
Бедный майор с кругленьким брюшком, объехавшим шарфом и на коротеньких ножках копошился в песке, пока подошел к вел[икому] князю.
Началась брань, сопровождаемая самою страшною руганью. Минут 10 несчастный майор стоял и слушал ее.
– Ну! Церемониальным маршем – ра-а-а-аз!
Майор, балансируя, как на канате, то вперед и взад, то в стороны, хотел устоять на одной ноге, протянувши другую и поднявши ее вверх чуть не горизонтально. Это никак ему не удавалось, и он, не дождавшись бесконечного «а-а-аз!», попирался ею, чтобы не упасть.
Новая ругань посыпалась снова, и кончилось тем, что майор был арестован на три дня, а князь, пообещавши всем без изъятия по 500 палок, повернул коня и бросил смотр. Кабриолет его покатил за ним, им правил какой-то артиллерийский офицер. Егерям и артиллеристам не пришлось слышать ни брани, ни угроз. Где это так вел[икий] князь мог усовершенствоваться в площадной брани? Уж, верно, не при дворе Екатерины, блистательном и изящном, не под руководством Лагарпа[141]141
Лагарп Фридерик Сезар (1754–1838) – общественный деятель и юрист из Швейцарии. В 1782–1795 годах был учителем наследников престола: Александра и Константина. После Французской революции все чаще высказывался на политические темы, которые царскому двору не понравились.
[Закрыть], и не в Варшаве, где нельзя было слышать ничего подобного даже от покровительствуемых им повес и сорванцов – чвартаков[142]142
Название происходит от 4-го пехотного полка Царства Польского, в котором служили главным образом варшавские ремесленники и столичная беднота.
[Закрыть]. Там он часто любимых своих подпрапорщиков, которых называл детьми своими, ругал словами «panowie durnie, panowie osły, panowie łajdaki!», а те были рады: хоть дурни и ослы, но панове! А тут вдруг прорепетировал над бедным майором весь запас приобретенных где-то фраз. Остается предположить, что школою этою был дворец Павла Петровича, измененный после смерти Екатерины II в грубейшую казарму. Это гипотеза, но как без нее объяснить факт? Во всяком случае, кн[язь] Конст[антин] Павл[ович] был одним из таких усердных учеников, какие очень и очень редко встречаются в педагогической практике.
Не прошло и недели, и явилась мазурка с куплетом:
A Książe Konstanty wczora
W ugrzecznienia zadatek,
Witał tłustego majora
Rodowodem od matek.
(А кн[язь] Константин вчера в заявление вежливости приветствовал толстого майора родословием по матери).
Несколько позже на мотив «Как у наших у ворот» пелась и русская песенка с куплетом:
Князь Константин не плошал,
И чтобы себя показать,
Генералам всем сказал:
– непечатную ругань под рифму.
Вскоре прибыла в Витебск партия пленных польских офицеров. Князь поехал за город в жандармские казармы навестить их. Часов в 10 вечера я встретил его на Офицерской улице, которою он возвращался домой.
На другое утро, часов в 7 я отворил окно в своей комнате, выходящее на двор, там уже сидел наш фактор Янкель.
– А цули вы, паниц, цто князь вумер? – спросил он меня.
– Какой князь? – с удивлением спросил я его.
– Вай, Константин!
– Да я его вчера встретил, часов в десять.
– Ну, а в пяць вумер.
Около полудня весь город уже знал о смерти великого князя. Он, возвратясь домой, покушал клубники со сливками, и не далее как чрез полчаса подвергся симптомам сильнейшей холеры. Кучковский сейчас же пригласил Гюбенталя, но оба они ничего не смогли сделать, и часам к пяти князь уже не жил. Хлебников узнал за четверть часа до смерти, прибежал, но к последней только минуте агонии.
Дня через два Кучковский пригласил учителя физики Германа, который, как про него пели гимназисты, только и знал гирьки, поршни, клапаны, захлопки и электричества боялся больше, нежели директора, для совещания, как лучше дезинфицировать прядь волос, которую он взял от трупа его высочества. Тот решительно отказался указать на какие-нибудь средства и рекомендовал на то учителя естественных наук Суходольского, который посоветовал употребить хлорную воду как единственное тогда известное средство уничтожения миазм. Этот-то Кучковский был потом назначен президентом медицинской академии в Вильне, оставшейся там по закрытии университета.
Была тогда в Витебске уже немолодая актриса Генцель[143]143
Генцель Каролина – выдающаяся актриса, получившая известность в Вильне. В 1830-е годы руководила театром в Витебске.
[Закрыть], которая знала княгиню тогда еще, когда та была только панна Иоганна Грудзинская. Употребила она все средства, чтобы добиться к ней, и достигла цели. Княгиня приняла ее сердечно, плакала с нею, хотела ей помочь чем-нибудь, но у нее нашлись только три голландских червонца, которые охотно отдавала, оставаясь сама без копейки. Генцель отказалась от этого вспомоществования, говоря, что совесть ей не позволяет принять его, и выиграла, потому что не более как через месяц получила почтою высланные ей из Петербурга 150 рублей.
Княгиня была женщина красоты необыкновенной. Все ее портреты, однако же, не совсем похожие на нее, в них нет того оттенка уныния, которое особенно характеризовало ее лицо. Кажется, что и характером, и силой воли она не была обижена природою. Стойкость ее в Вержбне была как нельзя красноречивейшим доказательством ее энергии. Что касается портретов в[еликого] князя, то сколько я видел их, все они смягчены и, так сказать, сретушированы. Щетинистые нависшие брови его, нос, вздернутый кверху так, что отверстия ноздрей при прямом положении головы шли совершенно горизонтально, широкий, значительно выдавшийся подбородок и, наконец, совершенное почти отсутствие шеи не позволяли никак признать его красавцем. Я не видел ни одного портрета его в профиль и ни одного силуэта. Вот по ним можно было бы удобнее судить о физических свойствах его личности.
Холера ослабевала со дня на день и теряла постепенно свой острый характер. К концу июля новых заболеваний не было. Повеселели все, даже и те, которые понесли существенные потери. Борьба за существование всегда эгоистична.
Около половины августа последовала торжественная отправка тела вел[икого] князя в Петербург. Оно было заключено в три гроба, из коих один был свинцовым. Поход двинулся из собора через площадь, по Смоленской улице к заставе. Общий трезвон во всех церквях и пушечные выстрелы, последующие чрез каждую полуминуту, сливаясь вместе, носились над городом в виде одного непрерывного и только вибрирующего гула. За гробом шла оставшаяся вдова в черном платке с длиннейшим шлейфом, который нес на руках какой-то камергер, кажется, кн[язь] Голицын. За нею следовал молодой кирасирский офицер в белом мундире и высокой каске с лошадиным хвостом – сын покойного князя, тот самый, которого он по приезде в Варшаву ввел с собою и его матерью на бал к графу Немоевскому, рекомендуя: «Comte, ce sont mon fils et sa mère»[144]144
Граф, это мой сын и его мать (франц.).
[Закрыть]. Духовенство впереди шло православное, за ним католическое разных орденов, в конце униатское – базилиане и приходские священники. Улицы и площадь были оцеплены с обеих сторон рядами солдат. Весь город был на ногах, и толпа народа тянулась за гробом по крайней мере на расстоянии полуверсты. За Смоленской заставою поход остановился, балдахин был снят с гроба, гроб покрыт толстою непромокаемою тканью и впряжены в воз почтовые лошади, которые скоро с гробом скрылись из глаз среди обширной березовой рощи, находящейся верстах в двух за городом.
Через дня три уехала в Петербург и вдова вел[икого] князя. Она взяла с собою духовником ксендза Уссаковского, который вскоре возвратился в Витебск с известием о ее смерти.
Что-то фаталистическое встречается в жизни Константина Павловича. Он умер в Витебске, где в 1814 г., проходя с гвардиею, раздраженный богатством красавицы Белявской, замеченной им на балконе гостиницы, содержимой ее отцом и скрывшейся от его поисков за Витьбою, в деревне Юрковщине, пустил своих солдатиков погулять на один часок по городу. Витебск долго помнил и никак не мог забыть эту гульбу – настоящий разгром. А бежал он из Варшавы, где в том же 1814 г. взывал к полякам: «Réunifiez-vous autour vos drapeaux, que votre bras l’arme pour la défense de votre patrie et la conservation de votre existence politique»[145]145
Объединяйтесь вокруг ваших знамен, которые вооружают вашу руку для обороны вашей родины и сохранения вашего политического существования (франц.).
[Закрыть]. Еще более: в числе офицеров польских, проводивших в[еликого] князя до Немана, был какой-то Белявский, кажется, брат витебской беглянки, бывший потом студентом, про которого распевали в Вильне:
Na bulwarze, pośród Wilna,
Bielawskiego[146]146
Белявский Фортунат – студент Виленского университета, получивший известность после того, как побил ректора университета Вацлава Пеликана. Белявский избежал наказания, потому что Пеликан не хотел шума вокруг этого события.
[Закрыть] ręka silna
Biła, tłukła jak Hamana,
Wacława Pielikana[147]147
Пеликан Вацлав Вацлавович (1790–1873), профессорхирург, в 1826 г. стал ректором Виленского университета. Личностью он был очень непопулярной, организовал ряд громких политических дел в Виленском учебном округе, поощрял доносы на преподавателей.
[Закрыть].
Jemu honor, sława, cześć:
ciął mu w mordę razy sześć!
(На бульваре, среди Вильна, сильная рука Белявского била, колотила, как Амана, Венцеслава Пеликана. Ему слава и честь: хватил его в рожу раз шесть!)
VIII
Невольно вспомнишь Виленский университет и при каждом воспоминании о нем невольно же и вздохнешь. Что это такое было, что за профессора, что за студенты, какие теплые дружественные отношения связывали их между собою? «Не красна изба углами, а красна пирогами», – говорит русская пословица. «Пусть содержащее будет неказисто, лишь бы содержимое было прекрасно», – вторит ей практическая аксиома. И обе правы. Наружный вид университета, его стены, постройки, залы, лестницы, его внешняя обстановка не поражали ни величием, ни красотою. Мертвый инвентарь его был, одним словом, совсем не привлекателен, но живой инвентарь – это содержимое, внутреннее, действующее и существенное – вот что составляло его величие и чуть не идеальную красоту. Профессора считали себя за призванных и назначенных развивать и совершенствовать будущее поколение и смотрели на свое звание не как на средство жизни, а тем более наживы, а как на непреложный долг и на конечную обязанность своего назначения. Довольно назвать братьев Снядецких[148]148
Снядецкие Ян и Енджей – профессора и писатели, связанные с Виленским университетом. Ян даже был его ректором.
[Закрыть], Лелевеля[149]149
Лелевель Иоахим (1786–1861) – выдающийся польский историк и общественный деятель. Он участвовал в Ноябрьском восстании 1830–1831 гг., после чего вынужден был эмигрировать во Францию.
[Закрыть], Словацкого[150]150
Словацкий Юлиуш (1809–1849) – выдающийся польский поэт. Один из польских национальных поэтов-пророков.
[Закрыть], а за ними десятки других, чтобы убедиться в этом. Грановский[151]151
Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855) – историк, знаток средневековья, западник. Декан историко-филологического факультета Московского университета. Один из самых влиятельных и активных ученых времен Николая I.
[Закрыть] в Москве и Костомаров[152]152
Костомаров Николай Иванович (1817–1885) – историк, публицист, общественный деятель. Автор монументальной истории России, до сих пор переиздаваемой.
[Закрыть] в Петербурге стремились потом воссоздать этот тип деятелей, но обоим, особенно последнему, в конце не повезло. И времена были не те, и у самих-то их сил не хватило. Один Пирогов[153]153
Пирогов Николай Иванович (1810–1883) – русский врач, профессор хирургии, известный педагог и просветитель.
[Закрыть] был счастливее их, но и тот, измучившись, в конце махнул рукою.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.