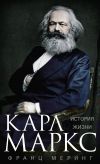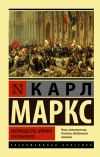Текст книги "Записки старика"

Автор книги: Максимилиан Маркс
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
Оставалось жить в неприглядной Кежме, далеко от милых друзей, от дорогого и осиротелого семейства, жить в одиночестве, с грустью, тоскою, и без малейшего проблеска надежды. Тот только, кто сам, да еще проживши 50 лет чуть не в неге, испытал подобную моей житейскую катастрофу, тот только поймет весь гнет такого горя.
1888 г., 27 октябряЕнисейскМ. Маркс
Кежма
В один декабрьский вечер 1867 г. ввалился ко мне в горницу всею своею неуклюжею массою некто Арлап (должно быть – Харалампий) Федорович, достопочтенный комендант [насчет] старшины (т. е. кандидат по старшине). Посещение этого высокопоставленного в волостной администрации лица, в столь необыкновенное время, употребляемое, по принятому обычаю, только на отдых или на попойку, крайне меня удивило и, признаться чистосердечно, даже обеспокоило и озадачило.
– Здорово, Восипыч!
– Здравствуйте, Арлап Федорович.
– А я к тебе, однако, за делом.
Ну, – подумал я, – верно, не с добром. Уж не пришло ли подтверждение приказания строго наблюдать за мною: потому что весною, когда я хотел отправиться на ботаническую экскурсию по Ангаре, оный же Арлат, встретясь со мною в конце села, объяснил мне как нельзя более категорически, что я не должен выходить за поскотину богоспасаемого села Кежемского, и что в противном случае буду схвачен, связан, приведен в волостное управление и подвергнут содержанию под замком в чижевке на хлебе и воде не менее трех суток. Тем более я мог этого опасаться, что одно из официальных лиц, приезжавшее по делам службы в эти палестины, сообщило мне с боязнью, доходящею до трепета, что его высокоблагородие г-н исправник воспылал на меня сильным гневом за то, что я осмелился его беспокоить письмом с глупейшею просьбою, чтобы он был столь добр, и за деньги, которые он получит для передачи мне, купил термометр и компас, какие найдутся в Енисейске, и выслал их мне почтою, приходящею сюда два раза в месяц.
– Что за дерзость! Он будет делать наблюдения. Да как он смеет делать наблюдения, и кто позволит ему это? – воскликнуло его высокоблагородие и порешило наказать меня месячным арестом в волостной кутузке. Резолюция эта однако же не состоялась, т. к. по представлению нескольких лиц г-н исправник великодушно простил мне мое тяжкое преступление, как выжившему из ума глупцу и сумасшедшему. И вот, стараясь казаться по возможности равнодушным, «в чем же оно состоит?» – спросил я.
– Чего состоит?
– Да дело-то.
– А! Дело! Вот оно какое. Однако ночью у соседа через двор обрезали коровам уши. – Уши! Да кому же и на что нужны коровьи уши?
– Как на что? Волхвам[343]343
Жрецы, маги, шаманы.
[Закрыть] и волхвиткам всё везде нужно. Эта погань однако стряпат изо всего угощение своему попу дьяволу, да своим братьям-лешакам, да сестрицам-русалкам. Сгинь они и провались в тартарири. Ну! Ведомо, старая ведьма Афонькина волхвитка и сделала это.
– А видел кто, как она резала, или отрезанные уши нашли у нее что ли?
– Видели – нашли! В уме? Увидишь ты оборотня да и найдешь его? Ведь она оборотень, по ночам бегает по всему селу кобылою. Да мало еще и девчонку Федькину оборотила в собаку, и рыскали целую ночь по околоточному кладбищу.
– Ну, Арлап Фёдорович, скажу я вам только то, что всему этому как-то не верится.
– Уверишь! Спроси вот девчонку, так тебя тетка-лихоманка затрясет, и од страха зубами однако залязгаешь. Огнева бы ее задавила! Да вот все видели, как язва поганая влезла на месяц, да и откусила его. Вот таки так куска и не хватат.
Э! Подумал я, вот куда занеслась китайская демонология. Только там народ объясняет себе таким образом солнечное затмение, наши же арлапы прикладывают это объяснение к лунным. там демон, парящий в пространстве небес, терзает солнце, а здесь волхвитка Афонькина поднимается на луну и отхватывает кусок ее. И нет, не занеслось это поверье сюда, а осталось здесь, как и там, осталось потому что срослось с мыслями, с верою, с убеждениями всего человеческого рода, во всех его расах и племенах. Перикл должен был ободрять своих воинов научным объяснением солнечного затмения, а поверье все-таки осталось в народе поверьем, глубоким, прочным, незыблемым и неискоренимым. Недаром один не очень древний русский летописец говорит: «не вегласи глаголят солнцу пожираему быти». Это своего рода Перикл! А много ли всех этих периклов и чему равна сумма их, в сравнении с суммой особей человеческой породы невегласей[344]344
Невеглас – невежда, неуч.
[Закрыть] и арлапов, могущественных и числом, и физическою силою. Капля светлого продукта умственной деятельности и векового труда в океане грязного невежества – вот современная образованность и цивилизация! Но это, скажут, в Кежме, а по Кежме нельзя же судить обо всем мире. Быть может, что и так. Но только в Кежме есть приходская церковь, а при ней священник с дьяком, трапезниками и просвирнею, есть волостное правление с головою, старшинами, бюрокрациею, и экстрактом ее писарем, чем-то вроде правительственного прокурора, и, наконец, есть какое-то училище, и при этом училище какой-то учитель Феденька. Нет! Faites faire passer, messieurs![345]345
Faites faire passer, messieurs – искаженный текст на фр. яз., предположительно игра слов от “laissez-faire” – позвольтеделать или принцип невмешательства.
[Закрыть]
– Как же эта огнева и язва взромоздилась на месяце? – спросил я.
– Да так по лучу.
– Как по лучу?
– Э! Да ты, брат Восипыч, как вижу, ничего не смыслишь. Ну, чего, что был и в Москве, и в Питере, и грамоте знаешь, и архив-то у тебя ишь какой, – причем, указал на какую-нибудь дюжину книжонок и несколько дестей исписанной бумаги, лежащих на скамейке в углу комнаты, и служивших мне ночью вместо подушки: «Ну, коли ты даже не промаракуешь и того, что однако каждый из нас и смышлит, и знает».
– Не смыслю и не знаю, Арлап Федорович, сознаюсь вам, как на духу. Вот таки ровно ничего и не смыслю, и не знаю, и прошу вас, наставьте меня, пожалуйста, как по лучу взобраться на месяц.
– Э-эх, грамотные головы, да еще и с ушами! Ну, так что же вы смышлите, коли и этого не знаете? А оно-то дело все так просто, что и мало-мальское дитя тебе все расскажет.
– Когда дитя станет рассказывать, то я, пожалуй, и не разберу даже, про что оно говорит. А вот вы, Арлап Федорович, человек обстоятельный, да и почтенный, сумеет мне вбить в голову то, чего я не понимаю. Вас-то я надеюсь понять, потому что вы всегда говорите коротко, но толково и умно.
– Так слышь же. Вон чего. Возми-ка туяс[346]346
Туес – круглый берестяной короб с плотно прилегающей крышкой.
[Закрыть], да пошире, налей в него воды полнехонько, поставь его на открытом дворе, и стань сам так, чтобы месяц показался в туясе. Большой и здоровый нож должен быть готов в руках. А то еще лучше, коли пальма (тунгусский кинжал). Валяй пальмой по месяцу, да крепче, чтобы она прошибла дно туяса, и поглубже вошла в землю. Удалось – вот те и всё тут! Луч прибит к земле! Хватайся за него да держись только твердо. Ведь другой конец его на том месяце, что на небе. Ну, так и доползешь, коли голова крепка да руки здоровы.
– А луч-то и будет виден?
– Ишь, виден! Тонок, что те мизгировы нити, да прочен зато, прочнее всякой бичевы. Не видит глаз, так рукой имай!
Вот и кежемская теория истечения! – подумал я. – Тут есть всё: и вещественность света, и лучистость его, и даже прямолинейность, и тонкость лучей. Одним словом – всё! Но только это всё так грубо, так аляповато, так косолапо, что и сам не знаю, почему, однако же крайне глупо и беспредельно нелепо. Но рассуждения в сторону, надо вести разговор. Прав Наполеон I, когда и такие крайности, как Нютн и Арлап, в самом деле сходятся.
– Ах, Арлап Федорович, как же это просто и ясно, проще и яснее самого луча! И как про это до сих пор в книгах ничего не написано?
– Да что там в ваших книгах путного – гиль одна да и только. Вот веснусь я заходил в училище. Наш Федька-то положил какие-то 4 дощечки в ряд да и зовет Тишку Тютина, и говорит ему: «Чего тут?» Тишка глядел-глядел, да «ерши» говорит.
«Ну, ладно, – сказал Федька, – садись». Тот пошел и сял. «А вот теперь что будет?» – спросил он у Ваньки Климова. Тот поглядел и проревел: «Шире!». «Хорошо», – сказал Федька. Что за лишак такой: ерши – ладно, и шире – хорошо? Ну, осенил себя крестным знаменем, плюнул да и ушел. Тоскливо-то и за деньгами нашими, и за ребятишками. Пропали однако, да и только! – причем почтенный Арлап махнул рукою порывисто, и вздохнул от глубины сострадательного сердца.
– Нет, Арлап Федорович, учения и грамоты не браните. Ведь лучше же будет, когда дети ваши будут грамотны. У вас в волостном правлении будут свои и писарь, и помощники их, и писцы; а кто ведает, иной попадет и к заседателю, пожалуй, даже и к исправнику. И им, и вам будет лучше.
– Ни им, ни нам. Сопьются все, как спился наш учитель Федюха, как спились наши писаря и писцы. Ничего с них не будет. А с нас, общественников, они драть будут шкуру еще почище чужих. И накорми их, и напои, и денег им принеси, и с промыслу часть отдай. Свои ведь – не откажешься. А откажешься – такую притчу сделают с тобою, что не будешь рад. Вот Ефим-то Лаврентьев, что в волости пишет – ведь наш, а с кого не сорвал и кому не напакостил. Да еще ни одной ни бабе, ни девке спуску не дает. А ты молчи! Ну чего грамотный – так и подведет статейку. Хорошо, как поучится да пойдет на прииски, тогда нечего бояться его, не страшен – далеко! Да лет через пять еще махнет в золотничники и выпишется – так нам-то чего? А вот Кустов и посельщик да грамотный, так заступал место писаря. Ну, досталось же однако нам, а бабы наши так воем выли. Уж ухаживали они, ухаживали за его девкою Александрою, да ничего не помогало. Била всех и руками, и ногами. Одну как топнула в пузо, так та тут же и опросталась мертвым ребенком, а другую сослала на Амур.
– На Амур? Каким же это образом?
– Да требовались тогда на Амур гулящие девки. Их записывали там в казачки. Вот она и обработала так, что ее, замужнюю и от живого мужа сослали однако туда.
– Верно, муж бросил ее и отказался от нее.
– Как хорошенько отпороли в волости, да и не раз, так хоша не хоша откажешься. Ну, и пошла как девка, да еще и гуляща.
– Да из чего же бесновалась так Александра?
– Боялась, чтобы которая не приглянулась ее Кустову. Она ведь тоже поселка, часто напивалась, да и погулять любила, а он бил и ее как всех. Так тут и делать было нечего.
– А ваши общественники, головы, старшины, кандидаты – что ж – переносили все это и молчали?
– Ну, что поделат? Эхидная ведь была такая. Наметит, бывало, лучшую в волости, да и помоложе девочку, и возьмет ее в стряпки к приезду заседателя, а уедет он – она ее побьет и прогонит. К другому приезду будет другая. Заседатель ее иначе не звал как дорогая Александра Ефимовна, и чего не попросила она, то он и делал. Да и оно того, однако, еще нужно бы и то сказать, что куда ни сунься…
Тут дверь моей комнаты отворилась и вошел хозяин дома, известный во всей волости под именем Тюти. Арлап Федорович замолчал. Не знаю, как долго продолжал бы он эту геремияду, и чем окончилось бы это nonpossumus[347]347
Формула категорического отказа (лат.), которой ответил Папа Пий IX на требование Наполеона III отдать королю Италии провинцию Романью.
[Закрыть] […] про варьированное на кежемский напев. Возражать ему было бы для меня крайне затруднительно и, за неотразимостью фактических доводов, даже невозможно, но только я невольно убедился, что умственная работа моего собеседника всецело обратилась на новые предметы, более подходящие под его неповоротливую впечатлительность. Это была бутылка с водкою, не однажды битая и не однажды склеиваемая стекольною замазкою чайная фарфоровая чашка допотопной какой-то архитектуры, и калач, испеченный из пшеничной муки, но, увы, до того темный, или, правильнее сказать, бурый, что европейские ржаные хлебы сочли бы его не менее как за малайскую, ежели не за негрскую, расу свое породы.
Все это было принесено и помещено на столе почтенным общественником Тютею. Арлап Федорович, как официальное лицо, сейчас же вступил в должность распорядителя по предварительному с ним соглашению, угощением меня в видах необходимого по сибирскому обычаю фактического приступа к делу.
Крайне удивились милые мои посетители, когда я стал отказываться от содержимого в бутылке, так как при одном наливании в чашку сивушный запах, распространившийся по всей избе, изобличил мутную микстуру, называемую в Кежме вином, и состоящую из одного пая этилового спирта 86-й пробы и трех паев ангарской воды. Начались увещевания и упрашивания, и я из вежливости, скрепя сердце, принужден был выпить полчашки вонючей и отвратительной сивухи, и поспешнее закусить куском неказистого и безвкусного калача.
Покрепившись на силах душевных, Арлап Федорович с важностью, подобающею его значению в общественной администрации, приступил к изложению дела, по которому он явился ко мне. Тютя, как и следовало подчиненному, поддакивал только своему начальнику. Не имея подражательного таланта, я не могу передать всей этой курьезной сцены, и потому изложу только самую суть ее. Она состояла в том, что кежемские общественники решились подать прошение в волостное правление и просить о нижеследующем. Пункт 1-й: что старуха Афонькина – волхвистка. Пункт 2-й: что она – оборотень, и в виде кобылы рыскает ночью по деревне и ржет. Что могут засвидетельствовать такие и такие, числом 18 человек. Пункт 3-й: что она, кроме того, из соседнего двора девочку Федькину обращала в собаку и бегала с нею, что кроме сознания девочки подтверждается свидетельствами матери ее, тетки и старшей сестры. Пункт 4-й: что она отрезывает уши коровам для своих волхвований. И пункт 5-й: что она, влезши на луну, откусила кусок ее, что видели 40 человек, готовых подтвердить свои показания присягою. А как все эти, богопротивные преступления совершаемы были явно и не подлежат ни малейшему сомнению, то общество кежемских крестьян просит, дабы повелено было оную богомерзкую волхвистку Афонькину, по снаряжении законного следства, предать уголовному и церковному суду, и выгнать ее как из села Кежемского, так и из всей кежемской волости. Нужно только подвести статейки к каждому пункту отдельные, написать прошение, и переписать его на гербовой бумаге. И вот цвет общества, готового принять присягу в виденном собственными их глазами безобразии, рассчитывая на мою грамотность, шлет ко мне депутацию с предложением пособить им в столь важном и выходящем за пределы снисхождения деле, предлагая при этом богатое вознаграждение: 50 белок, 2 пуда ржаной и по 1 пуду пшеничной муки и рыбы, кроме выпивки, необходимой как при заключении условия, так и при исполнении его.
Трудно представить то удивление, которым я поразил почтенных депутатов, наотрез отказываясь исполнить их просьбу, не смотря на всю, по их мнению, соблазнительность награды. «Это совсем не по мне, и я ни за какие коврижки не прим участья в таком глупом деле», – был мой решительный ответ.
Услыша его, они прежде онемели, как будто на них нашел столбняк, потом стали едва-едва пошевеливать руками и языком, но так несообразно и безотчетно, что все их движения рук походили более на судороги свежеубитой лягушки под влиянием гальванического тока, а из движений губ никак не составлялось ни одного слова. Слышны были какие-то звуки чисто животные, исходящие как будто не из гортани, а из пищевода, для подражания которым нет букв ни в одной человеческой азбуке. Я сидел неподвижно. Предо мной была великолепная картина первобытного человечества, и как жаль теперь, что я не успел за ее поразительностью, проницательнее проследовать все фазы ее кратковременного быта. Это была бы схема постепенного выхода человека из бессловесного состояния. Это было бы для меня целое миросозерцание, как говорят наши фразоточивые составители риторик, пиитик, методик, педагогик и всяких систематических путаниц, произведенных в чины штаб-, обер– и унтер-учебников, изданных якобы для родителей, воспитателей, учителей, наставников и учащихся, и от альфы до омеги никого из них и ничему не учащих и ни в чем не руководящих. Да! Предо мною были ежели не прямые потомки, то по крайней мере не выродившиеся еще племяннички какого-то мезопитека!
Наконец, способность говорить возвратилась, и подергивания рук прекратились. Начались слова сперва просьбы, потом обещания увеличить плату, затем увещания и упреки, и все это в конце концов разрешилось угрозами и бранью. Почтеннейшие общественники никак не могли допустить, чтобы грамотный отказывался писать прошения, жалобы и доносы. Да к чему же и грамота? Ведь чтобы косить сено на ангарских островах, промышлять белку и соболя и ловить рыбу в самоловы – она совсем не нужна. Не понимали они и того, как может кто-либо устоять пред такою огромною наградою, когда за несколько перед тем месяцев один кежемский Коллатин[348]348
Луций Тарквиний Коллатин – один из первых двух консулов Рима, муж Лукреции.
[Закрыть] удовлетворился белками за обиду своей Лукреции, когда другой отец удовольствовался ведром вина, выпитым вместе с Аппием Клавдием[349]349
Римский политик, живший между IV и III веками до н. э.
[Закрыть], изнасиловавшим его дочь, когда Коклесь[350]350
Публий Гораций Коклес – полулегендарный древнеримский герой, которому предстояло защищать один из мостов от нападения этрусков.
[Закрыть] Фомка за выколотый ему глаз и пролом левой скуловой дуги взял с проезжего торгаша не более 5-рублевой ассигнации, которая впоследствии оказалась фальшивою. Я показался им хуже Ефима Лаврентьевича, хуже Кустова, потому что они были уступчивые, и сами предлагали свои услуги написать прошение и подвести статейки.
– Живодер! – было вступлением в брань, начавшуюся в избе и окончившуюся в сенях, на дворе и на улице, родословием по женской линии, с присоединением всех приставок, употребляемых для усиления превосходной степени в русской грамматике.
Я вздохнул свободнее по уходе милых моих посетителей. Тютя отправился на свою половину и перестал реветь (кричать). Голос же Арлапа Федоровича долго еще раздавался все дальше и дальше, тише и тише, и где-то в конце улицы он замер окончательно. Я потушил свечу и лег спать, но во всю ночь уснуть мне было решительно невозможно. В голове мерещилась какая-то дребедень, заставлявшая сознавать, что это приступ галлюцинации. Только к рассвету я как-то успокоился и забылся.
На другой день, как я узнал после, другая депутация ходила к приходскому священнику Григорию Софроновичу Олофинскому. Состав ее несколько изменился: вместо слабого Тюти отправилось самое интеллигентное лицо из Кежемской аристократии, бывшее когда-то прежде головою, торгующее, следовательно, посещавшее хоть раз в год окружной город Енисейск, и даже настолько грамотное, что даже исходящие бумаги подписывало собственноручно: «Волостной голова Гван Кокорин» – почерком, похожим на почерк Сетивая, только в масштабе по крайней мере в четверо меньшим. Арлап Федорович, как один из самых дельных и энергичных членов, остался неподменным.
Удача была не лучше. Священник не согласился сочинить им прошение и советовал не срамиться подачею его, потому что верить в волхвов и волхвиток и глупо, и грешно.
– Так ты, батька, не веришь, однако, в волхвов? – спросил его сановитый Иван Яковлевич.
– Не верю и не должен верить, ровно, как и вы не должны, потому что это запрещено заповедями господними. Помните слова: «не поклонишися им и не послужиши им».
– Мы-то помним, а ты, батька, и в Евангелие уже не веришь.
– С чего ты взял это, Иван Яковлевич?
– А вот с чего однако: какие же это волхвы приходили к Спасителю, когда он родился? Что ж ты дуришь? Какой же ты батька, какой же ты священник? – громко и настойчиво вскрикнула кежемская интеллигенция.
– Ты еретик, а не поп! – заревел энергический Арап Федорович.
– Мы пойдем к архиерею жаловаться на тебя, и будем просить, чтоб тебя убрали от нас к черту и расстригли. Ах, ты язва этакая! – хрипя кричал в сенях Иван Яковлевич.
Со двора и потом с улицы долго еще сыпались градом на бедного священника укоризны, угрозы и ругань. Иван Яковлевич не плошал, и оба члена депутации к священнику были твердого, упругого, устойчивого и энергического характера с девизом: «[дело] в крови, а наша берёт» – люди, именно такие, которыми восхищался, обессмертивший Страстной бульвар знаменитый неподкупный редактор Московских ведомостей. А такие люди не дозволяют заигрывать с собою и поперечить их ндраву.
Счастье мое, что у меня был только Арлап. Тютя – слабенек и на выпивку, и на дело.
Но времени оставалось немного: наступали святки, и в первых числах января выйдут на суглан[351]351
Суглан – народное собрание у бурят, эвенков, тофаларов и некоторых других народов Восточной Сибири.
[Закрыть] из тайги тунгусы. Приедет и заседатель принимать от них ясак. И вот, скрепя сердце, и по-христиански оставя все долги должникам своим, общественники обратились к ненавистному Кустову. Тот даже сам стал угощать явившихся к нему членов, и дело пошло как нельзя успешнее. Прошение было написано и подписано Иваном Яковлевичем собственноручно, другие же администраторы приложили свои печати за прочих, по безграмотству и по личной их просьбе, сельский учитель Федор Тромарев руку приложил. Подписей на прошении оказалось 57.
Наконец, пришло известие, что заседатель (или, как его зовут здесь – барин) Григорий Иванович Сорочинский едет и уже находится в соседственной Пичугской волости. Посланы сейчас же лошади на полустанки, и поставлены на дороге, за полверсты от въезда в деревню, караульные с винтовками, и по всему берегу Ангары с десяток парней с таким же оружием. Первые залпом, а последние поодиночке салютуют приезжающего барина до встречи его у въезда всем штатом волостного правления. Церемония при встрече исправника еще более торжественна. Ружейные залпы и крики «ура!» встречают его версты за три[352]352
Так было в 1867 году. Но tempora mutantur. Теперь и сам исправник въезжает в Кежму тихо – прим. М. Маркса.
[Закрыть]. нет только колокольного звона как при въезде Друцкого-Соколинского[353]353
Друцкий-Соколинский Михаил Васильевич, князь.
[Закрыть] в Смоленск. А жалко – его бы-то и нужно для полного эффекта!
Явились и тунгусы. В первый раз я увидел этот народ и с первого же раза не мог не полюбить его. Коротко и красиво, хотя не совсем чистоплотно одетые, легкие, ловкие, вертлявые и бойкие, они совсем не походят на прочих, мешковатых и более медведе-, нежели человекообразных, неповоротливых, грязных и вонючих здешних коренных жителей, называемых даже у нас официально инородцами. Тунгусы – это северные испанцы и по цвету кожи, и волос, и по статности фигуры. Один только контур лица изобличает родство их с китайцами, монголами, маньчжурами и японцами; но как во всей восточной России, начиная с Костромы, а тем более в Сибири, таких лиц очень много в каждом городе и в каждом селе, и все они называются русскими, то впечатление, произведенное тунгусским контуром, по привычке к нему, теряет всякую поразительность. Это какая-то упругая раса. Социальная обстановка ее стократ хуже обстановки мужичка даже во время крепостничества: а взгляните на тунгуса, только что вышедшего из тайги, и на литографию, изданную Мицкевичем в Париже, представляющую белорусского горемыку. В первом – бодрость и ум пробиваются из глаз и из движений, тогда ка во втором видно одно только идиотическое отупление.
Но к какому выводу придем мы еще, сравнивая одного тунгуса на кежемском суглане, с другим, повелевающим чуть не полмиру с пекинского престола. Первый бойко и терпеливо переносит все невзгоды эксплуатации и гнета русского кулачка, называющего себя ангелевым, и чрез то наложившего на себя священную обязанность истреблять эту лишакову тварь, и истребляющего ее всеми возможными средствами, обманывая и обдирая, угнетая и разоряя, сливая и отравляя[354]354
Вот рецепт водки, приготовляемой кежемцами для тунгусов во все время пребывания их на суглане: [далее рецепт на латыни, нрзб.]. Каждые пять минут по рюмке – прим. М. Маркса.
[Закрыть], доводя до голода и до людоедства, и потом, для прекращения этого людоедства, цивилизуя насильным погружением в воду, не накормя его и не потрудившись даже объяснить, что значит это погружение, к чему оно, и что погружаемый должен знать и усвоить. Второй же пресытился, изнежился и до того оплошал, что считает даже непосильным для себя трудом собственною рукою поднести пищу к своему рту. Но к чему делать такие сравнения и доискиваться их смысла, когда остается на деле одно только «молчать», тем более, что при закате солнца стали раздаваться один за другим выстрелы и потом замолкли. Барин приехал.
В тот же вечер священник сообщил заседателю в разговоре обо всем, касающемся волхвитки. Прислали за мною, и я со всею подробностью рассказал о посещении меня Арлапа с Тютею, который с тех пор всячески избегал свидания со мною, не решаясь даже лично явиться ко мне с требованием платы за квартиру. Привели и девочку Федькину. Удивительно бойко и твердо отвечала она на все вопросы, ей предложенные, подтверждала свое превращение в собаку с такими подробностями, что в искренности ее слов трудно было даже усомниться. Особенно замечательно по поэтическому творчеству описание борьбы ее с непреодолимым желанием ходить на четвереньках, которое ей внушала ржавшая кобылою волхвитка.
– Стала я на руки, и тут-то увидела, что у меня собачьи лапы. Подняла я лапу, повернула к себе ладонью и смотрю – опять рука, поставлю на землю – однако, лапа. Хотела провести рукою по лицу – рука рукою, но у меня уже не лицо, а собачья морда. Хотела крикнуть – и залаяла!
С каким восторгом переводили бы эту метаморфозу почтеннейшие классики, ежели бы она была изложена в звучных овидиевых гекзаметрах! Сколько силы и простоты нашли бы они в каждом латинском слове! Сколько комментариев настряпали бы они для объяснения идеи, переданной этими словами, и сколько переливать из пустого в порожнее сделали бы для исследования того миросозерцания, в котором находился поэт в минуту овладевания им вдохновения!
С удивлением посматривал то на священника, то на меня председатель. Спокойно и как-то пытливо бросал взгляды священник на заседателя и на меня. Я не мог дать себе отчета, что это такое совершается, и, должно быть, очень глупо поглядывал как на священника и заседателя, так и на девочку. Одна она стояла бодро и смотрела на нас с каким-то самодовольством и почт торжеством.
Общее молчание продолжалось в минут пять. Священник медленно подошел к ней, погладил ее по головке и, положивши руку на ее плечо, со всевозможною мягкостью сказал ей:
– Спасибо! Ты милая и умная девочка, рассказала нам все, как следует, и рассказала как нельзя лучше. Спасибо тебе, спасибо! Только вот скажи нам. Пожалуйста, кто это тебя выучил?
– Тетушка Варвара! – быстро ответила она, глядя на нас еще самодовольнее в следствие полученных от священника похвал. Вопрос этот не был никем предвиден, и ответ на него не заучен.
На другой день в волостном правлении был зачитан приказ, чтобы за прозвание кого бы то ни было волхвом или волхвиткой, виновный был предан суду и подвергнут законному наказанию. Прошение осталось не подано.
Потерпевшие такое поражение общественники начали упрекать один другого. Каждый из них сваливал неудачу на ближнего и искреннего своего, и требовал от него возврата издержек на плату Кустову, на гербовую бумагу и на всепопойки до написания и при написании прошения. Упреки перешли в ругань, а ругань в драку, в которой, кажется, более всех пострадал мой слабый телом и духом Тютя. Он едва дополз домой с лицом, лишенным всякого подобия человеческого и более недели вылизывался от нанесенных ему ран и ушибов. Хорош был и бегемотообразный Арлап с сине-багровым пятном под правым глазом. Как официальное лицо, он должен был ежедневно являться и в правление и к барину. Но никто не спросил его, где судьба послала ему такую благодатную отметку.
Через неделю Г.И. Сорочинский уехал. Тихо и незаметно скрывалась злоба общественников на священника и на меня, пока, наконец, не выросла до пределов, не позволяющих ей оставаться тайною. Пьяные грамотеи Иван Яковлевич и Кустов раздували ее во все стороны и всеми возможными для них средствами. Смирнейший и трусливейший Тютя по их внушению отказал мне в квартире, и то не самолично, а чрез жену свою, другие же домовладельцы не пускали меня к себе. Вот тут-то счастливый случай выручил меня.
В то время был некто Малевич, полуокладной крестьянин, бывший прежде поселенец, а еще прежде гусарский штаб-ротмистр и наследник богатого имения в волынской губернии. При дележе со старшим братом своим он имел неосторожность объявить во всеуслышание, что доставшихся на его долю крестьян он сделает вольноотпущенными. Все крестьяне хотели отойти к нему и заявили об этом пред старшим братом, который сейчас же донес таковом бунте высшим властям, и просил высылки солдатов для усмирения восставших. Солдаты явились со штыками, а земская полиция с розгами. Началось следствие, потом суд, по которому несколько крестьян наказаны кнутом и сосланы в каторжные работы. Имение все досталось старшему брату, потому что младший как зачинщик бунта и нарушитель священного помещичьего права, по лишению дворянства и чинов сослан на поселение в Сибирь. В храбром и удалом гусаре не оказалось гражданской храбрости и твердого удальства, и он пал духом, одурел и превратился в какое-то полусознательное существо. В Кежме он женился на глухонемой крестьянской девушке, взял за женою избушку и корову, пахал заступом огород под капусту и яблочки (покежемски картофель), ходил на промысел за белкою, ловил рыбу, и некоторое время служил сидельцем в кабаке от одного торгующего вином жидка (разумеется, крещеного и ревностного блюстителя крестьянства). Грустно было смотреть на этого человека, особенно тому, кому судьба улыбнулась так же, как и ему, и кто сам едва не дошел до его состояния.
Как теперь помню происшествие, случившееся со мною вскоре по прибытии в Кежму. Туда же для перемещения в другую какую-то волость был вызван из соседственной деревни один доктор из поляков, сосланных сюда в 1864 г. Он навестил меня и даже на одни сутки (на другой день его отправили в Енисейск) поселился у меня. Мы напились чайку (разумеется, кирпичного) и улеглись на скамьях от нечего делать. Молчал доктор, молчал и я. И об чем нам было говорить? Об прошедшем – оно невозвратимо, об настоящем – оно тягостно, о будущем – оно темно и безотрадно. Долго молчали мы оба и лежали почти неподвижно, как вдруг я вспомнил одно явление, поражавшее меня уже неоднократно, в котором не мог дать себе никакого отчета и обратился с вопросом:
– Скажите, пожалуйста, доктор, что это со мною делается и даже довольно часто, что я сижу или лежу, не сплю и в то же время ни о чем не думаю? Возможно ли, чтобы при полном действии всех чувств, без эфира, хлороформа, алкоголя, опия или гашиша, получаемые впечатления не отразились каким-нибудь процессом мозговой деятельности, каким-нибудь рефлексом, какой-нибудь мыслью? Но я сознаю, что я не думаю, и спрашиваю сам себя: что ж это такое, в голове у меня нет ни одной мысли.
– Да, это случается и со мною, – пробормотал он, не трогаясь с места.
– Верю, что и с вами это случается, верю, что может, что должно даже случаться с вами, но я обращаюсь к вам как к медику. Объясните мне, ежели можете, это физиологическипато-логический факт.
– Объяснить? Ну, что ж. это вступление в сумасшествие. – сказал он прехладнокровно.
Я вскочил, как ошпаренный, стал метаться из одного угла избы в другой, а мысли все-таки не лезли в голову. Он спокойно лежал себе на месте.
Нужна умственная деятельность, умственная работа, без нее плохо будет! Но где же найти ее? Придумать наконец.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.