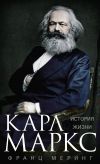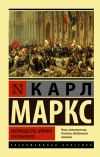Текст книги "Записки старика"

Автор книги: Максимилиан Маркс
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)
Студенты – этот интеллигентный пролетариат, не мог и мечтать даже об инициативе в подобном случае. Радовались они и праздновали этот незабвенный день, как могли.
Помню: в одной из квартир на демократической трубе собралось несколько человек из польского кружка. За ними явились и русские, числом около 10, а с ними и болгарин Жинжифов. Чехов не было видно. После чаю хозяин квартиры налил рюмки, стаканы и чашки каким-то дешевым вином (на шампанское средств не хватало) и поднял тост речью, оканчивая ее словами Мицкевича:
(Здравствуй, денница свободы, за тобою идет солнце спасения!) Впечатление было поразительное. «Witaj!» закричали все до единого. Жинжифов со слезами бросался в объятия всех, тут присутствующих. За ним пошли и прочие. Один футур сейчас же выступил на середину комнаты и затянул на мотив Фра-Диаволо[276]276
Фра-Дьяволо, или Гостиница в Террачине – комическая опера на музыку Даниэля Обера, либретто Эжена Скриба.
[Закрыть] заимпровизованный им куплет:
Spójrzyjcie tu na nas zdala
Zaborcy naszych dóbr!
Polak uściska moskala,
A Bułgar płacze jak bóbr.
Drżyjcie!
Bo wkrótce jak piorun z burzą
Odległe echa powtórzą:
«Wolni my! Wolni my! Wolni my!»
(Взгляньте сюда на нас издали, похитители нашей собственности! Поляк обнимает русского, а булгарин плачет как бобер.
Дрожите! Потому что как гром с бурею, дальние эха повторят: мы свободны! мы свободны! мы свободны!)
В восторге стучали стульями по полу, кулаками по столу, топали ногами, обнимались, целовались, а про слова Н.М. Муравьева «на этой дудочке поиграют недолго» никто и не вспомнил. Что-то похожее было и на Арбате, но чехов и там не было. Вот и единение славян!
Правители и чиновники сделали свое и по-своему, т. е. официально, чинно, хладнокровно и без проявления какой-нибудь чувствительности и сентиментальности. Сочинили адресы кудрявые и непонятные простому народу, разослали их по волостям, а там писаре переписали их набело, и указали места для подписей призванным крестьянам: и адресы множились со дня на день, скоплялись в десятки и сотни, и отправлялись в Петербург по мере накопления. Молебены шли тем же путем, только не через писарей, а через приходских священников. Грустно вспомнить, что такой незабвенный день как 19 февраля – день, встретившийся только раз в тысячу лет, прошел в Москве как-то уныло и вяло.
Совсем не так выразилась радость по случаю отмены акцизно-откупной системы – события сравнительно ничтожного. Народ тут действовал сам собою, от себя и за себя.
В день 1863 нового года с двух или трех часов утра начались песни и веселые крики на площадях, улицах и в переулках. Кое-где отзывалась и гармония, наигрывающая плясовую, слышались звучные прищелкивания и присвистывания к пляске. До самого почти Крещения[277]277
В XIX в. этот праздник приходился на 18 января (по григорианскому календарю).
[Закрыть] жизнь на улицах била ключом. Дешевка воодушевляла всех. К чести народа должно сказать, что и такое опасное воодушевление не привело его к какому бы то ни было выходящего из порядка вещей безобразию.
А все-таки, где народ действует сам, без руководства власти или интеллигенции, дело не может обойтись без комических, а иногда и трагических событий. Мне пришлось быть свидетелем двух фактов.
1 января в 8-м часу утра я по принятому обыкновению совершал прогулку по бульвару на Чистых прудах с любимою собакою своею – Канисом. Утро было морозное и туманное. Светало. Вдруг Канис мой побежал вперед, стал беспокойно метаться около одной из скамеек на бульваре, забегая то в одну, то в другую сторону ее. Когда я подошел ближе, услышал возгласы: «Ура Его Императорскому Величеству! Ура! Водка дешевле – ура-ура!» Какой-то господин в теплом пальто с бобровым воротником, в теплых меховых калошах, ссунулся со скамейки, размахивает руками, болтает ногами, и поднимая как руки, так и ноги вверх, кричит что есть силы «Ура! Ура!». Меховая шапка свалилась с его головы. Канис схватил ее в зубы, и стал играть с нею, мотать, тормошить и трепать ее. Едва-едва успел я вырвать у него эту несчастную шапку и заставить его идти за мной домой.
Через дня два или три случилось еще что-то почище. Я шел по Рождественскому бульвару и в конце его хотел выйти на улицу по сходням в несколько ступенек, как увидел, что сходни заняты двумя женщинами, очень прилично и даже щегольски одетыми. Обе они сидели неподвижно на ступеньках. Одна повыше, в меховой шубе, круглолицая блондинка, в теплой шляпе с вуалькою, откинула голову назад, как бы созерцая светила небесные. Другая пониже, в бархатном бурнусе, отделанном в стеклярус, с накинутым на голову кашемировым платком, наклонилась и прижала лицо к своим же коленям. Я хотел пройти между ними, взглянул и, как от электрического удара, отпрыгнул на противоположную сторону бульвара и другими сходнями выбрался на улицу. Смертная белизна лица, пред которою все мраморные статуи покажутся румяными, полураскрытый рот со сжатыми белыми зубами, полураскрытые, неподвижные, не потускневшие, а совсем побелевшие глаза – вот что я увидел. Первому попавшемуся мне городовому я сказал, чтобы он поспешил на бульвар и посмотрел, что там делается. Он сейчас же пошел туда. Я слышал, что одну из них, верно, ту, которой лица я не видел, успели оттереть. Блондиночка едва ли могла возвратиться к жизни.
Бедняжки не по силам выразили свой восторг при всеобщей радости и, по-славянски, не удержались в сфере умеренности и аккуратности.
VI
Как громом поразило всех известие о событиях в Варшаве.
15-го февраля по самовольному распоряжению какого-то Заболотского пало пять ни в чем неповинных жертв[278]278
15(27) февраля 1861 г. генерал Василий Заблоцкий приказал открыть огонь по мирной демонстрации, требующей социальных реформ и гарантий основных гражданских прав. Манифестация превратилась в религиозно-патриотическое шествие.
[Закрыть], и в само 19 февр[аля]. совершилось торжественное погребение их трупов. Через три дня депутаты городских жителей явились к гуманному и глубоко уважаемому ими наместнику Кн. Горчакову, по-раженному не менее их этою никак неожиданною невзгодою, с просьбою разъяснения самого события и принятия нужных мер предосторожности. Князь объяснил, что все совершалось помимо его воли и без его распоряжения. Депутат от ремесленников, содержатель сапожного заведения, Станислав Гишпанский, напомнил ему, что за все отвечает фирма, которой он – представитель; а раввин Мейзельс на вопрос «зачем и он тут», с библейскою фигуральностью называя правительство отцом, страну матерью, а жителей детьми, ответил: «Дети плачут, когда отец бьет мать». Князь Горчаков выслал подальше из Варшавы всех этих депутатов. Всем известен печальный ход последовавших событий.
В Москве никто не одобрял стреляния по народу, но зато каждый молодец толковал на свой образец, и оттого толкам не было и счету. Некоторые были наивно глупы, потому что сводились на пустейшие слова: ошибка, случай, недоразумение и пр. Но были и очень оригинальные. Мне памятен один, слышанный мною в вокзале Николаевской железной дороги от уезжающего из Москвы какого-то пожилого господина в общеармейском мундире, славянофильствующего помещика, кажется, Новгородской губернии, с какою-то нерусскою и даже неславянскою фамилией, которую никак теперь не могу припомнить:
– Дело-то, сударь мой, само по себе и плевка не стоит. При покойном государе наш отец командир Иван Федорович сейчас же вывел бы все войско из этой проклятой Варшавы и в полчаса (как он и говорил приезжавшему из Лондона жидку Монтефиоре) разгромил бы ее в пух и прах, а чрез другое полчаса в Питере читали бы депешу: «Варшавы нет, спокойствие восстановлено и все обстоит благополучно». Вот как по-нашему! И согласитесь, сударь мой, сами, что лучше. А то – севастопольские герои! Какие тут герои? Ох, этот Севастополь, право, хуже чумы. Европейские идеи! Да нам-то что до Европы – плевать на нее!
Вот возможно приблизительное содержание сильно прочувствованной и с жаром произнесенной речи почтенного представителя прежних времен.
Но это прежних. А вот что тоже собственными ушами слышал я, спустя 18 лет, и не в первопрестольной Москве, а на пределе обитаемых мест, в Енисейске. Директор прогимназии Н.[иколай] Н.[иколаевич] Сторожев, действительный студент[279]279
Выпускники университета, которые во время учебы прослушали все лекции и получили среднюю оценку от 3,5 до 4,5. Это не была академическая степень, которую можно было получить со средней оценкой выше 4,5.
[Закрыть] и ярый славянофил, сидел в состоянии откровенности, когда пришло известие о преступном покушении Соловьева на жизнь Государя Императора[280]280
2(14) апреля 1879 г. революционер-народник Александр Соловьев совершил неудачное покушение на царя Александра II.
[Закрыть]. Пораженный известием он хотел привстать и сказав только: «Да! Пока есть Варшава – в России смутам конца не будет!» – упал от полноты чувств. Это ведь новейшего классического пошиба, хотя ни в одной латинской грамматике нет Variovia delenda[281]281
Варшава должна быть разрушена (лат.).
[Закрыть], а дальше грамматики usque ad hoc tempus[282]282
До настоящего времени (лат.).
[Закрыть] наши педагоги не зашли, все-таки это представитель классицизма, разумеется, sui generis catcoviani[283]283
Своеобразного – катковского (лат.).
[Закрыть].
В Варшаве кто-то вспомнил, что в 1830 году лишь только Кн. Константин Павлович удалился, совершена была торжественная панихида с крестным ходом по пяти декабристам, казненным в Петербурге. А тут у себя тоже – пять трупов! Чего же лучше для работы путем демонстраций, единственно возможным, по мнению большинства? Нужно только дать этим демонстрациям побольше простору, и – дело закипело.
В Москву летели письма с копиями писем, известий из-за границ, речей, отзывов и прокламаций. Молодежь не могла устоять против этого натиска, и решилась тоже сделать демонстрацию – отслужить панихиду за пострадавших невинно.
Обратились к декану католической церкви, ксендзу Довгялло. Тот наотрез отказался, не смотря на все просьбы, увещания, представления и даже угрозы. Что тут делать? Кроме общекатолической, в Москве есть еще другая, состоящая под непосредственным покровительством французского правительства и называемая французскою церковью, с двумя аббатами – Кудер и Террайль; а императрица Евгения[284]284
Императрица Евгения, урождённая Эухения Палафокс, графиня де Монтихо (1826–1920) – последняя императрица Франции. Жена Наполеона III.
[Закрыть] надела траур по убитым. Заадресовались к французским аббатам, а те заявили, что они с удовольствием исполнят просьбу, ежели только согласится на то французский консул в Москве. А г-н консул ответил, что молиться за усопших он запретить не может, но просит только об одном, чтобы при совершении обряда не было политических речей. Обещано более требуемого – речей не будет никаких.
– А относительно порядка самого обряда переговорите с аббатами, – сказал в конце консул.
Этого было довольно. Взялись ребята за работу. И в одни сутки изготовили все. Кто обводил черные каемки на восьмушке почтовой бумаги, кто писал, кто печатал, кто надписывал адресы, кто разносил и сыпал целые десятки приглашений в ящики городской почты! Более 700 кувертов было разослано по Москве, и к полякам, и к русским, к французам, немцам, итальянцам, армянам, и даже, кажется, к двум евреям. Болгары и чехи как студенты были приглашены словесно. Панихида назначена двухдневная – съезд приглашенных был непомерный, и кого же тут не было: и военных, и статских, и мужчин, и женщин, и стариков, и молодых. Дамы догадались сами надеть платья или черные, или белый с черными принадлежностями остального туалета.
Посредине церкви возвышался катафалк, а на нем – гроб с пятью терновыми венками сверх крышки. На ступенях катафалка горели лампады, прикрытые шарами белыми и кровяно-красного цвета, размещенные в изящной симметрии. Орган издавал соответственные обстоятельству, унылы, минорные мотивы.
В первый день ничего особенного не случилось. Во время обедни, при предложении даров, орган замолк, молодежь пала на колени и запели гимн «Boże, coś Polskę…». Все присутствующие в церкви последовали их примеру. Кто пел, кто подтягивал, но ни стоящих, ни молчащих, кажется, не было.
На другой день, еще до обедни к проф. Вызинскому[285]285
Вызиньский Хенрик (Вызинский Генрих Викентьевич) (1834–1879) – историк античности. Читал лекции в Москве и Париже. В эмиграции был связан с польским эмиграционным движением «Отель Ламбер».
[Закрыть] подошел молодой человек в русском костюме и просил дозволения произнести у гроба речь от русской молодежи. Ему отказали, так как по обещанию, данному консулу, не дозволялись никакие речи. Богослужение шло в том же порядке, что и в первый день, только по окончании панихиды пять студентов сняли с гроба венки, порвали их и стали раздавать посетителям и преимущественно посетительницам, кому листок, кому прутик, кому шип. Как вдруг все поражены были громкой русской командой: «Дамы, вперед!», раздавшейся сверху. Что это такое? Переглянулись – на хорах никого не видно. Будь что будет – в одну минуту решились пустить дам вперед, а молодежь должна была выходить из церкви после всех.
Пропустили дам, побледневших и дрожавших. За ними вышли их мужья, отцы и братья, и что же видят? Дамы столпились кучками во дворе и осматриваются то на церковь и выходящих из нее на улицу через решетку ограды, где накопилось много зевак всякого праздного народа, привлеченного множеством экипажей, стоящих по сторонам двора. Ни солдат со штыками, ни казаков с нагайками, ни жандармов с обнаженными саблями – нет никого! Я подошел к кучке дам, в которой была и жена моя. Там были: Мария Васильевна Тучкова, сестра генерал-губернатора со своими родственницами, жены двух частных полицейских приставов, Шляхтина и Врубель, одна какая-то армянка, француженка мадам Беккер с дочерью, и еще несколько незнакомых мне лиц. Мимо меня прошел синий жандармский мундир, отыскивая свою жену, которая забилась куда-то подальше. Все спрашивают: «Что такое?» – и никто ничего не знает.
А между тем на паперти молодой человек в бархатной поддевке сверх красной рубашки, в маленькой круглой шляпе с павлиньим пером, стоя у колонны, что-то громко говорит и жестикулирует руками, а молодёжь окружила его и слушает со вниманием. Вот он взывает: «Подадим друг другу руки!», вот снимает шляпу, поднимает ее вверх, машет ею и громко кричит: «Да здравствует Польша!» – «Nich żyje!» в один голос ответили ему сотни, поднимая вверх и даже подбрасывая свои шапки. «Nich żyje!» – повторилось еще в ответ другому оратору. И это среди двора, почти на улице, только за решеткою ограды, в присутствии народной толпы, и где – в Москве белокаменной!
Посланные от русских кружков Заичневский и Освальд[286]286
Студенты Московского университета.
[Закрыть], очертя голову, исполнили свое поручение. Но где же была полиция? Бог ее знает, но она молчала. А «Московские ведомости», зорко после следившие за всеми, и видевшие все, даже и то, чего не было и об чем никому не снилось? – и те молчали. Мучительнейшая борьба, надо полагать, происходила тогда и в мыслях, и в чувствах их редактора.
VII
Смута шла далее и далее. Демонстрации не ограничились Варшавой и Царством Польским. Вильно и Ковно не отстали от них. В Городле съехались представители всех воеводств (за исключением смоленского) бывшей Речи Посполитой, а рогачевские дворяне (Могилевской губернии) удивили всех своей шальной петицией восстановления литовского статута и унии.
Чрез Москву, поодиночно, в сопровождении жандармов, провезены в гости к Макару: Гишпанский, каноники Дзяржковский[287]287
У меня с кн. Дзержковским завязался однажды разговор о гражданском браке, и вот что сказал он: «Церковь – это любящая мать и обязана руководить детей своих, пока они дети; и она руководила ими, учила, судила и лечила их. Но подрастут они, и умная мать должна сказать им: «Можете теперь распоряжаться сами, и какое мне дело до вашего полового подбора!» Все тут сводится к одному вопросу: подросли ли детки?» – прим. М. Маркса.
[Закрыть], Стекций и Вышинский[288]288
Кс. Вышинскому его духовное звание нисколько не помешало быть глубокомысленным натуралистом и последователем Дарвина.
[Закрыть], Грабовский[289]289
Михал Грабовский (1804–1863) – польский писатель и публицист; автор статьи, наделавшей много шуму «Ответ поляка русским публицистам» (День, 1862 г. №№ 15, 16).
[Закрыть] и Корзон[290]290
Корзон Тадеуш (1839–1918) Автор капительного и беспристрастного сочинения «Wewnęrzne dzieje Polski za Stanisіawa Augusta 1764–1794» – 4 части, изданного и премированного Краковскою академию наук.
[Закрыть] – питомец Московского университета, наделавший много хлопот своим экзаменаторам, и поставивший их в тупик на своем кандидатском экзамене.
Он ехал с молодою супругою, обвенчавшеюся с ним в тюрьме за час до отправления в дальний путь. Как на диво провезены были вдвоем и братья князья Четвертинские, жалкие мальчишки, потому что младшему было не более 13 лет. Мать их отправлена особо в иное какое-то место и иным путем.
А между тем Велепольский[291]291
Велепольский Александр (1803–1877), польский государственный деятель, представитель знатного графского рода. Являлся символом примирения с царской властью. Проведенные им в 1861–1862 гг. реформы, а прежде всего рекрутский набор, стали одной из причин Январского восстания в Польше.
[Закрыть] поставил дело в Петербурге так, что не оставалось, кажется, ничего и желать более. Гордый аристократ и монархист по убеждению, он светлым умом понимал, что народу дороже всего его семейный строй и его язык; и вот первым его стараньем было удовлетворить как этим потребностям, так вместе с тем и нестерпимо мучительной жажды основательного высшего образования, к которому пылкая молодежь усердно рвалась, и, не находя его у себя дома, впадала в гнусную апатию, или в отчаянное озлобление.
«Требования и просьбы поляков так основательны, справедливы и законны, что им отказать нельзя; и увидите, что скоро явится автономная, соединенная с русским скипетром, прекрасная Польша, с границами, указанными Государем Императором в речи, произнесенной им в Варшаве. Вот что значит уметь взяться за дело. Молодец Велепольский!» Так говорил мне обер-штальмейстер двора е.в. гр. Гудович, приезжавший в Москву во время поездки Государя за границу, и таково было мнение высшего правительственного круга.
Как патриот, а еще более как народник, Велепольский работал последовательно, по плану Чарторыских, в пользу Польши под покровительством России, а никак не химерически в пользу независимой Речи Посполитой. Как прежде в 1831 г. Хлопицкий посланным к нему сказал: «Ani jednej skałki (ни одного кремня) dla Litwy i Podola!» так точно ту же мысль повторил Велепольский, явившимся к нему депутатам: «Не считайте Польшею всего, что когда-то принадлежало к Польше, но никогда не было Польшею. Днепр и Двина со всеми их притоками русские, и только русские». Многим это не нравилось, и вот причина его непопулярности и даже ненависти к нему в Литве и Белоруссии. И когда по случаю покушения на его жизнь он получал отовсюду поздравительные адресы и депеши, в числе их была одна подделанная от мнимого члена германского союза, владетельного князя Гурензон фон Думмеркопера[292]292
Hurensohn von Dummer Kopf – досл. нем. «Сукин сын от глупой головы».
[Закрыть]. Он нашелся в положении, метко определяемом словами: между молотом и наковальней.
Начали являться целые партии ссылаемых по суду из Варшавы и других городов Царства Польского в оренбургские батальоны и за Урал на поселение. Первая партия состояла из семи или восьми студентов высшей школы, сделавших демонстрацию вновь прибывшему в Варшаву архиепископу Феликсу Фелинскому[293]293
Фелинский Сигизмунд Феликс (1822–1895) – архиепископ Варшавы в 1862–1864 гг., святой Римско-католической церкви.
[Закрыть]. Из них отличались: Рамлев, чрезвычайно симпатичная личность, и Диаковский, хромой, разжалованный в рядовые оренбургского батальона (?!), явились они в Москву пред Пасхою и с дозволения начальника крутицких казарм, разговелись и пробыли целый первый день до 8 часов вечера у меня.
Партии ссыльных быстро следовали одна за другою. Не проходило и недели, чтобы не явилась новая. И все они становились многочисленнее и многочисленнее. Некоторые состояли даже человек из 40. В числе ссылаемых были и помещики, и франтики помещичьи детки, и чиновники, и простые рабочие, были и старики, и ребятишки, и светские, и духовные; христиане всех вероисповеданий и евреи, зажиточные и голь отъявленная. Последней особенно было много. Были тут из Царства Польского, из Литвы, Украины и Белоруссии, и подданные прусские, австрийские, французские, и даже итальянские.
Много украинцев и белорусов едва-едва понимали кое-что по-польски, а несколько жмудинов не знали ни аза ни по-русски, ни по-польски. Много было в числе высылаемых родных и близко знакомых находящимся в Москве студентам и футурам.
Московское купечество искони отличалось своею благотворительностью. Именины, свадьбу, рождение ребёнка как дни радостные, а похороны, поминки – как печальные, оно всегда праздновало подаянием заключенным. Редкий день. Чтобы возы с калачами, сайками, говядиной, салом и прочими съестными припасами, не являлись в тюремный замок для подачи арестантам. Но вся эта благотворительность миновала пересыльную тюрьму (Колымажный двор), где помещались партии ссыльных, и они оставались без малейшего попечения. Совесть и человеколюбие понуждали прийти к ним с неотложною помощью, и за это взялись женщины. Понятно, почему. Они везде и всегда сострадательные и притом умеют удобнее располагать своим временем, не то что мужчины, занятые или обязанностями службы, или необходимостью трудиться для снискания средств существования.
Покойная жена моя была в этом отношении едва ли не деятельнее прочих. Как только получалось известие о появлении партии в Колымажном дворе, она являлась туда узнать нужды бедных узников, и на другой день утром отправлялась уже с удовлетворением их по возможности. Кроме белья, платья и обуви, везла она и другие необходимые потребности. Безногому нужны были костыли, священник просил молитвенник, а один молодой человек (помню даже его фамилию – Богданович) таблицу логарифмов. Чай, сахар и печенье к ним сопровождались тоже, хотя в небольшом количестве. Польский кружок студентов принимал посильное участие в этих благотворениях, и с удивительною быстротою доставлял почти все спрашиваемое.
Когда в Москве печатались «письма из Познани», в которых изложены были все, принимаемые прусским правительством, тогда тайные, а теперь явные подходцы германизировать Польшу, и представлены выгоды прекращения семейной вражды с Россиею, хотя бы путем уступок, тогда же и появилось письмо Бисмарка, приглашающее поляков отдаться под покров и защиту гуманной, цивилизованной и либеральной (sic) Пруссии. Первые читались хотя и с раздумьем, но внимательно и с любопытством, а последнее со всеобщим негодованием. На Наполеона III немногие, впрочем, полагали значительные надежды; большинство однако же считало его не более как пройдохой и шарлатаном. Моя покойница терпеть не могла даже одного намека на него, и выходила из себя, часто очень даже некстати, когда кто-либо оправдывал его декабрьское coup d’état[294]294
Переворот (франц.).
[Закрыть].
Помню: однажды она для охарактеризования его личности, попросила заиграть на фортепиано краковяка, и под музыку скороговоркою высказала:
Łajdak, szelma, huncwot, łgarz,
Pijak, szuler, łotr i kpiarz,
O jakiejś niby opiece kundel łże,
I ostatnią on nam skórę z karku drze!
(Обманщик, шельма, пройдоха, лгун, пропойца, шулер, воришка, шут; о какой-то мнимой опеке, как собака, врет, и последнюю кожу дерет нам со спины!)
Это переделка из куплета из неизданного одноличного водевиля «Рассказы отца» польского юмориста Артура Бартельса[295]295
Бартельс Артур (1813–1885), польский сатирик, карикатурист и писатель. Часто исполнял собственные песни.
[Закрыть].
Несколько человек с тех пор перестали посещать нас. Бог с ними! Раскаялись после.
VIII
12 октября 1862 года и в Петербурге, и в Москве произошли студенческие смуты. Московская получила особенное характерное название Битвы под Дрезденом, от гостиницы «Дрезден», находящейся против генерал-губернаторского дома, где совершилось событие. Об нем писано много, и большею частью вкривь и вкось. Я не видел его собственными глазами, а несомненно знаю о нем вот что:
1). 10-го октября на сходке студентов в университетском саду, поляк Болеслав Колышко (казненный в Вильне 28 мая 1863 г.) вскочил было на скамейку с целью произнести какую-то речь, но был бесцеремонно оттянут за фалды и сброшен с нее членами польского кружка. Проф. Ешевский в своем официальном отчете о ходе этого события справедливо и беспристрастно говорил, что поляки, без сомнения, принимали в нем большое участие, но вели себя так воздержно и осторожно, что никого из них нельзя обвинить в выдающейся деятельности. Нужно было бы пояснить это мнение следующими словами: польский кружок студентов действовал в этом случае не как польский, а как кружок студентов.
2). 1 окт. – день моих именин. Узнавши о происшедшей битве, я не ожидал к себе вечером ни одного студента. Как вдруг с 9 часов начали вдруг являться то поодиночке, то вдвоем-втроем, так что собралось их человек до 30. Ни стаканов к чаю, ни рюмок для вина у меня не хватило.
– Какими судьбами вы свободны? – спросил я первого из неожиданно явившихся.
– Очень просто, – ответил он. – Призвали в комиссию, в которой депутатом от университета был инспектор Шестаков. Он спросил меня, зачем я шел. Я ответил, что шел потому, что все шли, и мне не оставалось ничего более как тоже идти. Меня и отпустили.
То же повторили и прочие.
На тост за мое здоровье я отвечал, между прочим, что «меня радует еще и то, что сегодня вы все отделались так благополучно. Сердечно желаю вам, оставаясь такими же, как теперь, быть впредь еще осторожнее, еще воздержаннее, и приобрести на будущее время более того, что называется тактом.»
Второй тост молодежь провозгласила за здоровье моей жены, подняла ее на руках, качала и заявила, что с этого дня она получает почетный титул мама московская.
– Еще тостик можно? – спросили меня.
– С удовольствием, – ответил я.
– Здоровье инспектора Шестакова! Он один сумел поставить вопрос и умно, и гуманно!
– Ура Шестакову! – раздалось единогласно.
В это же время сотня студентов, отпущенных из комиссии, отправилась в театр, забралась в раек, и в конце представления напроказничала там.
– Что вам за охота выкидывать какие-то скандалики? – спросил я на другой день встретившихся мне шалунов.
– Да помилуйте, как же не выкинуть? Пусть все знают, что мы на свободе!
– Молодость! – подумал я.
3). На другой день, т. е. 13 окт., полковник Куликовский, владелец дома рядом с генерал-губернаторским, впрям против гостиницы «Дрезден», рассказывал мне, что вчера он всем семейством по случаю студенческой суматохи остался без обеда и принужден был удовлетвориться чаем, хлебом, сыром и колбасою, потому что повар его, как только начались на улице крик и шум, выскочил за ворота. Его схватили полицейские служители, потащили за собою и передали казакам. А те прежде отняли у него два поварские ножа (большой и меньшие), бывшие у пояса, сорвали с него белый колпак и передник, и погнали во двор тверского частного дома, откуда выпустили только часов в 9, но без ножей, колпака и передника. Ножи свои он видел на столе в комиссии, как вещественные улики, вместе с какой-то шваброй и изломанной оглоблей. Это, без сомнения, те кинжалы и палки, которые, по уверению московских газет, были подняты на месте побоища.
IX
Прежде пророками называли людей, предсказывающих будущее по наитию свыше. Так ли? В предсказаниях их не было ли умственной работы со всевозможными комбинациями синтеза и анализа? Астроном, физик, химик и в последнее время и физиолог делают теперь вернейшие предсказания, совсем не по наитию. Проницательная же наблюдательность характера людей и меткая сообразительность их взаимодействий создают пророков и на других поприщах знания. Одним из таких пророков был любимый и уважаемый всеми проф. Грановский.
Не пророчеством ли был его «восточный вопрос с русской точки зрения», не пророчески ли были его слова, сказанные друзьям на одном вечере у него, по уходе Михаила Никифоровича.
– Будьте осторожны, не доверяйте слишком Каткову. Он нас больно когда-нибудь ужалит.
Никто почти, к несчастью, не поверил этому.
Ярый последователь Шеллинга, и вдобавок, страстный обожатель его дочери, строго серьезный и логически последовательный мыслитель, скромный до застенчивости и мягкий до уступчивости джентльмен, интимный друг Бакунина (и в эмиграции, и в ссылке), ловко проводивший, под псевдонимом Байбороды, при всей страшной строгости и придирчивости тогдашней цензуры, такие идеи, которые и теперь могут показаться слишком либеральными, светло и основательно подготовленный гуманист, поражавший не раз всех на дружеских беседах у Грановского, своими спекулятивно-философскими взглядами, Михаил Никифорович, хоть не вдруг, а исподоволь, но все-таки очень скоро неузнаваемо изменился, и бросивши все, что было в нем светлого и привлекательного, выступил с проповедью средневековой темы и насилья. И пошел же писать!
Народ создан для правительства, а не правительство для народа. Наука только для науки, а жизнь не имеет ничего с нею общего. Для достижения полной свободы совести необходим институт священников-жандармов (не инквизиторов ли?), а для энергичного правосудия – пытки. Высшим судьею в деле образования – Бисмарк, а образцом государственной мудрости – Наполеон III. Для основательного изучения классической мудрости требуется от бедных мальчуганов до 40 часов в сутки умственной и самой усидчивой работы, а реально образование пригодно только почтальонам.
Всех абсурдов не перечтешь, но увы, эти абсурды пошли в ход!
С падением крепостного права пало и назначение дворянства. Катков понял, что теперь влиятельная сила переместилась в сословие московских купцов, возведенных покойником Николаем Павловичем в представители народа, и что этой неумелой силе нужно только дать психический стимул, чтобы руководя всею накопившеюся энергиею, сделаться представителем, вожаком и оракулом могущественной партии. Он взял интересы этой партии в свои руки и достиг предположенной им цели. Очень немногие (Schedo-Ferroti)[296]296
Псевдоним публициста барона Ф.И. Фиркса (1812–1872).
[Закрыть] поняли тогда же этот маневр профессора московского университета: Леонтьев[297]297
Леонтьев Павел Михайлович (1822–1874) – классический филолог, преподаватель Московского университета, близкий соратник Каткова.
[Закрыть], его alter ego, его inseparable[298]298
Неизменный двойник (франц.).
[Закрыть], глубоко ученый, но слабый и телом, и характером; Юркевич[299]299
Юркевич Памфил Данилович (1826/7–1874) – профессор Московского университета, представитель русской религиозной философии.
[Закрыть], видевший всегда и с одной, и с другой стороны, одно и то же, под разными только названиями; Любимов[300]300
Любимов Николая Алексеевич (1830–1897) – русский физик и журналист. Один из основателей Московского математического общества.
[Закрыть], прозванный собачкою Каткова, восхищавшийся в своей вступительной лекции физики, светлым, трезвым и здравым взглядом на природу, и поздравлявший студентов с избавлением их от вредных влияний гибельного позитивизма, – эти люди, самые приближенные к Михаилу Никифоровичу, едва ли догадывались, что они были не более как пешки в руках ловкого игрока, заручившегося их слепым повиновением и дерзко называвшем себя собирательным «мы»: «мы желаем», «мы требуем!». Впрочем, имея в своем распоряжении материальную силу купечества и умственную стольких послушных интеллигентов, кто не звал бы себя «мы», подразумевая – ваш повелитель.
И московское купечество поднесло своему повелителю великолепную чернильницу и еще великолепнейшее перо, «да макает им в ум», а при содействии преданных ему профессоров, подняло и университет совершить перенесение на Страстной бульвар мощей ректора Баршева, не подававшего во всю свою жизнь ни одного признака жизни.
Оно подхватило на пути и добродушного Оле-Буля[301]301
Булль Уле (норв.) Ole Borneman Bull, 1810–1880), норвежский скрипач и композитор.
[Закрыть], который, не понимая, что с ним творится, кричал только: «Скрипку, скрипку мне!». Скрипки ему не дали, а жаль, потому что любопытно было бы услышать, что за оратория вылилась бы у этого бесспорно талантливого маэстро.
Время реформ, следовавших быстро одна за другою, не могло пройти без больших или малых, но все-таки чувствительных колебаний и сотрясений. И вот обширное поприще выдвинуться вперед, ставя оппозицию этим реформам, хотя бы ex absurdo[302]302
Доходя до абсурда (лат.).
[Закрыть]. Так и было. Катков шел этим путем, оппонировал и оппонировал ex absurdo, зажмуря глаза, и впрямь противоположно всем высказанным им прежде идеям. Его спросили, не бывал ли он знаком с Байбородою.
– Байборода – это я; но я человек прогресса, а вы все закоснели и отстали.
Столкуйтесь после этого ответа. Да и толковать-то опасно. Инсинуация и донос – эти два ядовитые зуба кого не заставят отступить? И одни бежали подальше, другие сжались и съежились от страха.
Но самым любимым коньком Михаила Никифоровича была польская интрига, подхваченная из Смоленска. И к чему она не прилагалась, и где она не нашлась? Сошел поезд с рельсов, загорелся фосфор, поставляемый на спичечную фабрику, вспыхнул Щукин двор в Петербурге, случился где-либо пожар – все это польская интрига, и за все это еще вдобавок угроза чем-то вроде сицилийской вечерни. А угроза нешуточная, ведь потом пущена была «легкая рука» мясников охотного ряда на ненавистных крамольников-студентов.
На польской интриге поехал Катков уже не один. К нему пристегнулись псевдославянофилы Погодин и Аксаков (Русская правда и польская кривда[303]303
Антипольская брошюра, написанная Павлом Ивановичем Мельниковым-Печерским в 1863 году. В основном адресована украинским крестьянам.
[Закрыть], День[304]304
Газета, издаваемая Иваном Аксаковым в 1861–1865 гг.
[Закрыть] и пр.), и помчалась тройка удалая! А куда она несла?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.