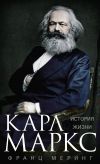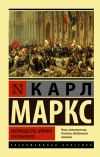Текст книги "Записки старика"

Автор книги: Максимилиан Маркс
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
Первые две партии прошли благополучнее. Только по отъезду второй заметили, что потолочные балки и князек у стропил обгорели и обуглились. Одна половина казармы не отапливалась совсем, и была превращена в склад зимних запасов, а в другой, отапливаемой, не было отдельной комнаты с особым ходом, следовательно, содержать нас в секрете и в разобщении с прочими арестантами не было никакой возможности.
Вообще эти этапные барины – все до одного – прекурьезные экземпляры. Трудно сказать, откуда их набирают. К одному, например, во время обыска у нас, подходит солдат и рапортует: «Ночлежники, ваше благородие!»
– А много?
– С полдюжины соберется, ваше благородие.
– Пусти, пусти поскорее в баню или при кухне, как знаешь. Пусти, а то, прах их возьми, сожгут!
Это явились бродяги, ушедшие из заводов и требующие приют на ночь.
Другой пустится читать наставления:
– Ну, что вам вздумалось, что вздурилось, от святости перебесились! Вот помню: так пусть поганый нехристь салтан даст мне хорошее жалование да доходное местечко, буду служить ему верою и правдою до последней капли крови и до последнего издыхания. Живот свой положу за него.
Третий разыгрывает роль либерала с университетским даже образованием. Он слушал лекции Сеченова[320]320
Сеченов Иван Михайлович (1829–1905) – русский физиолог, с 1861 года читал лекции в Медико-хирургической академии в Петербурге.
[Закрыть] в медицинской академии, и так был восхищен ими, что, не пропуская ни одной, ездил аккуратно со своей квартиры на Арбатской площади. Четвертый был в дружественной переписке с Достоевским, и прочее в таком же роде.
Один из таких либералов пригласил нас к себе откушать чаю, и за самоваром на диване заседала его Маша, Паша или Саша (не упомню), разливавшая чай и угощавшая нас папиросами. Она похвастала, что очень любит изящную литературу и жаловалась на недостаток книг. У нее нашлись: сборник романсов, песен и шансонетов, изданный московскими фабрикантами книжного товара, довольно новенький и, вообразите, страшно зачитанный и истрепанный роман Чернышевского «Что делать?».
Так мы проехали Тобольскую губернию. В Томской все изменилось. Здесь нас уже не запирали особняком, не обыскивали, и курить дозволялось сколько угодно. Здесь мы могли видеться, сойтись и даже сблизиться со своими спутниками. И как разнообразны, как не похожи один на другого эти спутники. Едва ли где могут сходиться такие противуположности.
Place aux dames[321]321
Место – дамам (франц.).
[Закрыть] – говорят французы, и я начну с дам. Их было три. Одна, ссылаемая в каторжные работы, с ребенком, родившемся в тюрьме, и две молоканки[322]322
Молокане – религиозная группа, отколовшаяся от Православной церкви в XVI веке. Причиной раскола стал протест против отказа от молока и молочных продуктов во время Великого поста. В конце XIX века в России было около 0,5 млн. молокан.
[Закрыть], мать с дочерью.
Первая, молодая и недурная лицом, была какою-то озлобленною ведьмою. Со всеми она ссорилась и заедалась, везде на этапах жаловалась и бессовестно взводила на других придуманные ею обвинения. Все чуждались ее и избегали всякого с нею сношения. За нее получил батогами, совершенно невинно, один молодой парень, не хотевший услужить ей в чемто, и пожилой уже поселянин, избранный партией в старосты. Только ребенка своего, девочку, она любила и берегла. Она была в услужении у какого-то сельского священника, и ее соблазнил сын этого священника, семинарист, приехавший на каникулы. Отец, узнавши про их связь, задал сынку на прощание порядочную порку, а ее подверг церковной епитимии. В отместку она подожгла ночью дом священника, и сожгла все село дотла.
– Да и допекла же я всем им, фу, как допекла! – говаривала она с видимым самовосхвалением.
Семейство молокан состояло из старика отца со старухою женою и двоих детей: сына 18-ти и дочери 14 или 15-летней. Это были тихие, смирные, молчаливые и, пожалуй, более угрюмые, недели обходительные люди, не насмешливые, не злословящие, мягкие и чистосердечные. Держались они всегда как-то в стороне, поодаль, не спрошенные не вступали ни с кем в разговоры, а спрошенные отвечали коротко и всегда ласково, даже когда другие нахально приставали к ним с целью вывести их из терпения. «Пусть себе и так, мы не оспариваем» – часто было их ответом на упреки, делаемые их обычаям и верованиям. Когда в разнокалиберной толпе поднимались споры, брань, и ругательства сыпались градом, старик обращался к детям: «Не слушайте вы этих сквернословий, они более оскверняют извергающего их, нежели того, к кому направлены». И дочь нежно взглядывала в лицо матери, а та отвечала ей, обнимая руками ее голову и целуя ее в лоб. Молодой парень только сосредотачивался и посматривал на отца и мать с сестрою каким-то ровным, спокойным и стойким взглядом. И сын, и дочь были походи лицом на мать, белокуры, красивы и здорово сложены. Оба они предупредительно прислуживали родителям, и получали от них за каждую прислугу «спасибо». Когда поджигательнице в дороге ребенок ушибся и заболел, то, трудно себе представить, с каким соболезнованием и попечительностью ухаживали за ним обе молоканки. Я всегда старался ближе поместиться к ним, и часто любовался их взаимными семейными отношениями. Они заметили это, и были со мною едва ли не ласковее, чем с прочими. Их переселяли на Амур. Коллега мой, Малинин, бывший семинарист, сын священника, отличившегося в борьбе с раскольниками, вздумал вступить в богословское прение с ними. Будучи слаб в этой отрасли человеческого знания, я не могу упомнить всего их спора, но конец его очень мне памятен. Послышалась площадная брань в соседней комнате, и старик, покачивая головою, сказал:
– Слышите? А ведь слово – зерно, и вот оно сеется, а что же может вырасти из него?
Малинин замолчал.
Был в нашей партии и полковой писарь, родом сибиряк, которому мы очень не нравились. Ему неловко было развернуться со своею образованностью и всеведением, и это его, по-видимому, сильно мучало. «Грубый народ, темный-с, никакого просвещения не приобрел» – говаривал он, обращаясь к нам и указывая глазами на предметы своего презрения, которых ему не удалось надуть каким-нибудь образом. У него были и карты, которые он держал за голенищами сапог, и бумажки с иголками, и грошевые зеркальца, и мыльца разные, и румяна для красоток, и даже неизвестно на что ртуть, закупоренная в гусиные перья. Он все покупал и все продавал и, зная свою родину, не давал промаха в коммерческих спекуляциях.
Под стать ему был другой, уже не молодой, здоровенно-геркулесовски сложенный экземпляр, не сибиряк, но знающий Сибирь едва ли не лучше всех сибиряков, вместе взятых, потому что он уже 8-й раз шел по направлению на восток по большому тракту. Торговки съестными припасами на всех почти этапах его узнавали. Только одна звала его Иваном, другая Прохором. Теперь он шел под именем Скрыпочки, про настоящее же его имя, верно, и сам он позабыл. Он постоянно собирал вокруг себя толпу зевак и повес, занимал ее самыми вздорными и несбыточными рассказами, и пользовался у одного хлебом, у другого молоком, у третьего – куском мясца, и был постоянно сыт и весел. Мотков находил в нем много народного юмора, и заслушивался его росказней.
Но почище всех был кантонист, крещеный жиденок. Трудно встретить где-нибудь такую бессовестно-нахальную натуру. В нем, кажется, собралось и слилось воедино все, что может только назваться пороком и развратом. Он с наслаждением и восторженною гордостью хвастался своими воровствами, обманами, доносами и наглостями, считая все это не более как шалостью и удалью молодости. Например, он бежал в Бобруйске из крепости и явился к своему дяде еврею. Тот, не зная, что с ним делать, спрятал его в чулане, и пошел посоветоваться с родным и с раввином. Те сказали, чтобы он немедленно заявил в полицию о своем племянничке беглеце. Вечером еврей, в сопровождении полицейских, возвращается домой, но племянничка уже нет и вся его семья в переполохе. Хозяйка тетка послала свою дочь в чулан с кушаньем заключенному, но тот не удовольствовался этим и накинулся на свою кузину с прямою целью изнасиловать ее. На крик бедной сбежались все, бывшие дома, а любезный племянничек бросился из чулана на двор, кого оттолкнул, кого с ног сбил, выскочил на улицу, пользуясь сумерками, сорвал шапку с первого проходящего, и был таков. Через неделю его поймали где-то, верст за 30, и он на допросе оговорил своего дядю в подговоре к бегству и в обещании доставить ему средства пробраться за границу.
– И подержали же его, пархатого жида, более двух месяцев в тюрьме, и пообобрали начисто, как липку, а то он выдал бы меня, мерзавец. Жаль только, что мне не удалось с Сарой. Аппетитная была девчонка! Она думала, что я ласкаюсь к ней так, по-родственному, и поцеловала меня, я хвать валить ее, она испугалась, да голосиста же бестия, как закричала: «Ай вай мир!» – так и не пофартило. Ну, что ж делать, не всякому финту – фарт, бывает и промах. От него я узнал два новые слова тюремного жаргона: финт – уловка, обман и фарт – счастье, судьба (не от fatum ли).
Производный от первого глагол финтить был, впрочем, и прежде мне известен.
Человек более 10 было в нашей партии поляков. Одни из них были захвачены во время конскрипции[323]323
Рекрутский набор (франц.).
[Закрыть], произведенной в Варшаве 3 января 1863 г., доставлены по ж/д в Петербург, и там стойко отказавшиеся присягнуть на верность службы. Три года их перевозили из одного города в другой, из одной тюрьмы в другую, и наконец, осудили в каторжные работы. Другие, большею частью из Литвы, Волыни и Подолья, были взяты в сшибках с оружием в руке. Это были ремесленники, рабочие и крестьяне. Между ними был один несчастный жмудин[324]324
Жмудин – литовец.
[Закрыть], не знавший ни слова по-русски и, со свойственною всем жмудином замкнутостью, не выучившийся тоже ни одного слова в продолжении трех лет тюремной сидки и этапной перегринации[325]325
От латинского peregre – странствование, путешествие, пребывание за границею.
[Закрыть]. Он сидел где-нибудь в уголку, подалее от всех, и то шептал по-литовски молитвы, держа в руках четки, то мурлыкал под нос: «Бува жмо-гусь баготась» (песню о богаче и Лазаре).
Замечательнейший из всех их был Шостак. Прямодушие, откровенность и неподдельный юмор, выработанный незамысловатою обстановкою крестьянского быта, так и струились при каждом его слове. Целый день на ногах, он приседал только во время еды.
– Нужно двигаться, двигаться. Не сидите вы, до сту дьяблов, как наседки на яйцах, а то прокисните и плесенью покроетесь, и мне, далипан (ей богу), будет вас жалко. Ведь как подрастет, то могут выйти из вас порядочные хлопы (мужики).
И в подтверждение своей мысли он пускался в пляс, притопывая и напевая:
– Slavus saltuns[327]327
Славянин пляшущий (лат.).
[Закрыть]! – подумал я.
Песни часто, особенно под вечер, раздавались в польских кружках. Там кого-нибудь на мазурочный темп затянет:
– Nie ten wielki, co zaczyna,
Większy, co sprawę zakończy,
A więc zdrowie Milutina[328]328
Милютин Николай Алексеевич (1818–1872) – статс-секретарь Царства Польского, один из авторов крестьянской реформы в Царстве Польском. Возможно, автор имел в виду и Дмитрия Милютина.
[Закрыть],
I niech żyje nam Berg[329]329
Берг Федор Федорович (1794–1874) – русский генерал, ответственный за подавление Январского восстания.
[Закрыть] rączy!
Mieszały nam w naszej sprawie
Ostrobrama, Częstochowa…
Lepsze stokroć prawosławie.
A więc zdrowie Murawiowa!
Murawiow już stracił zdrowie,
Pracując dla dobra stanów.
A więc wiwat Kaufmanowi[330]330
Кауфман Константин Петрович (1818–1882) – генерал-губернатор Вильны в 1865–1866 годах. Войска под его командованием захватили Бухару и Хивы.
[Закрыть],
Wykonawcy jego planów!
(Не тот велик, кто начинает, больше тот, кто кончает дело. Ну, так здоровье Милютина и да здравствует нам юркий Берг! Помехою были в нашем деле Остробрама и Ченстохова. Лучше во стократ православие. Ну, так здоровье Муравьева! Муравьев уже потерял здоровье, трудясь для блага сословий. Так ура же Кауфману, исполнителю его предначертаний).
Далее не упомню. Говорилось еще что-то о Черкасском и других личностях.
Другой разразился краковяком:
Idziem na ostatki
Hulać do Kamczatki.
Prześliczna to strona,
Śniegiem wybielona.
Domy jak piwnice,
By pniaki – dziewice.
Oj. Że dana-dana,
Syberia kochana!
(Идем под конец гулять в Камчатку. Премилая это сторона – снегом набелилась. Дома как подвалы, девушки как колоды. Ай, люли-люли, любезная Сибирь!) Или полькою – с припевом:
A kibitka jak febra, jak febra, jak febra,
Łamie koście i żebra, i żebra nam!
(а кибитка, как лихорадка, ломит кости и ребра нам!)
То веселый напев подменяется заунывным и плачевным:
Żegnam was, mili rodzice,
Żegnam was, hoże dziewice,
Bądź zdrowa, rodzinna chata,
Żegnam cię, ziemio garbata,
Tyś bagnetem zaorana,
Kulami wzdłuż, wszerz zasiana,
Ciałem braci utuczniona,
Krwią jch hojnie oroszona.
Żegnam was!
(Прощайте, любезные родители, прощайте, красные девицы, прощай родная хата, прощай ты, земля горбатая[331]331
Ziemia garbata – северное предгорье Карпат. Не отсюда ли montes carpatici римских географов? – прим. М. Маркса.
[Закрыть]! ты вспахана штыком, пулями засеяна вдоль и поперек, удобрена телом братий, и богато орошена их кровью. Прощайте!)
Все то вопли безнадежного отчаяния[332]332
Поэт Аснык имел полное право сказать: Pójdź do nas! Dalej do koła! Z nami zabawisz się pięknie! I będzisz śpiewać i tańczyć, aż nim ci serce nie pęknie! (Поди к нам! Скорее в хоровод! С нами повеселишься прекрасно! И будешь петь и плясать, пока сердце у тебя не лопнет!) – прим. М. Маркса.
[Закрыть].
Мне вспомнилась диссертация Шевырева[333]333
Шевырев Степан Петрович (1806–1864) – историк литературы, журналист, сторонник славянофильских взглядов и теории официальной народности.
[Закрыть], защищаемая им pro venia legendi[334]334
C правом чтения лекций (лат.).
[Закрыть] в Московском университете, в которой он доказывал, как дважды два четыре, что все славянские народы певучи, за исключением поляков, которые под гнетом многовековой тирании онемели. Вспомнил я тоже, как старший Киреевский, прочитавши ее, сложил молитвенно руки, вздохнул и сказал: «Прости ему, Господи, не весть бо, что брешет!»
Один только из поляков не принимал никакого участия в этих песнях, да и в разговорах даже. Это был униятский базилианский священник Мороз, из Холмской епархии, упорно сопротивлявшийся и решительно отказавшийся от перехода в православие. Он или молча сидел на нарах, куря табак из длиннейшего чубука, или, скрестивши руки за спиною, ходил по комнате, не разговаривая ни с кем и сосредоточенно задумавшись. Разбитая жизнь, видно, была ему очень и очень тягостна.
25 ноября все три наши партии съехались в Томск. Рассказам и сообщениям не было конца, и в два дня нашего пребывания, кажется, не переговорили и половины того, что хотелось.
Этапные барины по Томской губернии не отличаются ничем от тобольских. Правда, они у нас уже не искали кинжалов, табак не конфисковали, и в особые комнаты не запирали, но также не отапливали все казармы и оплачивали арестантов, как сельдей в бочку. На одном этапе, когда все стали громко роптать, что в этой тесноте негде ни стать, ни сесть, не только что лечь, явился разъяренный барин, и заявил, что у него здесь помещалась целая сотенная партия, в большей комнате 50 человек, а в меньше 30. «Неужели?» – спросил, улыбаясь, Федосеев.
– Как ты смеешь смеяться надо мною? Сейчас обдую тебя батогами, и потом покажу артикул, по коему я имею на то право!
Оспаривать такие аргументы, кажется, невозможно, и пришлось провести ночь, сидя на своих мешках и, или опершись спиною об стену, или положивши голову на колени соседа. Только под нарами, на полу, можно было улечься, и то, принявши положение нерожденного еще плода в утробе матери. Мне удалось попасть туда и, кажется, я не остался в накладе. Пофартило!
Замечательны однако две характеристики томских этапов.
1) Когда партия являлась, то и отапливаемая половина казармы была холодна. Арестанты должны были сами наносить дров, истопить печь, запастись водою, внести на ночь вонючую парашку, и утром вынести ее, разумеется, под конвоем.
2) Кормовые деньги очень часто удерживаются господами офицерами, с объявлением, что будут выданы на следующем этапе, а это фактически всегда означало «попрощайтесь с ними». Многим беднякам пришлось бы оставаться на самой строгой диете, ежели бы взаимный артельный кредит не облегчал, хотя отчасти. Последствий такого грабежа.
В кратчайший день в году, 10 декабря, мы прибыли в Ачинск, окружной город Енисейской губернии, назначенный мне в тобольском приказе о ссыльных. Здесь, между прочими арестантами, застали мы одного какого-то помещика Подольской губернии с женою, только что родившею ребенка. Не знаю, какова была бедная женщина, решившаяся, будучи беременной, следовать за мужем, но сам г-н помещик был какой-то недоваренный ли переваренный субъект. Через день после нас прибыла еще партия, а с ней какой-то зажиточный еврей из Царства Польского (к величайшему сожалению, фамилии его не могу припомнить). Его довольно объемистый чемодан до половины был занят книгами. Гоголь, Лермонтов, Мицкевич, Пол, Сырокомля и Шиллер были взяты им в ссылку, быть может, безвозвратную, вместе с ветхозаветным молитвенником на польском языке. К базилиану Морозу он оказывал особенное предпочтение, поил его чаем, предлагал ему лучшие сигары, и обращался постоянно к нему словами: «reverendissime pater»[335]335
Почтеннейший отец (лат.).
[Закрыть]. Он внимательно наблюдал жиденка-кантониста, и презрительно выразился об нем: «Ренегат не может быть лучше. Я хотел бы когда-нибудь спросить христианство, что оно приобретает, стараясь увеличить число своих таких последователей?»
В Ачинске мы пробыли 6 дней. Они прошли быстро. Книг было вдоволь, и было чем отвести душу.
19 декабря мы вчетвером с Малининым, Маевским и Федосеевым прибыли в Красноярск и попали из огня в полымя. Замысловато распорядился принять нас, мирных поселян, г-н Замятнин[336]336
Замятнин Павел Николаевич (1805–1879) – генерал-майор, первый енисейский военный губернатор (1861–1868). Брат министра юстиции (1862–1867) Дмитрия Николаевича Замятнина.
[Закрыть], бывший тогда енисейским губернатором по непотической связи с братцем, министром юстиции и нашим прокурором.
Нас отделили от прочих арестантов и заключили не в комнате, а в прачечной, находящейся в подвале. Приставили к нам 4-х жандармов с револьверами. Один из них должен был стоять на часах у входа с обнаженною саблею, а трое сидеть в заключении с нами. Нам не дали ни воды, ни огня, как будто проклятым папскою буллою. Четверо нас должны были разместиться на нарах так, чтобы между нами могли улечься, не раздеваясь, жандармы. Должно быть, г-н губернатор боялся, что мы станем загрызать друг друга, и чрез то кого-нибудь из нас может не досчитаться.
Но заключенным с нами жандармам было не лучше нас, и потому сейчас же явились и вода, и самовар, и свечи, и съестное вроде белого хлеба, сыру, колбасы и пр. мы подкрепились на силах и легли спать на нарах, и жандармы при наших свечах и покуривая наш табачок, всю ночь резались в три листа.
Утром на другой день опять доискивались у нас кинжалов. Пошло все по-тобольски, курить только разрешалось.
В Красноярске нас продержали по 1 января 1867 г. в это время к нам прибыли на несколько дней сперва Мотков, шедший из Томска пешком и в кандалах, а потом Ермолов со страшнейшими цинготными ранами на ногах. Его однако же не оставили в красноярской больнице, не лечили и после дневки отправили в Нижнеудинск.
Посетил нас, тоже несколько знакомый, генерал Кукел[337]337
Кукель Болеслав (1829–1869) – поляк, генерал-майор Армии Российской Империи. В 1863 году стал военным губернатором Забайкальской области и наказным атаманом Забайкальского казачьего войска. В 1865 году – начальник Штаба войск Восточной Сибири. В июне 1866 года подавил забайкальское восстание, начатое ссыльными участниками Январского восстания, за что был награжден орденом Св. Станислава I степени.
[Закрыть]. Вошел, посмотрел на нас как на диких зверей, не сказал ни слова, повернулся и ушел. Чего и зачем приходил он – на то едва ли сам он сумеет ответить. Мое же мнение: себя показать.
1 января в сопровождении двух жандармов вывезли нас на двух подводах из Красноярска, и 5-го утром мы подъехали к полицейскому правлению, по случаю сочельника не было ни исправника, ни его помощника. Секретарь расписался в получении нас, жандармы ушли, а секретарь выходил из присутствия.
– Куда же деваться нам? – спросили мы.
– На все четыре стороны, – ответил он, надевая шубу.
Мы вышли: еще на лестнице встретил нас какой-то молодой человек, прилично одетый, и сказал нам, что для нас в соседственном доме у г-на Бобровича приготовлена комната и он проводит нас к нему. Мы пошли, таща с собою свои пожитки.
Бобрович был из ссыльных поляков. Дела его как отличного столяра шли хорошо, и он уступил нам одну комнату на время, пока нас не увезут далее. Теперь объяснилось, что мы назначены в Енисейский округ, но один округ этот со своим Туруханским отделом больше Франции и Германии, двух сильнейших европейских государств, вместе взятых. Туго и грозно разъяснялась мучительная неизвестность. Нас направляли к северу.
На другой день меня посетили несколько человек из московской молодежи. Разговоров и расспросов о прошедшем было много, а о будущем и говорить не хотелось. Утешительного ничего сообщить не могли ни они мне, ни я им.
7-го утром нас усадили опять на двух подводах и, в сопровождении какого-то крестьянина с медной бляхою на груди, отправили вверх по Енисею в деревню Рыбную для передачи участковому заседателю.
Заседателя в Рыбной мы не застали. Он уехал в Кежму собирать ясак[338]338
Натуральный налог, который платили царской власти подчиненные народы Сибири. Фактически «объясаченные» обозначает подчиненные.
[Закрыть] с тунгусов. Нас здесь предостерегли, чтобы мы запаслись на дорогу хлебом, потому что в следующих деревнях, лежащих уже по Ангаре, можем не найти ничего съестного. Поехали мы далее от одной деревни к другой. Возчики сдавали нас в следующей деревне другим возчикам вместе с пакетом, на котором была грозная надпись: «под строжайшим караулом». Везли нас по большей части женщины, и то одна на обе подводы. Дивный караул на 4-х мужчин.
Пошли деревни: Потоскуй, Погорюй и Покакуй, в которых в самом деле не было ни куска хлеба. Самовара тоже не оказалось нигде. Кипятили мы воду в чугунных горшках, засыпали туда чаю, и обходились им, дополняя закупленным хлебом.
В одной из этих деревень нашли мы цыганку. Это была одна из тех, которых генерал Вистицкий, выживший из ума старик, записал крепостными в свое смоленское имение, и потом всех годных в военную службу мужчин отдал в солдаты в зачет, а женщин и всех негодных сослал в Сибирь на поселение. Это было при Николае Павловиче. Прекрасное тогда было времечко для генералов.
Ехали мы далее вверх по Ангаре таким же порядком, и с таким же конвоем, везшим с собою пакет, содержащий в секрете нашу неприглядную будущность.
Поздно вечером впереди шли шагом сани, на коих сидел 14-летний мальчик, наш возчик и конвойный и лежали Маевский и Малинин. За ним другие со мною и Федосеевым. Мы лошадью не правили, сама она шла за первою и не отставала от нее. На реке лежал густой туман, называемый копотью, и состоящий из мельчайших медяных игол, оседающих чрезвычайно медленно на землю. Вдруг с первых саней раздался крик и послышался громкий говор. Оказалось, что мы наехали на полынью, т. е. незамерзшую часть реки. Мальчик громко плакал, его уговаривали. Федосеев выскочил из саней и побежал вперед. Бились во все стороны, отыскивая, куда ехать и едва-едва чрез полчаса нашли прочный объезд. Я все это время пролежал в санях неподвижно. При моей близорукости в тумане, когда и днем в трех шагах трудно различить что-нибудь, что я мог сделать? Апатия отчаяния говорила мне, что разбитою жизнью незачем дорожить, не на что сберегать, и что потеря ее менее побеспокоит людей, нежели потеря медной солдатской пуговицы. Вспомнил только про дорогую жену, про любимую дочь, и мысленно простился с ними навсегда, навсегда.
Добрались, наконец, до Пинчуги. Здесь в волостном правлении распечатали пакет, и дело выяснилось окончательно. В Пинчугскую волость назначены Малинин – в село Богучаны, и Федосеев – в Чадобец. Мы же с Маевским должны ехать еще далее, в Кежму. Маевский в селе Кашино-Шиверское (с одной стороны Ангары Дворец, с другой – монастырь, хотя там и нет никакого монастыря), а я далее всех – в самую Кежму.
В Кежму мы приехали 24 января, т. е. двигались со скоростью по 31 версте в сутки. На другой день Маевский уехал обратно, к месту своего назначения, и в Кежме остался только я. Отыскав у одного крестьянина горницу, т. е. комнату без полатей, я договорился за полтора рубля в месяц с отоплением и самоваром.
В Кежме помещается волостное правление, с тех пор, как прежнее богучанское комиссарство разделено на две волости: Пинчугскую и Кежемскую. На берегу величественной Ангары, называемой Подкаменною Тунгускою, возвышается в ней каменная, довольно обширная церковь, со слюдяными окнами и сланцевым полом. Все лучшие постройки толпятся вокруг церкви, и все улицы расходятся от нее. Далее помещаются лачужки, едва достойные названия избы. Такова была Кежма в 1867 году. Теперь, говорят, она обстроилась и украсилась даже двухэтажными деревянными домами, со стеклянными окнами вместо слюдяных, брюшинных и даже бумажных, пропитанных рыбьим жиром. Почта отходит и приходит из Енисейска два раза в месяц. Только во время вскрытия Ангары и ее ледостава она задерживается, потому что кроме реки нет другого сообщения с городом, лежащим в расстоянии 730 версты.
На вопрос мой, могу ли высылать письма, писец ответил, что могу, но только незапечатанные, чтобы могли прочесть их сперва он, потом заседатель и, наконец, исправник. Я воспользовался этим разрешением, и к 1 февраля приготовил письмо, разумеется, написанное по-русски, чтобы не затруднять моих цензоров.
Мне случалось в России иметь как официальные, так и частные сношения с сельскими священниками, и я составил себе очень невыгодное об них суждение. Как же удивился я, когда в кежемском священнике Григории Софроновиче Олофинском[339]339
Григорий Олофинский (ок. 1840 – ок. 1915), в 1864–1869 гг. священник в Спасской церкви в селе Кежма Енисейского округа Енисейской губернии. Было это его первое место службы. Позднее был переведен на юг Енисейской губернии – в Минусинский округ.
[Закрыть] встретил резкое отрицание этому суждению. Он воспитанник томской семинарии с очень достаточным запасом образованности, вежливый в обращении, скромный и правдивый в словах, многосторонне начитанный, был без малейших задатков суеверия и фанатизма. Принял он меня очень радушно, и мы сошлись с ним запросто, как давно знакомые товарищи и друзья. Это для меня, при тогдашнем моем настроении духа, было счастливейшею находкою. В Кежме я был опять один, а несноснее одиночества, опаснее его и убийственнее ничего быть не могло. Меня пугал возврат галлюцинаций. Не таковы однако же были священники соседних приходов Паншинского (вверх по реке) и Кашино-Шиверского (ниже). Первый при мне рассказывал, как он встретился в тайге с лишаком[340]340
Лешак-леший, человекообразное сказочное существо, живущее в лесу. Дух леса, его хозяин.
[Закрыть], играл с ним в карты и поразил его трефовым хлюстом, а приставшую к нему соблазнительницу-русалку расплавил крестным знамением.
Первым по приезде в Кежму старанием моим было избавиться от насекомых, сделавших нападение на меня сейчас же по выезде из Тобольска, и размножавшихся со дня на день. У хозяина моего не было бани, но в близком соседстве была небольшая. Я обратился с просьбою истопить ее для меня. На другой день мне дали знать, что она готова, и я отправился. Предбанника не было, и я стал раздеваться в бане, скинул тулуп и начал снимать сапоги. Как вдруг в баню вбегают две девушки и начинают поспешно раздеваться. Я, сидя неподвижно, с удивлением смотрел на них. Одна успела раздеться уже совсем, вскочила на полог и закричала: «Манефочка, поддавай!» Манефочка плеснула ковшом на камни и, скидывая рубашку, обратилась ко мне: «Что ж сидишь? Раздевайся, вот мы тебя попарим!» Я едва опомнился, поскорее надел снятый сапог, схватил тулуп и шапку, выскочил из бани, и оделся уже на морозе. Мне слышен был хохот в бане, и одна девушка приотворила несколько дверь, высунула голову и спросила: «Чего ты?» Я чуть не опрометью убежал домой. Чрез несколько дней я рассказал это событие священнику. Он улыбнулся и сказал мне:
– Вы в Азии, и в глубокой патриархальной Азии, и вам по европейским понятиям это кажется чемто несообразным, и даже безобразным. Но в чужой монастырь со своим уставом не ходят. В здешнем крестьянском быту без различия пола моются в бане все вместе, нисколько не стесняясь, и именно от этого нестеснения и дурных последствий никаких не бывает. Объясните им, что это соблазн и разврат, и вы введете их в соблазн и разврат. Австралийские дикари ходят без платья, точно как мы в бане, и это у них прилично и не производит никакого соблазна. Да и европейские модные дамы, стыдливо прикрывающие шалью или хоть платочком, шею и грудь в домашнем наряде при виде одного чужого мужчины, идут на бал, где сотни мужских глаз смотрят на их обнаженные шею и груди, которых кежемские девы никогда не прячут. Сравнительно – вам случилось побывать на местном балу decolte. Вы оказались неловким кавалером, и пораженные вашей неловкостью дамы смеялись над вами. Они хотели сами помыться и вам услужить. Привыкайте, привыкайте, исподоволь к патриархальным здешним нравам, несхожим только с вашими прежними привычками. Но этого нельзя же ставить им в укор и в осуждение. Горю же вашему легко пособить. Приходите ко мне в баню завтра. Я не пошлю к вам дев, а трапезник мой поможет вам помыться и, когда угодно, отстегать вас веником на славу.
По Кежме разнеслось, что я богач, потому что у меня рубашки кисейные, даже лучше писарских. В одно утро хозяйка моя, подавая самовар, объявила мне, что она сегодня будет мыть белье, и потому может, вместе со своим, вымыть и мои кисейные рубашечки. Я обрадовался предложению и отдал ей 4 перемены. Чрез дня два смущенная хозяйка моя с беспокойством спрашивает меня:
– Что это с твоими рубашечками?
– А что?
– Да они совсем разлезаются.
– Как разлезаются?
– Да так разлезаются. Погляди.
Я пошел смотреть, и вижу: в самом деле все мое белье именно «разлезается». Стоит взяться только за него, как кусок и остается в руках. Она, вместе со своим толстым бельем, положила и мое в едкий щелочь, приготовленный из жженой губы, т. е. из сухих и твердых грибов, растущих преимущественно на березах и осинах. Таким образом я остался при двух только переменах, и должен был запастись таким бельем, для которого щелочь не страшен. Мыло здесь составляет туалетную только специальность, и девушки часто не только от матери, но иногда и от бабушки получают кусок его, как свадебный подарок. В банях веник, политый щелоком, отлично соскребывает и смывает всю грязь, накопившуюся на теле, а жар у потолка бани уничтожает всех насекомых, и потомством и зародышами их в белье, там повешенном. Да, нужно привыкать к здешним патриархальным нравам – повторил я, когда моя голову, неосторожно заплеснул себе несколько щелоку в глаза. И не с одним мылом пришлось расстаться. Крестьяне пьют чай (кирпичный) совсем без сахару, с хлебом и солью. Сахар, и то вприкусочку, подается только как десерт при угощении. За листовой табак тоже нужно было не раз приниматься, особенно во время остановки почты. О кофе и мечтать было неуместно.
Все тут в обрез, за исключением водки, которой выпивается страшное количество. Пьют ее мужчины, пьют и женщины, пьют старики, пьют и молодые, и пьют всегда не для подкрепления сил, а до полного опьянения и бесчувственности. Порок этот развит здесь до nec plus ultra[341]341
До крайних пределов (лат.).
[Закрыть], не смотря на непомерную дороговизну и низкое достоинство производящей его влаги.
К чести здешнего народонаселения нужно однако же заметить, что воровство и адюльтер (разумеется, не без исключений) при столь сильно развитом пьянстве, являются сравнительно редкими последствиями его.
Зашел я зачем-то на хозяйскую половину избы, хозяйка стряпала у печи.
– Осипыч! Вот я испеку тебе шаньгу[342]342
Шаньга – хлебобулочное изделие из цельнозернового, ржаного или ржано-пшеничного теста. Блюдо финноугорского происхождения.
[Закрыть] с яблоками. Съешь?
Не понимая, что такое шаньга, но соблазнясь яблочками, я воскликнул: «С яблочками? Как не съесть?» она сейчас же мне подала какую-то теплую круглую лепешку, с приподнятыми и зазубренными краями. Я поблагодарил ее и ушел в свою горницу. Там стал рассматривать, что здесь зовется шаньгою. Это была ватрушка из темной пшеничной муки, с наложенною сверху какою-то мякотью. Должно быть, это тертые печеные яблоки – подумал я – вещь славная! Но, увы, попробовал – и что же? Картофель, не более как картофель, безвкусный, без масла, без соли. Эх, яблочки, яблочки, далеко где-то вы растете, и не только есть, но и видеть вас не суждено уж мне более.
Едва в июне получил я ответ на мое февральское письмо, и вскоре затем мне выданы были деньги из волостного правления, оставшиеся в петропавловской крепости, и пересланные через тобольский приказ о ссыльных. Высланные же в октябре ещё из Москвы 250 руб., которые я (как узнал из письма от своего семейства) должен был получить в Тобольске, завязли где-то. Они не исчезли, а достались кому-то, только не мне.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.