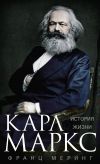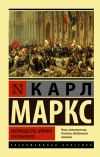Текст книги "Записки старика"

Автор книги: Максимилиан Маркс
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
Молодой ученый Поржезинский, приехавши из-за границы, предложил свои услуги Московскому университету. Отказано. Не подобает университету в Москве иметь в числе своих профессоров человека с такой фамилиею.
Художник Рамазанов[305]305
Скорее всего, Николай Александрович Рамазанов (1817–1867) – скульптор, писатель, историк искусства, профессор Императорской Академии художеств в Москве.
[Закрыть] бьет на даче окна и ломает мебель директору художественной школы Собоцинскому за то, что он поляк.
Полуидиот Кичеев[306]306
Кичеев Петр Иванович (1845–1902) – русский журналист и поэт.
[Закрыть] вступился за честь своей любезной сестрички, будто обиженной студентом Бугоном, и вместо Бугона, среди бела дня на Тверском бульваре, подкравшись сзади, выстрелом из пистолета, кладет на месте другого студента-поляка Коссаковского, совершенно ему незнакомого. В «Русских ведомостях» по этому случаю Кичеев оправдывается, потому что «пуля виновного нашла». Напрасно инспектор студентов Красовский (потом томский губернатор) доказывал невинность убитого. В общественном московском мнении поляк должен был быть убитым, а Кичеев сослан в Пинегу – невинно.
Карокозов, злодейски покусившийся на жизнь государя императора – поляк, и фамилия ему Ольшевский[307]307
Одним из арестованных и обвиняемых в нападении был Леонид Ольшевский. Освобожден через несколько дней за отсутствием каких-либо доказательств.
[Закрыть].
В театре играли «Жизнь за царя». Первое действие прошло, как следует, но поднимается занавес в начале второго действия и на сцене польский лагерь. Крик, шум, свист, стукотня «не надо, не надо!» – и занавес опустился.
Это в Москве, а что же дальше?
Сгорела Казань – виноваты поляки. Одного даже из них расстреляли. Это был старик-солдат, находившийся во время пожара где-то в довольно далекой от города командировке.
В Иркутске дается приказ при первом ударе в набат вязать в казармах всех нижних чинов польского происхождения.
Сгорел Енисейск, а через несколько дней и соседственный Каменский винокуренный завод – виноваты поляки. Их кого садят в тюрьму, кого высылают из города. Строжайшее следствие оправдывает их. Да что пользы? Следствие само по себе, а интрига сама по себе!
Это случаи мне хорошо известные. А сколько их могло быть и было?
Польская интрига имела и сверхъестественное обратное действие. Она писала органический статут Николая Павловича, а М.К. Сидоров[308]308
Сидоров Михаил Константинович (1823–1887) – купец, золотодобытчик, общественный деятель, зоолог-любитель, писатель, меценат, исследователь русского Севера.
[Закрыть] жалуется в своих сочинениях на нее как на причину потерь, понесенных им на Печоре. Его уполномоченный поляк Черносвитов был арестован по делу Петрошевского.
Жутко было жить в Москве полякам. И неудивительно, что когда в марте 1863 г. разнесся призыв «do lasu» (в лес), более сотни студентов и футуров бесследно улетучилось. Кружковая касса иссякла, а брошенная библиотека бессовестно расхищена.
Один из исчезнувших прислал мне из Петербурга письмо следующего содержания: «Сию минуту уезжаю из Петербурга. Знаю, что еду на верную гибель, и все-таки еду. Прощайте и не забывайте преданного вам. Супруге и дочери вашим передайте мои глубочайшие поклоны. На прощание маме целую ручку, а вас обнимаю. Прощайте и прощайте навсегда!»
Что это, как не крик отчаяния?
На этой крайне невеселой картине я прекращаю свои воспоминания о Москве. Прожил я в ней еще почти три года, так же невесело. Но как в продолжение всего этого времени, все, что помню, относится лишь лично ко мне, а я не имел никогда намерения писать незаслуженную мною автобиографию; то до свидания на дороге из Петербурга в Енисейск.
1888 г., 27 янв.М. Маркс
Из Петербурга в Кежму (1866–1867 гг.)
В начале 1866 года я подвергся страшной болезни. Чуть не с половины января почувствовалась глухая боль в левом боку, ниже ребер. Она усиливалась со дня на день, и делалась докучливее и несноснее. Лечь я мог только на левом же боку. При лежании навзничь и на правом боку, в левом чувствовалась какая-то ноющая пустота. Советы врачей и лекарства, прописанные ими, не помогали нисколько. Чрез месяц или полтора присоединилось еще сильнейшее биение сердца с неправильным, то учащенным, то замедленным темпом. Лежать и на левом боку не было никакой возможности. Амигдалин и дегиталин не производили ни облегчения, ни даже какого-нибудь действия. Последовала мучительнейшая бессонница, а морфий наводил только тягостную дремоту, но уснуть все-таки я не мог. Тоска, беспокойство и ощущение лихорадочного озноба, особенно ночью, были невыносимы. Я впал в отчаяние, и мысль о самоубийстве не выходила почти из головы. Однажды я приготовил уже в рюмке раствор синеродистого калия, и пошел как можно тише со свечою прежде в комнату дочери, а потом в спальню жены, чтобы взглянуть в последний раз на милых и дорогих мне личностей, и мысленно проститься с ними. Но едва возвратился я в кабинет и хотел взяться за рюмку, как появившаяся в дверях жена дрожащим от испуга голосом назвала меня по имени и спросила: «Что с тобою?». Я не мог ничего ответить, молчал, и стоял, упершись в стол руками. Она взяла в одну руку свечу, и другою повела меня в спальню, где мы просидели всю ночь. Слезы, мольбы и ласки ее подействовали на меня так, что я твердо решился как не страдать, а не прибегать уже к самоубийству, и утром незамеченную женою рюмку с ядом, стоящую на столе в кабинете, я выплеснул в таз и старательно сполоснул ее.
Решимость жить однако же не облегчила страданий жизни: напротив, они усилились как по ходу болезни, так и обстановкою житейских отношений. Поворот к мертвящему схоластицизму с чехами наставниками, убийственные известия от родных и знакомых, ярая и неистовая проповедь Торквемады[309]309
Торквемада Томас (1420–1498) – испанский инквизитор. С 1483 года до своей смерти был генеральным инквизитором. Является символом казней и кровавых приговоров, вынесенных на процессах Святой инквизиции.
[Закрыть]-Каткова и, наконец, злодейское покушение 4 апреля обезумевшего маньяка Каракозова – все это как порознь, так и совокупно массою налегало, жало и давило на раздраженную и уже расстроенную нервную мою систему и усиливало страдания, которые я хотел переносить с твердою решимостью. К физическим болям присоединилось еще давление в горле.
В этом-то состоянии, в ночь с 30 на 31 мая, я был арестован и заключен в камеру № 1 Сретенской части, и здесь, не далее как в третью бессонную ночь, со мною начались галлюцинации слуха. Невидимые голоса отзывались за дверью и за окном камеры, разговаривали, пели, кричали, обращались ко мне с вопросами, ругательствами и угрозами. Меня отправляли несколько раз в следственную комиссию, помещавшуюся в доме генерал-губернатора, и всегда по ночам, а утром – в Кремлевский дворец, в какое-то особенное его отделение. 17-го июня спровадили меня в больницу тюремного замка, где не дозволили лишь курить папиросы, но не лечили ничем, и, должно быть, поместили только на испытание. Как можно судить по грубым выходкам невежественного и крайне глупого смотрителя, обращавшегося ко мне с бессмысленным увещанием «не притворяться», тогда как я не говорил ни с кем ни слова, и ни об чем не просил его. Галлюцинации усиливались, и бессонница достигла полнейшего развития. Грызущая внутренняя тоска заглушала и боль в боку, и биение сердца. Появился новый симптом – сильнейший отек в ногах.
11 июля жандармский полковник Воейков отправил меня из больницы в Петербург. Я уехал, не простясь даже с семейством. Нашли, что это ни с чем не сообразно и противозаконно.
В петербургской Петропавловской крепости галлюцинации с настоящими фактами так перемешались в моем уме, что и теперь я не в состоянии отличить одних от других. Как сквозь сон припоминаются личности: и грозного графа Муравьева, и холодно-гордого коменданта Сорокина, и саркастического какого-то немца-доктора, навязывавшего мне delirium tremens[310]310
Белая горячка (лат.).
[Закрыть], и утверждавшего положительно, что я непременно предавался запою, хотя фактически раз только, и то для опыта, во время своей студенческой жизни я был пьян, и, прострадавши на другое утро головною болью, не решался никогда выпить сколько-ни-будь лишнего. Помнится мне и приходивший с доктором некто ухмыляющийся г-н Никифораки, настаивающий на том, что мне можно бы, не смотря на запрещение, курить табак, читать книги и писать письма, все-таки дать священное писание для развлечения и просвещения ума. Помню и симптоматичного, являвшегося ко мне как ангел-утешитель, плац-адъютанта, полковника Сабанеева, с которым однажды явился incognito и его высочество принц Петр Георгиевич Ольденбургский[311]311
Ольденбург Петр Григорьевич (1812–1881) – князь, генерал, общественный деятель. Внук Павла I.
[Закрыть], как я после узнал, в заседание Верховного уголовного суда, которого он был членом. Только эти два лица обращались со мною как с человеком, и по-человечески, с теплым участием, соболезнованием и возможными успокоением и утешением, чего от прочих, я, к несчастью, не испытал. Но хуже всех меня мучили проклятые голоса: и про что же они не расспрашивали, в чем не обвиняли меня? Была тут речь и о революционных прокламациях, и о фальшивых ассигнациях, и о пожарах в Петербурге и Москве, и о намерении взорвать Кремль на воздух, и о жене моей, постриженной в монахини, и о дочери, записанной в проститутки, и о бегстве Домбровского, и о сношениях с неизвестными мне какими-то Петрищею, Эвальдом, Гейштором, Гакинфом-Окаянным, и, наконец, о дружественной, чуть не любовной связи с какою-то Шимановской. Я крепился, сколько имел силы, молчал, не давал ответов на вопросы и не входил в разговоры с ними. Но иногда принужден был разразиться ругательствами, на какие только мог собраться. Но это нисколько не помогало. На ответ мой, что я никакой Шимановской не знаю и знать не хочу, сказано было, что познакомлюсь на виселице в одной петле с нею. Раз за дверью услышал я жену свою, звавшую меня подойти поближе для секретного разговора. Я подошел к двери – и что же? Жена упрашивает меня сказать ей поскорее, где у меня спрятаны секретные письма и бумаги, чтобы она успела поспешнее уничтожить их, пока они не попали в руки полиции. Ни писем, ни бумаг секретных у меня не было никаких, жена знала это очень хорошо, а вся библиотека моя, рукописи и коллекции были взяты в комиссию. Я ответил руганью, за которой посыпались на меня отовсюду угрозы с остервененною бранью, и не женским, тихим, мягким и ласковым шепотом, а мужским, густым, хриплым и злобным ревом. Без малейшего перерыва, ни днем, ни ночью, голоса эти не умолкали в камере, и прерывались только, и то не всегда, когда кто-либо посторонний посещал меня. В комиссии, когда я оставался один в комитете, они начинали настоятельно требовать от меня самого дикого и несообразного показания, и даже в заседании Верховного Суда раза два или три они громко подсказывали мне словесные ответы и я не всегда мог не повторить их! Вот почему я все данные мною показания и ответы, как письменные, так и словесные не могу теперь признать своими.
Следствие кончилось, и камеру ко мне явился назначенный мне судом присяжный поверенный г-н Серебряный, который через год после, в бытность свою в Москве, упрекал меня пред многими моими знакомыми в моей недоверчивости к нему. Но при моем болезненном настроении и под гнетом постоянного раздражения и постоянной ругани, не знаю, какой откровенности можно было не только требовать, но даже предполагать во мне к лицу, вдобавок, совершенно мне неизвестному. Все-таки защитительная речь его превосходила речи других защитников, из которых один (не помню, кто) не защищал, а напротив, обвинял своего клиента, и в заключении высказал, что назначенная прокурором подсудимому смертная казнь чрез повешение слишком слаба и должна быть усилена. Уж не хотел ли г-н защитник сперва помыть подсудимого в кипятке, и потом повесить на просушку.
23 сентября Верховный суд дал окончательное решение, и 4 октября оно было прочитано нам на эшафоте. Странное дело: в этот промежуток времени, в продолжение целой долгой ночи, голоса молчали и не беспокоили меня, и я в первый раз уснул в Петербурге. Но столь благодатная ночь была только одна.
В зале суда я встретил в числе подсудимых московских знакомых своих: Трусова, Маевского и Лаунгауза[312]312
Члены тайной польской организации в Москве.
[Закрыть]. Тут же были Шаганов, которого я видел 2 раза, с Ишутиным[313]313
Ишутин Николай Александрович (1840–1879) – русский революционер, выходец из почетных граждан, наделенных определенными привилегиями; с 1863 г. учился в Московском университете; в 1863–1866 лидер революционной организации (ишутинцы); арестован вскоре после неудачного покушения Д. Каракозова (сводного брата И.) на царя Александра II (16 апреля 1866 г.); приговорен к смертной казни, замененной перед казнью на пожизненную каторгу. До 1868 г. И. находился в тюрьме в Шлиссельбургской крепости, затем на каторге в Сибири.
[Закрыть] и Черкезовым, виденных до этого только по одному разу. Прочие все были для меня совершенно неизвестными личностями.
Вечером 3 октября в домашней церкви коменданта Петропавловской крепости после вечерни какой-то священник стал на амвоне и обратился к нам с проповедью, очень красноречивою и сильно прочувствованною самим оратором. Жаль только, что все слушатели хотели остановить его словами: «Да полно фразерствовать и ломаться! Оставь! Ведь это и скучно, и отвратительно!» Как бы в вознаграждение за тяжкую пытку слушать целый час дичь и ахинею, выступил другой почтенный старичок и с тёплою истинно христианскою любовью к человечеству пролил в души наши струю упоительного утешения. Не знаю, что удержало меня и как я не подхватил его в объятия, чтобы заявить ему свою признательность, благодарность и уважение.
С эшафота, 4 октября нас в числе 13 человек в запертом вагоне в сопровождении жандармского офицера и 25 жандармов отправили по Николаевской железной дороге, и здесь я, по примеру прочих, разрешил себе куренье табаку. Досталось же мне за это угроз, брани и ругани от моих голосов, которые днем молчали, зато ночью хотели, кажется, вознаградить свое дневное бездействие. Остановка поезда на станциях нисколько не мешала им, и только тогда, когда почти половина находящихся в вагоне уже просыпалась и начинала разговаривать, они замолкали и оставляли меня в покое до следующей ночи.
7-го октября поздно вечером мы дотащились до Москвы. Ишутин оставлен был в вагоне, нас же 12 человек отправили в каретах в серпуховскую часть, откуда на следующее утро мы были отвезены на нижегородскую станцию и в новом вагоне, уже с 2 офицерами и 24 жандармами, начали свое Drang nach Osten[314]314
Движение на восток (нем.).
[Закрыть]. Семейству моему в Москве не дозволили видеться со мною.
В Нижнем нас разделили на 2 партии, с одним офицером и 12 жандармами в каждой. Меня назначили во второю, отправленную сутками позже, командиром которой был г-н Соколов из Москвы. Из двух жандармов, приставленных ко мне, старшим был некто Кидинов, считавший в своем служебном усердии обязанностью командовать мною не только грубыми приказаниями, но даже и физическими пинками. Нельзя приписать другим жандармам той же доблести. Напротив, все они были вежливы и даже услужливы, и на одной почтовой станции едва-едва не побили моего ментора за его обращение со мною. Что же касается г-на Соколова, то это был один из многих пустейших юношей, окончившие какое-нибудь юнкеровское училище, и потому причисляющих себя к усовершенствованной расе, назначенной исключительно для командования прочим человечеством. Он с важностью, подобающею только государственному канцлеру, наблюдал за тем, чтобы все мы были в мундирной форме, т. е. в т. н. однорядке с бубновым тузом и буквами С.П.Б.Г. на спине, чтобы на подъехавшую первую телегу сперва сел № 1 с конвоирующими его жандармами, на вторую № 2 и т. д., чтобы при подъезде к станции, вышел и вошел в комнату № 1, затем № 2. Впрочем же всем предоставил распоряжаться своим подведомственным жандармам, считая для себя унизительным вмешиваться в какие бы то ни было мелочные житейские и неофициальные дрязги. Ежели бы кто из нас умер на дороге, то он, без сомнения, приказал бы жандармам вносить труп на станцию, и потом выносить его, укладывать в телегу надлежащего нумера, и везти так до Тобольска как места назначения. Ехал он за нами на седьмой тройке, и только, подъезжая под станцию, опережал всех, и первый выходил в комнату для присмотра за порядком выседания и вхождения. Настоящий римский paterfamilias qui postremus it cubitum et primus cubitu.
В каком-то городе, кажется, в Перми, мы подъехали ночью к станции и вошли в комнаты церемониально. Вдруг из дивана раздается хриплая ругань не замеченного прежде никем покоившегося на нем господина, требовавшего немедленного удаления таких как мы негодяев, так как нельзя не считать нашего сообщества кровною обидою для него, чиновника четвертого класса и кавалера севастопольской медали. Напрасно жандармы представляли ему свои резоны и советовали, не тратя времени, самому удалиться в другие апартаменты. Чиновник отстаивал не только свой дивна, но и целую комнату, ругаясь с последних слов, но превежливо величая жандармами обращениями «господа, милостивые государи, почтеннейшие кавалеры» и проч. Г-н Соколов не вмешивался в дело, хотя эта возня продолжалась довольно долго, пока, наконец, содержатель гостиницы не явился сам и не упречил ярого чиновника перейти в другую спальную и с отдельным входом комнату.
В Тобольск мы прибыли 22 октября, сейчас же вслед за первой партией.
Здесь поместили нас в отдельном корпусе и в отдельных нумерах, по двое в каждом. Произвели самый строгий обыск, отняли книги, бумаги, карандаши, спички и табак. Курить опять не позволялось. Обыски эти повторялись ежедневно при смене караульных, и вступающие в караул ощупывали нас, нет ли каких запрещенных плодов под бельем. Обед отпускался казенный, из двух блюд, чай же у нас был свой, самовар подавался в коридоре, и нас отпускали на чаепитие по 4 человека. Губернатор Деспот-Зенович[315]315
Деспот-Зенович Александр Иванович (1825/1829–1897) – ссыльный поляк, который, отбыв наказание, быстро начал продвигаться по русской служебной лестнице. В 1862–1867 годах был губернатором Тобольска.
[Закрыть] два раза навестил нас. Он не входил в камеры, а только из коридора чрез окошечко в двери спрашивал об здоровье и довольны ли мы содержанием. Все эти господа официальные посетители не могут понять, каким сарказмом в ушах заключенного звучат эти слова: «довольны ли вы?» Это что-то немыслимое. Я знал г-на Деспота-Зеновича, видел его несколько раз в Москве, и потом полагаю, что вопрос этот был им сделан спроста, и, что называется, не подумавши.
Со мною в одной камере очутился Мотков, несовершеннолетний юноша, ярый народник, болтливый говорун и энциклопедически верхушечный всезнайка. Он был сын вольноотпущенного дворового человека, и потому считал себя знатоком народности, любителем, вместителем, и чуть-чуть не заветною [скшиниею[316]316
Имеется в виду сундук (по-польски skrzynia).
[Закрыть]] народного быта. К несчастью, он не понимал, что вышел из самой безнравственной, самой отверженной части простого народа, и что простой народ в своем простом крестьянском быту, ненавидит всею душою и всеми способностями его дворового человека-лакея, сильнее даже, недели своего помещика, соседнего кулака, приезжего чиновника и, наконец, приходского попа. Хлестать народными поговорками, заливаться народною песнею, выплясывать народного трепака и одеваться в народный армяк – это настолько же выражает любовь народности, как и выпить касушку народной сивухи, или съесть хоть целый фунт народного шоколада фабрики Эйнель[317]317
Имеется в виду фабрика Товарищества Эйнемъ. В 1850 г. в Москву приезжает немецкий подданный Теодор Фердинанд фон Эйман. В 1851 г. он открывает на Арбате небольшую кондитерскую по производству шоколада и конфет. В будущем эта кондитерская разрастается до размеров фабрики, после 1917 г. известной как кондитерская фабрика «Красный Октябрь».
[Закрыть] и пр.
Как бы то ни было, а помещение в одной камере с Мотковым подействовало на меня очень благодетельно. Говорливость его развлекала меня. Мы то не соглашались один с другим и даже спорили, то сообщали свои впечатления, свои мысли, свои суждения. Он подчас развертывал предо мной свои планы и надежды, которых был у него большой запас; я одни одобрял, над другими смеялся как над несбыточными химерами. День проходил незаметно. В первую ночь, как только Мотков уснул, голоса мои заговорили по-прежнему. Во вторую меня с вечера стало клонить ко сну, и я уснул, кажется, прежде Моткова. Около полуночи я проснулся от какого-то страшного сновидения, полежал несколько, успокоился, голосов не было, и я уснул вторично. К утру опять сновидение, опять я проснулся, опять тишина, и я опять уснул. Меня разбудил Мотков, вставший уже и звавший меня в коридор к самовару. Галлюцинации мои миновались, боль в боку, давление в горле, биение сердца и отек в ногах – эти физические симптомы болезни, на которые я, терзаемый галлюцинациями, не обращал давно внимания, прошли, должно быть, еще сами собою, безо всяких лекарств. Чувствовалась только сильная слабость, утомленность и разбитость всех членов. Место бессонницы заступила сонливость, но сон быстро восстановил как физические, так и душевные силы. Вообще я стал чувствовать себя здоровее и бодрее.
На другой день, по прибытии нашем, нас повели в приказ о ссыльных. Вошли мы в какие-то грязные, провонявшие махоркой и сивухой, закоптелые комнаты, заставленные посередине столами с кипами бумаг, а по стенам белыми шкафами плотничьей работы. За столами сидели испитые, измятые, исштопанные, грязные, неумытые и невыспанные рожи в потертых, полинялых и заплатанных даже сюртуках и фраках со светлыми пуговицами. Это Канцелярия Приказа. Один немолодой уже, должно быть, столоначальник[318]318
Должностное лицо, возглавлявшее т. н. стол низшую структурную часть центральных и местных государственных учреждений.
[Закрыть], сделал нам перекличку:
– Худяков! – Гм, не сын ли бывшего чиновника здешнего приказа?
– Точно так, – было ответом.
Спрашивающий сперва остолбенел, смутился и промычал что-то, потом как бы встрепенувшись, начал излагать свое удивление и сожаление таким отличным манером, что только Гоголь мог бы своим пером воспроизвести этот трагикомический монолог. В душе бедняка произошла страшная борьба проснувшегося человека с заскорузлым чиновником.
По одиночке вызывали нас присутствие, несколько почище, поопрятнее и поблаговиднее прибранное.
– Ваш чин коллежский асессор, – спросил меня, должно быть, советник, смотря в бумагу, которую он держал в руках.
– Я лишен прав и чинов, – ответил я.
Он пристально уставил в меня свои глаза, кивнул головою, ткнул указательным пальцем отвесно в стол, как будто хотел прошибить его, откинулся на спинку кресла и сказал решительным тоном:
– Ну, так в Енисейскую губернию.
Аудиенция моя кончилась. Я узнал, что мне придется торчать где-то на протяжении где-то от Саянских гор до Ледовитого океана на каком-нибудь притоке Енисея, а может быть, и на самом Енисее. Дистанция огромного размера – больше всякого европейского государства! Мне вспомнилось из географии:
Северовосточный мыс – крайняя северная оконечность Азии и всего большого материка.
Красноярск – губернский город при большом сибирском тракте.
Енисейск славился прежде железными заводами. В округе его богатые золотые россыпи.
Минусинск – житница Сибири.
Туруханск – заштатный город вблизи полярного круга, торгует рыбою, мехами и мамонтовою костью.
Но вместе с тем вспомнилось и то, что изотермы там сильно погнулись к югу, а изохимены направились чуть-чуть не по меридианам. Будет, что будет, а думай, сколько хочешь – ничего не придумаешь.
Нам выдали казенное белье, обувь и холстяные мешки для укладки имущества.
– Что здесь за люди? – спросил я Моткова в камере.
– Зияты, батюшка, зияты! – ответил он, подражая писклявому голосу старой бабы.
Чрез 3 или 4 дня к нам прибыли еще 4 человека из подсудимых, назначенных в ссылку на житье в Томской губернии без лишения прав. Их разместили вместе с нами, так что в некоторых камерах было по три человека. Я с Мотковым остались по-прежнему вдвоем.
С первых чисел ноября нас стали отправлять по 4 человека. Мотков попал во 2-ю партию, мне пришлось отправляться с 3-й 10-го числа.
Нас везли далее уже на санях. По всей Тобольской губернии порядок поезда был следующий. Наши сани с конвойным ехали впереди. Далее тянулась вереница саней (до 10 и более) с т. н. гражданскими. На половине этапного расстояния производился получасовой привал.
Тут можно было выйти из саней и прогуляться вдоль по дороге, не сходя с нее, подойти к следующим позади нас саням, разговориться с сидящими в них, одним словом, можно было иметь какие-нибудь приятные или неприятные сношения с людьми и обменяться с ними хотя парою слов. В версте или полуторе от этапа опять остановка. Наши сани летели вперед во всю лошадиную прыть, прочие же подъезжали самым тихим шагом. Нас поспешно запирали в отдельную комнату и тогда только выпускали в ограду этапа весь прочий поезд. У ворот ограды уже толпились продавцы разного: съестного хлеба, калачей, лепешек, вареной и жареной рыбы, говядины, яиц, молока, творогу, а иногда даже и готовых пельменей. Мы, запертые отдельно, не могли иметь непосредственного сношения с ними, а чрез конвойных солдат за все платили несравненно дороже. Гражданские в этом отношении пользовались большею свободою. Они могли выходить за ограду и там торговаться, а при накоплении продающих, большею частью женщин, являлось соревнование, очень выгодное для покупателей.
Все этапы состоят из обширного двора, обведённого плотною стеною из заостренных вверху свай, с деревянными же одноэтажными постройками различного назначения. Почти всегда посреди двора стоит арестантская казарма, состоящая из 4-х обширных комнат. У ограды размещены квартира офицера, солдатские казармы, кухня, сарай и баня. Летом здесь арестантам должно быть довольно привольно, особенно днем, пока двери арестантской казармы не заперты. Но зимой иногда бывает такая толкотня и давка, что люди местятся чуть не один на другом, как сельди в бочке. В комнатах есть нары кругом стен, на которых можно бы довольно спокойно расположиться по крайней мере дюжине человек. Но когда в эту же комнату втолкнут человек 30 и даже более, то не только на нарах, но и под ними, кто послабее и потише, не найдет себе места. Сильные и бойкие, разумеется, криком, бранью и пинками сумеют отстоять себя. Надобно еще прибавить, что в 9 часов вечера, когда казарма запирается на ночь, в комнату вносится вонючий ушат, называемый парашкою, для известной необходимости. И вот, иным горемыкам, слабо приспособленным к борьбе за существование, приходится поместиться ко сну на полу, свернувшись калачиком, у самой парашки. И отчего же это? Господин офицер, в виду не сбережения казенного имущества, и собственных доходов, отпускает дрова на отопление одной только или двух комнат, и то в случае прибытия партии. А тут наступил ледостав, почта и движение арестантов, за невозможностью переправ чрез реки, остановились, партии накопились вдруг многочисленные, и этапные барины (как их зовут здесь) становятся иногда в тупик.
Вот что случилось с нами 17 ноября в Таре. Тройка наша подъехала к этапу, мы высели, взяли свои мешки и вошли в ограду. Конвойный отправился к его благородию барину. Нескоро вышел он к нам, ворча: «Отдельная комната! И с караулом! Вот еще чего не бывало! Где мне поместить этих головорезов? Черт знает!».
– Да в баню, ваше благородие, куда же? Негде больше, – сказал вышедший вместе с ним солдат.
– Ну, и пойдем в баню что ли? – промычал барин, бывший навеселе и, по-видимому, согласующийся во всем с мнением сопровождавшего его солдата.
Мы пошли в низенькую, закоптелую, тесную и нетопленную баню. Пришло еще несколько солдат.
– Ну, развязывайте мешки да обыщите хорошенько. Кинжалов-то, кинжалов нет ли?
– Обыск можно и после, мы присмотрим. А нужно бы сейчас вытопить баню.
– А и точно, правда твоя, брат Илюха, правда. Ступай же и распорядись.
Илюха ушел и сейчас же возвратился.
– Агафья Семеновна зовет вас, ваше благородие, она здесь.
– Что там ей приспичило такое? – сказал барин и сейчас же вышел за дверь, оставя ее отпертою.
На дворе Агафья Семеновна, молодая и довольно красивая женщина, накинув на голову меховую кофточку и закутавшись ею, тоненьким голоском докладывала своему барину:
– Как затопить? Да труба вся развалилась. Хотите разве этап сжечь, и меня, и всех нас вместе с ним? Призовите-ка того альхитектура, авось не придумает ли он, что тут делать.
Илюха отправился за альхитектуром, Агафья Семеновна ушла восвояси. Барин пришел к нам в баню и ворчал только:
– Да запятнало бы вас! Наварначили[319]319
Варнаками в Сибири называли ссыльных, политических и криминальных преступников.
[Закрыть] там, в России, а теперь сюда варначить черт вас принес. Ишь, наделали кутерьмы.
Между тем партия саней в 8 подъехала в воротам. Вошедший солдат доложил об ней.
– Подождут. Чего им? – промычал барин.
Мороз доходил градусов до 20. Альхитектура не было и не было.
– Арестанты бунтуют, ваше благородие! – вскричал вбежавший солдат.
И в самом деле послышались за оградою отрывочные крики при общем гаме.
– Ахти, нелегкая! – вскричал бедняга, совсем растерявшись, выбежал из бани и громко скомандовал неизвестно кому: «Ружья заряжай!» Голос Агафьи Семеновны пищал дальше где-то. Со мнимым бунтом как-то поладили, крики угомонились. Альхитектура все не было. Сумерки переходили уже в ночную темень.
Наконец явился барин с солдатами и альхитектуром. Несчастный субъект в потертой суконной шинели, окоченевший почти от холоду, был так пьян, что при поддержке одного солдата не мог устойчиво держаться в отвесном направлении. Его посадили на скамью у стены.
– Ну, вот. Как тут быть? Надобно протопить печь. А труба растрескалась. А? что делать?
– Что делать? Затопить.
– А как крыша и потолок загорятся?
– Загорятся – ну, загорятся и сгорят. Ну, чего еще?
– Да ведь и баня сгорит.
– Ну, сгорит, так построить другую. Казна на постройку отпустит. Вам же лучше.
– Да здесь секретные арестанты, понимаете ли вы?
– А вам что секретные – жалко что ли?
– Ну, с тобою, брат, не сговоришься.
И в самом деле, с ним нельзя было сговориться. К счастью, Агафья Семеновна в той же кофточке, которую она, впрочем, сдвинула на плечи, впрыгнула к нам. Она осмотрела нас и с порядочно кокетливою развязностью поздоровалась с каждым из нас рукопожатием, и, надувши губки, обратилась к смотревшему на нее с раскрытым ртом барину:
– Вот что, печь можно будет протопить, нудно только поставить одного караульного здесь у печи, а другого на крыше у трубы. На дворе тихо и ветру нет. А то нельзя же держать господ на морозе. Вам-то хорошо, вы и чайком, и винцом-то согрелись, а они…
– Ай, да Агафья Семеновна! – промычал альхитектур. – Молодец, ей-богу! Молодец, бой-девка!
– Да она у меня воструха хоть куда! Ну, нельзя ее не любить, право, нельзя! Дай, я тебя поцелую!
– Подите вы, несуразник такой. Разве нет на то места и времени. Нашел, где! – и она выпрыгнула за дверь, накинув кофточку на голову.
Благодаря доброй Агафье Семеновне, дело наше приняло лучший оборот. Она с нами поздоровалась и назвала нас господами. Печь затопили и нам принесли даже самовар с чайным прибором. Солдаты успели захватить кое-какие остатки от распродажи съестного.
– Прикажете обыск сделать? – спросил Илюха.
– А делай, брат, делай. Кинжалов ищи, кинжалов. Да и табак-то, чтоб не проглядеть. Вишь, особое об них строгое губернаторское предписание. Гражданским можно, а им-то нельзя.
– Ну, пойдем, – сказал барин задремавшему альхитектуру, – Агаша уж, верно, чай приготовила. Эй, пошевеливайся, что ли?»
Мы остались с одним солдатом и по очереди грелись у печи. Печь, наконец, благополучно истопилась, трубу закрыли, самовар закипел, и мы отогрелись так, что поскидывали верхние платья. К нам вошел Илюха.
– У меня есть полкартуза табаку Мусатова.
– Мы заплатим за целый картуз. Уступи, брат, пожалуйста.
– Извольте. Отчего же не уступить.
Сделка сделана. Табаку было менее получетвертки, но мы про то не заикнулись.
– А бумаги нет – как же быть?
– Нешто у Агафьи Семеновны спросить? Она бабенка славная – даст.
– А кто она? Дочь что ли этапного?
– Какая дочь? Ну, сожительница. Она рассейская, поселка. Пришла года три тому, с отцом, да добрая такая, бабская. И умеет же держать его в руках. Ух, как умеет! Это вот недавно умерла у нее дочурка, так она присмирела, а то, бывало, не дает она ему спуску в чем. Держись только.
Агафья Семеновна в самом деле прислала нам целый лист белой папиросной бумаги, да еще собственноручно свернула по одной папироске каждому в розовой бумажке.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.