Текст книги "Признание в любви: русская традиция"
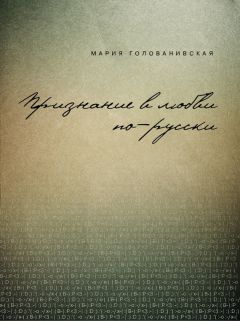
Автор книги: Мария Голованивская
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
Мы как носители культуры идентифицируемся через наше отношение к еде. Наша хлебосольность и стремление сразу накормить случайно зашедшего в любое время гостя – не только рудимент отношения к путнику в огромной холодной стране, но и остаток старого общинного ритуала: разделить хлеб, что Бог послал, – ни что иное, как подчеркивание родственности, предложение родственности, осуществляющее через совместную еду. Отсюда же наш протест против одиночного принятия пищи в семье («Ты что, даже не сядешь со мной?»). На рациональном уровне не понять, почему утоляющий голод хочет компании, но по сути понятно – без компании нарушается ритуал обозначения родства.
Уже в русских сказках мы видим особую роль еды – даже Баба-Яга должна вначале покормить да напоить героя, прежде, чем его расспрашивать. Еды же касается и второе испытание, которому царь подвергает своих невесток в сказке о Царевне-Лягушке: надобно испечь для него хлеб.
В классической русской литературе связь женщины и еды теряется, в первую очередь, потому, что в бытописании, как и в самом быту, начинает преобладать европейский канон. Царство еды мы обнаруживаем лишь у Н. В. Гоголя и Н. С. Лескова, но с любовной темой и в одном, ни в другом случае соотнести это невозможно. В любовных признаниях, которые служат пищей для этих наших рассуждений, конечно, «плюшками не балуются». Но сам наш быт, где женщина по-прежнему кормит и поит, укрепляет нас в мысли, что сакрализация женщины по-прежнему присутствует в нашей культуре. Да и понятие (выражение) Родина-мать существует только у славянского мира, напоминая о том, как многосложно мы мыслим женский образ. Эта многосложность женского образа, и связанного с ним умения околдовывать и очаровывать, возможно, отчасти объясняет, почему в России не было инквизиции. Не считали их ведьмами, не порицали магические практики, которые имели сакральные корни.
Как это нам ни покажется странным, еще со времен Древней Руси любовь как мотив для создания семейных уз почиталась и уважалась. В других культурах, близких и далеких, это было совсем не так. Сам по себе образ женщин Древней Руси неоднократно описывался, и сейчас уже ни для кого не секрет, сколь масштабны были личности древнерусских женщин и сколь существенную роль играли их особенные способности в жизни окружающих. Не исключено, что именно благодаря этому факту в нашей культуре столь высоко ценятся эмоциональность и иррациональность, воплощенные, как мы увидим дальше, в самом нашем понятии любви, безусловно, понятийно развитом женщиной.
Удивительным образом все описанное здесь напрямую отразилось в любовной риторике, которая в изобилии представлена в русской литературе, начиная с XIX века. Наблюдая за любовными признаниями и вычленяя из них смысловые стереотипы, мы увидим, как мужчины и женщины апеллируют именно к этим древним, уже очевидно не проявляющимся стереотипам.
Русская культура удивительно сохраняет древности. Несмотря на то, что наша культура любовного объяснения, произносимого текста, какие-то внешние атрибуты, как и сама форма романа, во многом были заимствованы из европейской, в частности французской, культуры, вся ритуальность, содержательная логика в ней остались русские. Да и героини в русской литературе, хоть в большинстве своем и говорят по-французски, представляют собой глубинно-русские типы. Было бы немыслимо представить себе в центре русского любовного объяснения европейский или азиатский ход разговора. Разве что в «Герое нашего времени» Лермонтова, где Бэла активно участвует в сцене объяснения своим красноречивым и принятым в ее культуре молчанием.
Все героини больших русских романов – подлинные наследницы Ярославны, Елены Премудрой и Василисы Прекрасной, если что и изменившие, то только внешность и немногие несущественные для любовного дела навыки и внешние атрибуты своей, совершенно не связанной с любовью, семьей и браком жизни.
Женская магия – явление универсальное. Другое дело – как эта магия практикуется и как относится к ней официальная принятая этика той или иной страны. Посмотрите, как называются известнейшие французские духи – «Черная магия» (Magie noire), «Яд» (Poison), «Опиум» (Opium), «Душевное смятение» (Turbulence) и так далее. Вся женская косметика может быть смело подведена под знаменитую фразу, которую в рекламе произносят звездные кинодивы: «Ведь я этого достойна». В глянце косметику давно приравняли к «красоте» и сделали просто рубрикой, которая так и называется. То есть красота стала индустрией, помогающей женщине «добиться своего». Миф превратился в маркетинг. Так часто бывает. Маркетинг, двигающий торговлю в мегаполисах, сплошь опирается на старые мифы, смешивая их и порождая новые. Один из них был блестяще подмечен французским социологом и философом Жаном Бодрийаром в книге «Общество потребления». У нас принято считать, пишет он, что потребление является решением всех проблем. Потреби – и все решится само собой. Глянцевая идеология стоит на этом же: сексуальность и успешность – это одно и тоже. Купи себе аксессуары чародейки – и тебе будет принадлежать весь мир. С этим не поспоришь, волшебникам и волшебницам принадлежит весь мир, поэтому они и волшебники. Но остальные могут легко казаться ими, приобретя себе внешность волшебницы. Камни, украшения, косметика, средства для ухода за волосами, одежда – всё помогает обрести «ритуальный раскрас». И это обязательно сработает, потому что выверено веками.
Миф о красоте, сначала античный, потом ренессансный, превратился в миф о beauty, зародившийся в шестидесятые годы прошлого столетия, когда было объявлено во весь голос, что женщина – человек с большой буквы и главное – отменный покупатель. Эмансипирующая волна внесла иные стандарты, и если первая волна эмансипации, шедшая от революций (во Франции – Великой Французской, в России – от революции 1917 года) просто уравняла социальные права женщины и мужчины (избирать и избираться, одинаково стоить для работодателя), то вторая эмансипирующая волна 1960-х годов (после французской революции 1968 года) открыла путь сексуальной свободе и окончательно узаконила иной женский этикет, суть которого в соблазнении, а не в аристократической скромности. В обиход через моду, которая стала массовой, вошли совершенно иные стереотипы, как раз выставляющие напоказ ритуально-шаманскую архаику – татуаж, пирсинг, очень яркий фантастический макияж, обнаженное тело – все то, что еще вчера в приличных семьях считалось бы неприличным.
Российские реалии, конечно, иные. Женщина, прошедшая через обращение «Товарищ!», вкушает плоды свободы самовыражения только последние двадцать с небольшим лет. Но общность здесь в том, что и тот, и другой этикет сегодня – это зона, предопределенная и традицией, и маркетингом, обожествившими то, что уже и так было сакральным – женские техники соблазнения.
До чего же маркетинг «красоты» точно идет за женской природой. Околдовывать, очаровывать, прельщать через женщину должны надетые на ней вещи: женщины инстинктивно тянутся к тому, что увеличивает их «силу», мужчины интуитивно следуют заложенному в них веками умению воспринимать все, что цитирует ритуал. И то, и другое увеличивает продажи вещей, в которых, как теперь широко известно, куда важнее их внешний вид, а не качество, ибо суть женской одежды, превратившейся в огромный сегмент современной индустрии, не в том, чтобы служить долго или быть комфортной в носке, а в том, чтобы обольщать. Это очевидный ответ на вопрос, почему сверхмодные вещи, сделанные из низкокачественных материалов, дорого стоят: они поддерживают ритуал, а не служат обыденным целям.
Действующие лица любовного объяснения: маменька, письмо, отъезд и др
Женщина колдует и очаровывает, утверждаем мы.
Герой очарован и начинает признаваться и объясняться в любви.
Или иногда – так уж у нас русских случается, околдованному герою начинает объясняться в любви героиня. Как это у них происходит? С чего все начинается? И в истории и в жизни?
С бедной Лизы Карамзина? С ах, ах, ах, меня обманули? С несколько бутафорских признаний, с фразы Эраста «Милая Лиза! Милая Лиза! Я люблю тебя»? А потом – суп с котом?
Коль скоро мы держимся литературы как квинтэссенции нашей культуры, то да. Но нет сомнения, что любовные речи произносились и раньше, и что элита на французский и английский манер изъяснялась весьма развито и цветисто. В те времена, похоже, только элита, а не все подряд, как теперь, вооруженные алгоритмами из школьного курса литературы. Пролился ли элитарный словесный поток в литературу на условных Лизу и Эраста? Конечно да, учитывая тот факт, что литература, до включения ее в школьную программу, была востребована в первую очередь элитой. Но мы не считали бы эту литературу великой, если бы она была эпигонской. Если бы в логике поведения героев не просматривалось извечное «Любовь – не волос, быстро не вырвешь», или «Сердцем не приманишь, так за уши не притянешь», или «Насильно мил не будешь», или «Чему не гореть, того не зажечь». Европейская физика смешалась в классическом объяснении с русской метафизикой, представив вполне жизнеспособный, живой портрет любовных речей.
Первый образчик русско-европейской любовной риторики, задавшей на долгие века (вплоть до 1917 года) стандарт любовного образа мысли, принадлежит перу Екатерины II. Вот несколько фрагментов из ее личной переписки с Григорием Потемкиным:
Екатерина II – Г. А. Потемкину
[После 21 февраля 1774]
Я, ласкаясь к тебе по сю пору много, тем ни на единую черту не предуспела ни в чем. Принуждать к ласке никого неможно, вынуждать непристойно, притворяться – подлых душ свойство. Изволь вести себя таким образом, чтоб я была тобою довольна. Ты знаешь мой нрав и мое сердце, ты ведаешь хорошие и дурные свойства, ты умен, тебе самому предоставляю избрать приличное по тому поведение. Напрасно мучи[шь]ся, напрасно терзае[шь]ся. Един здравый рассудок тебя выведет из безпокойного сего положения; без ни крайности здоровье свое надседаешь понапрасно.
Екатерина II – Г. А. Потемкину
[После 19 марта 1774]
Нет, Гришенька, статься не может, чтоб я переменилась к тебе.
Отдавай сам себе справедливость: после тебя можно ли кого любить. Я думаю, что тебе подобного нету и на всех плевать. Напрасно ветренная баба меня по себе судит. Как бы то ни было, но сердце мое постоянно. И еще более тебе скажу: я перемену всякую не люблю. Quand Vous me connaitres plus, Vous m'estimeres, car je Vous jure que je suis estimable. Je suis extremement veridique, j'aime la verite, je hais le changement, j'ai horriblement souffert pendant deux ans, je me suis brule les doigts, je ne reviendrai plus, je suis parfaitement bien: mon coeur, mon esprit et ma vanite sont egalement contents avec Vous, que pourrai-je souhaiter de mieux, je suis parfaitement contente; si Vous continuees a avoir l'esprit alarme sur des propos de commer, saves Vous ce que je ferai? Je m'enfermerai dans ma chambre et je ne verrai personne excepte Vous, je suis dans le besoin prendre des partie extremes et je Vous aime su-dela de moi meme{Когда вы лучше узнаете меня, вы будете уважать меня, ибо, клянусь вам, что я достойна уважения. Я чрезвычайно правдива, люблю правду, ненавижу перемены, я ужасно страдала в течение двух лет, обожгла себе пальцы, я к этому больше не вернусь. Сейчас мне вполне хорошо: мое сердце, мой ум и мое тщеславие одинаково довольны вами. Чего мне желать лучшего? Я вполне довольна. Если же вы будете продолжать тревожиться сплетнями кумушек, то знаете, что я сделаю? Я запрусь в своей комнате и не буду видеть никого, кроме вас. Если нужно, я смогу принять чрезвычайные меры и люблю вас больше самой себя (фр.).}
Посмотрите, что стоит «за кадром» любовного объяснения Екатерины II.
Она считает что:
1. Предмет любви – уникален.
2. Настоящая любовь и правда стоят в одном ряду.
3. Сомнения в любви доставляют муку.
4. На любви можно обжечься, она опасна, ведь пламя страсти сжигает дотла (метафора огня для обозначения любви и страсти, как мы видели, имеет глубокие корни и актуальна до сих пор).
5. Женщина требует уважения к себе со стороны объекта ее любви, и это уважение должно исходить из личности человека, а не его положения.
6. Предмет любви должен быть одобрен тремя «строгими судьями», живущими внутри человека (фрейдисты здесь провели бы параллель с «оно», «Я» и «супер-я»): сердцем, умом, то есть трезвой оценкой и тщеславием, то есть оценкой социума.
7. Любить по-настоящему – значит любить другого больше себя.
Многое из этого и по сей день является неотъемлемой частью любовного лексикона и представляет собой типичные суждения о любви. Хотя сам литературный контекст того времени, да и сочинения самой Екатерины II кажутся безнадежно устаревшими.
Первые узоры на ткани любовного объяснения положены Карамзиным, Пушкиным, Лермонтовым, Гончаровым, Чернышевским (только в негативном изображении), Тургеневым, Островским. В «Бедной Лизе», «Евгении Онегине» (не будем забывать, что автор обозначил жанр своего произведения как роман), «Пиковой даме», «Капитанской дочке», «Дубровском», «Демоне», «Маскараде», «Герое нашего времени», «Обыкновенной истории», «Обломове», «Обрыве», «Что делать?», «Отцах и детях», «Первой любви», «Рудине», «Дворянском Гнезде», «Накануне», «Асе», «Вешних водах», «Грозе» и «Бесприданнице». Вот «Ветхий завет» русского любовного признания. В общем, сами видите – махровая школьная программа, основа-основ наших представлений о любви, за вычетом кино, которое для этого зрителя производится в основном не про любовь, а про Гарри Поттера, конец света и Терминатора.
Этот период русской литературы, изучаемый молодым поколением на пороге полового созревания, изобилует объяснениями в любви. В этих книгах любовь обсуждают, о ней спорят, и, конечно же – герои объясняются друг с другом.
Этот начальный период простирается до Толстого и до совершеннолетия читателей. Именно перечисленные произведения обозначают исходную систему координат, полную всякой архаики, прямо или косвенно идущей след в след за русскими сказками и за индоевропейским фольклором. На первый взгляд это не очевидно, но на самом деле так и есть. Вот смотрите.
В русских сказках есть постоянные персонажи: Баба-Яга, Таинственный лес, Избушка на курьих ножках, Тридевять земель и Тридесятое царство, задачки для Ивана-Царевича и многое другое.
В русском любовном объяснении тоже есть постоянные участники действия: тень матери героини (или сама мать), отъезд, письмо, обсуждение книжных пристрастий, болезнь, браслет или прядь волос, вручаемые в конце разговора, испрашивание прощения и, на худой конец, предложение дружбы вместо любви. Все это явления разного порядка, но они непременно присутствуют. На этом этапе и как искреннее содержание и как канон.
В самом деле, героиня часто указывает на то, что вот-вот в комнату должна войти ее мать. Означает ли это, что мать всегда чувствует такие моменты и следит за дочерью, или этому есть другое объяснение? Или герой почему-то все время должен куда-то срочно уезжать и сообщает об этом своей избраннице. Современные мужчины так действуют до сих пор. Как что не заладилось – «уезжаю» («Уезжаю в Ленинград». «Как я рада!» «Как я рад!»). Все мы, наверное, отмечали, что разговор о литературе, искусстве, музыке, кино, любимых музыкантах и группах и сегодня свидетельствуют о проявлении интереса и желании заглянуть «внутрь» собеседника. Представьте себе, едете вы в поезде куда-то или летите самолетом. И завязался у вас разговор с вашим соседом или соседкой. И вдруг ваш визави спрашивает: «А что вы сейчас читаете?». Сомнений нет, разговор перешел в иную фазу: раз вас об этом спрашивают, вы вызываете интерес. В отличие от вопросов о недавнем ремонте или совершенных путешествиях.
Не изменило смысл и предложение дружбы вместо любви, нередко попросту обозначающее конец всяческих отношений. Фраза «давай останемся друзьями» способна всерьез расстроить влюбленного, не так ли?
Но что все это означает на самом деле?
Что на самом деле хочет сказать героиня объясняющемуся ей в любви герою, когда упоминает о своей матери (или бабушке), и как герой оперирует этой информацией? Посмотрим.
В «Бедной Лизе» Карамзина героиня указывает на то, что беспокойство матери – императив для девушки: «Наконец Лиза вспомнила, что мать ее может об ней беспокоиться. Надлежало расстаться».
Пушкин в «Евгении Онегине» устами Татьяны упоминает мать. Для Татьяны эти слезы стали аргументом для принятия важнейшего решения в жизни – выйти замуж не по любви:
«Меня с слезами заклинаний
Молила мать…»
Лермонтов в «Герое нашего времени» воспроизводит такую реплику героя, указывающую на высочайший авторитет матери в его глазах:
«Мой разговор с вашей матушкой принудил меня объясниться с вами так откровенно и так грубо; я надеюсь, что она в заблуждении: вам легко ее разуверить».
В «Дворянском гнезде» Лиза ссылается на мать, как на большой авторитет:
– Маменьке он нравится, – продолжала Лиза, – он добрый; я ничего против него не имею.
В «Первой любви» Тургенев убедительно показывает, что именно за матерью последнее слово в «любовном деле» детей:
– Дмитрий Николаич, – начала она, – нам время терять некогда. Я пришла на пять минут. Я должна сказать вам, что матушка всё знает. Г-н Пандалевский подсмотрел нас третьего дня и рассказал ей о нашем свидании. Он всегда был шпионом у матушки. Она вчера позвала меня к себе.
– Боже мой! – воскликнул Рудин, – это ужасно… Что же сказала ваша матушка?
– Она не сердилась на меня, не бранила меня, только попеняла мне за мое легкомыслие.
– Только?
– Да, и объявила мне, что она скорее согласится видеть меня мертвою, чем вашей женою.
– Неужели она это сказала?
Островский в «Женитьбе Белугина», как и в «Бесприданнице», показывает, что замужество дочери – напрямую маменькино дело:
Полина. Ну, смотрите же. Я вам по простоте скажу. (Тихо.) У нас в доме все обман, все, все, решительно все. Вы, пожалуйста, ничему не верьте, что вам говорят. За нами ничего нет. Маменька говорит, что нас любит, а совсем не любит, только хочет поскорее с рук сбыть. Женихам в глаза льстит, а за глаза ругает. Нас заставляет притворяться. («Женитьба Белугина»)
Лариса. Зачем вы постоянно попрекаете меня этим табором? Разве мне самой такая жизнь нравилась? Мне было приказано, так нужно было маменьке; значит, волей или неволей, я должна была вести такую жизнь. («Бесприданница»)
Причем в этом отрывке мы отчетливо видим, что именно маменька решает судьбу дочери, отдает распоряжение в форме приказания, и дочь волей-неволей должна ей подчиняться.
Вот еще один пример из «Бесприданницы», свидетельствующий о том, что мать в любовных вопросах – высший арбитр и высший свидетель:
Лариса. Нет, не все равно. Вы меня увезли от жениха, маменька видела, как мы уехали – она не будет беспокоиться, как бы поздно мы ни возвратились… Она покойна, она уверена в вас, она только будет ждать нас, ждать… чтоб благословить. Я должна или приехать с вами, или совсем не являться домой.
У Гончарова в «Обыкновенной истории» мы видим, что именно у матери просят отдать в жены ее дочь:
Я был виноват тогда. Теперь буду говорить иначе, даю вам слово: вы не услышите ни одного упрека. Не отказывайте мне, может быть, в последний раз. Объяснение необходимо: ведь вы мне позволили просить у маменьки вашей руки. После того случилось много такого… что… словом – мне надо повторить вопрос. Сядьте и продолжайте играть: маменька лучше не услышит; ведь это не в первый раз…
В маменькины же функции входит следить за моралью, и грозна не только она сама, но даже и ее нематериальный образ, что очевидно из одной из реплик, приведенных у Гончарова в том же произведении:
Неприлично! – скажут строгие маменьки, – одна в саду, без матери, целуется с молодым человеком!» Что делать! неприлично, но она отвечала на поцелуй.
… Вдруг Надинька встрепенулась, минута забвения прошла.
– Что это такое? вы забылись! – вдруг сказала она и бросилась от него на несколько шагов. – Я маменьке скажу!
Александр упал с облаков.
В этом же произведении есть свидетельства того, что ссылка на маменьку может означать уход от разговора, вызванный отсутствием чувства:
– Послушайте, – сказал он таким голосом, что маска вдруг слетела с притворщицы, – оставим маменьку в стороне: сделайтесь на минуту прежней Надинькой, когда вы немножко любили меня… и отвечайте прямо: мне это нужно знать, ей-богу, нужно.
Там же есть высказывание, из которого следует, что осведомленность маменьки об объяснении меняет его статус.
– Ваша маменька знает о том, что вы мне говорите теперь здесь? – спросила она, – а? знает? говорите, да или нет?
У Островского в «Талантах и поклонниках» маменька может иногда сотрудничать с дочерью, и ее брак может быть их общим делом:
Негина. Ну, что тебе знать! Все равно тебе. Так надо, Петя. Я долго думала, мы обе с маменькой думали… Ты хороший человек, очень хороший! Все, что ты говорил, правда, все это правда; а нельзя…
Негина. Ну, вот видишь ты; значит, я глупа, значит, ничего не понимаю… А мы с маменькой так рассудили… мы поплакали, да и рассудили…
Тургенев в «Вешних водах» описывает ситуацию, в которой маменька сговаривается не с дочерью, а с претендентом, то есть она непосредственно регулирует их отношения и даже то, как проходит само объяснение:
Вы знаете, какой совет я взял на себя преподать вам, вы знаете, чего желает ваша матушка и о чем она меня просила, – но чего вы не знаете и что я обязан вам теперь сказать, – это то, что я люблю вас, люблю со всею страстью сердца, полюбившего в первый раз!
<…>
– Ваша матушка, – заговорил Санин, как только стук тяжелых ног затих, – сказала мне, что ваш отказ произведет скандал (Джемма чуть-чуть нахмурилась); что я отчасти сам подал повод к неблаговидным толкам и что… следовательно… на мне – до некоторой степени – лежала обязанность уговорить вас не отказывать вашему жениху, господину Клюберу…
И далее везде, уже в советской литературе, фигура матери, изжитая новой советской идеей семьи и брака, воскресает и воскресает как рудимент, родимое пятно:
У Грековой, в «Хозяйке гостиницы»:
– Мама, это мой жених.
Анна Савишна несказанно удивилась: господи помилуй, жених – какой-то военный, да почти пожилой… Откуда? Александр Иванович поцеловал руку будущей теще (она все прятала ее под фартук), но вообще был скован, неразговорчив.
У Крона в «Бессоннице»:
– Нет, – сказала Ольга с неожиданной суровостью. – Нет, Олег Антонович, не позову. Было время, когда я очень хотела, чтоб вы зашли ко мне, познакомились с моей мамой. Мне это было необходимо, а вам ничем не грозило. А теперь я так занята, что у меня никто не бывает.
Кто же такая на самом деле эта маменька, неизменно являющаяся в любовное объяснение не только в русской, но и в европейской классической прозе?
Очевидно, что сам по себе образ матери – это архетип. Достаточно сказать, что в большинстве языков, даже относящихся к разным языковым группам, это понятие обозначается одним и тем же словом. Вот, смотрите: mom, mommy, mum, mummy, ma, mam, mammy, maa, amaa, mata – английский и родственные ему языки; māma (妈妈/媽媽) – по-китайски, máma – по-чешски; maman – на французском и персидском языках; maadar – по дари; մայր [mɑjɹ] – по-армянски; mamma – на итальянском и исландском; mãe – по-португальски; ema – на эстонском; má или mẹ – по-вьетнамски; mam – на валлийском; eomma (엄마, IPA: ʌmma) – по-корейски; matka – по-польски, словацки; madre – по-испански, по-итальянски; matrice – по албански; matr – на санскрите; (metér, μητήρ) mitéra, μητέρα или mána, μάνα – на греческом языке.
О чем это свидетельствует? О тех самых универсалиях, которые в каком-то количестве сохранились со времен единой, пангейской цивилизации. Мать – это синоним жизни, ее источник, главный инструмент выживания. Вокруг него, этого образа, творится великое столпотворение культуры – от «Медеи» Еврипида до «Матери» Горького.
Именно поэтому мать присутствует повсеместно в религиях, культах, мифах и как следствие этого – в искусстве.
А что же в русской прозе?
Представленные выше ипостаси «маменьки» показывают, что любовное объяснение расписывалось как бы на три, а не на два голоса.
Кто же такая мать? Кто? Она управляет будущим, зная, что правильно, а что нет, ей нельзя перечить, она незримый свидетель всего происходящего, ее нельзя ослушаться, сама ее осведомленность об объяснении делает его почти что свершенным делом.
Заглянем в глубины мифологии. Архитипически мать – это начало, и именно мать отвечает за «следующее начало», которое коренится в намечающемся союзе между претендентом и его избранницей. Мать здесь подобна президенту подлинно демократической республики, отвечающему за воспроизводство власти (как правило, эта его обязанность даже записана в Конституции), то есть за появление нового президента. Круг должен замыкаться, жизнь не должна останавливаться. Поэтому голого чувства здесь мало. Союз, который должен образоваться – многомерная реальность, и его создание должно учитывать многие обстоятельства. И дело здесь не только в материализованных координатах такого союза: сословные ограничения, история отношения родов, семей и другие социо-культурные факторы. Дело здесь также и в том, что сама русская семейная традиция отводит именно матери эту роль – выдать дочь замуж, и отводит именно потому, что за всей этой ситуацией выбора спутника стоит архаичная триада любовь – брак – судьба, где эту самую всезнающую, всевидящую и всерешающую судьбу воплощает именно мать. Почему? А потому, что именно она присутствует при рождении дочери и знает «что ей на роду написано». Откуда? От сестер Суджениц, которые приходят к колыбельке новорожденного и обо всем там договариваются.
Эта материализация судьбы в образе матери никак не препятствует осуществлению высшей, регулирующей судьбы встрече героев. Героя, претендента посылает сама судьба – так часто говорит его избранница, но эта судьба скорее восходит уже не к сестрам-Судженицам, а к другой славянской мифологической истории, в которой существо Суд или Усуд, управляющее судьбой, посылает людям Сречу или Несречу (встречу или невстречу). Эта встреча и есть та самая, единственная и наиважнейшая, определяющая их судьбу.
В античной мифологии, давшей образный ряд европейской культуре, мотива суда, связанного с судьбой, нет. Материнская функция реализована в персонаже другого рода – в Фортуне, римской богине плодородия, счастья, случая и удачи. Фортуна – это, конечно, тоже мать, само ее имя произошло от латинского глагола ferre, означавшего носить, вынашивать.
И не только Фортуна. Так, во всех религиях мира существуют богини матери: Деметра в древнегреческой мифологии, Парвати – индийская богиня-мать, Венера – в древнеримской мифологии, королева Мая – буддистская богиня, мать Будды, Исида – в древнеегипетской мифология, Лада, Макошь – в славянской.
Очевидно, что европейские героини (например, из романа Джейн Остин «Гордость и предубеждения») ссылаются во время любовного объяснения совсем не на Фортуну и Венеру, а на кого-то, кого в отличие от них, следует бояться. А именно на «матриархатную» мать, правительницу, казнящую и милующую. Маменька приходит в любовное объяснение прямехонько из эпохи матриархата, сохранив, пожалуй, только в этой ситуации, свою власть и влияние на судьбу.
Все сказанное помогает понять, в чем заключалась и на что опиралась особая материнская власть, на которую девушка ссылается во время любовного объяснения. Но куда она делась сегодня? Почему современные героини больше не пугают женихов матерью, которая вот-вот должна выйти на сцену?
С моей точки зрения, в нашей стране роль родителей в жизни следующего поколения была абсолютно разрушена советским строем и в особенности годами репрессий. В Европе эта роль была разрушена иным потрясением – сексуальной (студенческой) революцией 1968 года. Чем больше свободы у любви, тем меньше власти остается у матери. Советская идеология порушила множество архаичных культов, заменив их своими, не менее глубоко укоренившимися культами. Ребенка воспитывали ясли, детский сад, школа, армия, студенческие строительные отряды, а его родители, не отрываясь от производства, строили светлое будущее. Советские идеологи отрицали такое мракобесное, с их точки зрения, понятие как судьба. Нет судьбы, есть сила воли и стремление, преодолевая трудности, двигаться вперед. У всех советских людей – одна судьба, строить коммунизм, а значит не о чем говорить трем сестрам у колыбели младенца, и родившая его мать ни какой тайне не осведомлена.
Вторым, непременно встречающимся элементом любовного объяснения является отъезд. В чем же его функция? В том, что героев постоянно куда-то зовет труба? Отнюдь нет! Уехать – это немного умереть, говорят французы. Но почему? Потому что большое видится на расстоянии, но, увидев большое, это расстояние уже невозможно сократить? И почему отъезд имеет такое особое значение в русском любовном объяснении: фраза «я завтра уезжаю» до сих пор магически воздействует на собеседника, которому, по сути, предоставляется последний шанс исправить ошибку предыдущего молчания о своих чувствах.
Давайте посмотрим, как герои пользуются предлогом отъезда и для чего:
У Лермонтова в «Герое нашего времени»:
Я виноват перед тобой и должен наказать себя; прощай, я еду – куда? почему я знаю? Авось недолго буду гоняться за пулей или ударом шашки: тогда вспомни обо мне и прости меня.
Здесь отъезд – показатель отчаянья добиться взаимности.
У Тургенева в «Отцах и детях»:
– Зачем ехать? – проговорила Одинцова, понизив голос.
Он взглянул на нее. Она закинула голову на спинку кресел и скрестила на груди руки, обнаженные до локтей. Она казалась бледней при свете одинокой лампы, завешенной вырезною бумажной сеткой. Широкое белое платье покрывало ее всю своими мягкими складками; едва виднелись кончики ее ног, тоже скрещенных.
– А зачем оставаться? – отвечал Базаров.
А здесь отъезд показывает, что решение задачи (ухаживание) зашло в тупик.
У Тургенева в «Накануне»:
– Вы, стало быть, хотели уехать, не простившись с нами?
– Да, – сурово и глухо промолвил Инсаров.
– Как? После нашего знакомства, после этих разговоров, после всего…
В данном случае, отъезд – это способ победить свое чувство.
У Тургенева в «Асе»:
– Посмотрите же, что вы наделали, – продолжал я. – Теперь вы хотите уехать…
– Да, я должна уехать, – так же тихо проговорила она, – я и попросила вас сюда для того только, чтобы проститься с вами.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































