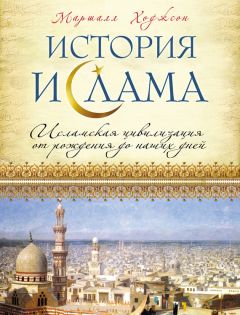
Автор книги: Маршалл Ходжсон
Жанр: Религиоведение, Религия
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
События, окружавшие смерть Усмана, для истинного суннитского историка являются особенно важной проблемой поиска истины, даже если на первый взгляд представляют собой оправдание шиитам. Мусульманское общество как развивающаяся умма переживало тогда первый серьезный раскол. Единство нарушилось не только в политическом смысле, что могло позволить отнестись к данному событию как к повторению войн Ридды. Единство было нарушено внутри общества Медины, когда близкие друзья Пророка пошли друг против друга, а в итоге был убит его преемник. Фундаментальные аспекты мусульманской уммы были поставлены под сомнение. Исторически все дальнейшие расколы произошли от этого. Для суннитов этот случай был проверкой: если в качестве пересказчиков хадисов (и в более общем смысле как образцов для подражания всей уммы в ее высшем историческом понимании) принимаются абсолютно все сподвижники Мухаммада, и если умма действительно обладает особым благословением Аллаха (что следует из доктрины об иджме, консенсусе), как тогда понимать подобную катастрофу? Это была первая фитна, первое испытание или соблазн, не только для участников событий, но прежде всего для всех последующих историков, которые так к ней относились.
Вариант изложения ат-Табари событий, связанных со смертью Усмана, по-своему открыто демонстрирует наличие этой дилеммы. Но это становится ясно, только если понять жанр, который он использовал, и изучить, как именно он это делал. Нужно внимательно следить за тем, как он выстраивает материал. Ат-Табари обстоятельно излагает события, приведшие многих арабов к недовольству Усманом. Затем он объявляет, что расскажет о первых публичных оскорблениях в адрес Усмана и о том, что привело к его убийству. Однако он начинает с того, что выглядит как излишнее напоминание о причинах недовольства людей слабостью Усмана: Усман отсылает несколько верблюдов в качестве закята некоторым своим родственникам из рода Омейядов; узнав об этом, Абдаррахман ибн Ауф, один из главных сподвижников Мухаммада, заставляет вернуть и распределить их между простолюдинами, а Усман остается дома и ничего не предпринимает. Но затем ат-Табари переходит, как и обещал, к описанию первых публичных оскорблений.
С этого момента кризис в его повествовании нарастает. Выкладывая мозаику из различных свидетельств, он рассказывает о том, как в Медину прибыла делегация мятежных египтян, как Усман пытался их успокоить речами и как они обнаружили, что их обманывают (предположительно Марван, главный помощник Усмана). Затем история развивается так: они вернулись и потребовали, чтобы Усман отрекся от престола, а самые влиятельные жители Медины не оказали Усману почти никакой поддержки (или обнаружили, что их усилия по мирному удовлетворению требований египтян пошли прахом). Египтяне окружили дом Усмана и вели его осаду. Усман отправлял гонцов в провинции с просьбой о военной помощи, но, когда об этом стало известно египтянам, они взломали ворота дома и убили Усмана.
До этого момента повествование, ведомое при помощи текстов из различных источников, довольно последовательно, живо и вполне правдоподобно как документ, помогающий понять действия всех участников событий. Но перед тем, как углубиться в подробности, касающиеся самого убийства, ат-Табари для пущего драматизма прерывает свое мозаичное повествование новым свидетельством, где события излагаются почти с самого начала одним и тем же рассказчиком – Сайфом ибн-Умаром. В рассказе Сайфа мятежники предстают как сброд, которым верховодил перешедший в ислам еврей с чудаковатыми еретическими идеями и которым двигали низменные личные инстинкты. Между тем, все ведущие сподвижники Мухаммада в Медине показаны активными сторонниками Усмана (Али, например, приказывает своим сыновьям встать на стражу у дома Усмана). Даже Мухаммад ибн Абу-Бакр, сын первого халифа и неистовый противник Усмана, в интерпретации Сайфа раскаивается в своем оппозиционном настрое (что прямо противоречит рассказу, приведенному выше, где в том же вопросе он демонстрирует относительную умеренность). Этот вариант объясняет отсутствие эффективного сопротивления со стороны всех, кроме непосредственных членов семьи Усмана и его ближайшего окружения, говоря о том, что во избежание войны между мусульманами Усман благородно отослал своих защитников; а само убийство свидетельствует об абсолютной нечестивости нападавших. В отличие от правдоподобного предыдущего рассказа, история Сайфа не только невероятна в плане некоторых мотивирующих факторов, но даже относительно схематична в деталях.
Когда заканчивается этот рассказ, ат-Табари возобновляет повествование, составленное из менее согласованных свидетельств, с того момента, где он его прервал, рассказывая непосредственно об убийстве. Завершается история изложением в ретроспективе (и, следовательно, вне хронологической последовательности) двух изящных речей: первая – речь Усмана в свою защиту против обвинений в главном преступлении, где он заявлял о своем праве на престол и предупреждал, что в случае его убийства мусульманская община уже никогда не сможет вернуть себе благословенное единство. Вторая речь принадлежит мятежникам, четко заявившим, что, независимо от того, виновен ли Усман лично или просто слишком слаб, чтобы контролировать своих помощников, во имя справедливости он должен либо отречься, либо быть низложен, т. е. убит. Эти две речи представляют собой ясную дилемму, связанную с тем, что политическую власть можно одновременно удерживать в рамках справедливости, и при этом она сохраняет достаточные силу и независимость, чтобы оставаться властью.
Весь этот отрывок можно воспринимать как минимум двумя способами. Преданный, но несколько наивный суннит согласится с основным и самым связным логически рассказом – рассказом Сайфа, поскольку тот в его понимании прекрасно разрешает историческую дилемму: все товарищи Мухаммада были заодно с Усманом; проблема возникла из-за сочетания чрезмерной набожности Усмана и замешательства, вызванного чужаками-мятежниками, а нарушение единства общины явилось ошибкой, в которой не было вины никого из его гарантов. Такой суннит может отринуть остальные свидетельства как альтернативные варианты, которые сами же себя опровергают своей путаностью. Часто этот раздел именно так и воспринимали.
Напротив, более вдумчивый читатель поймет, что Сайф обладал репутацией пересказчика хадисов, и обратит внимание на другие источники. Он может не доверять безоговорочно аль-Вакиди, чей рассказ покажется ему основой альтернативного толкования фактов. Действительно, в этом отрывке ат-Табари намекает на осторожное отношение к подробностям, излагаемым аль-Вакиди: после романтического эпизода, приводимого последним, ат-Табари прерывает его рассказ, чтобы передать более краткую версию того же эпизода из другого источника, где опущена главная деталь варианта аль-Вакиди – деталь, которую, если бы она существовала на самом деле, никакой свидетель бы не упустил. Таким образом, ат-Табари как бы комментирует надежность рассказа аль-Вакиди, ни словом не обмолвившись об этом. И все же вдумчивый читатель ощутит, что версия аль-Вакиди бросается в глаза благодаря расстановке ат-Табари. В то время как топорность языка Сайфа и, следовательно, традиционной суннитской интерпретации уммы подчеркивается перерывом изложения в самый драматичный момент, версия аль-Вакиди так же тактично ставится под сомнение самим своим расположением в тексте – ее частью является отрывок в самом начале и две речи в конце; и первый, и вторые выбиваются из хронологии, но вместе наводят на определенные мысли.
Дилемма касательно того, как, обладая властью, обеспечить ее эффективность на практике и одновременно сохранить моральную ответственность, представленная в двух последних речах, также в некоторой степени обсуждается в рассказах аль-Вакиди, но эти речи делают особенно сильный акцент на одной мысли: Усман и его противники расходятся во мнениях о том, что есть закон в его случае, и в растерянности обращаются к Корану. С другой стороны, обе речи бескомпромиссны: одна в призыве смириться с несправедливостью как с результатом несоответствия Усмана должности халифа, вторая – в низложении Усмана и разобщении уммы. Тем не менее альтернативное решение именно этой дилеммы разыграно Абдаррахманом в первом рассказе, который привлекает внимание тем, что не в состоянии передать то, что должен, согласно анонсу ат-Табари. Взяв на себя инициативу, Абдаррахман восстановил справедливость в случае с верблюдами, не оспаривая положения Усмана как халифа.
Первый и последний отрывки дополняют друг друга. В первом рассказе нам предсказывают сложную суннитскую версию решения дилеммы: здесь изложена концепция о том, что у каждого мусульманина есть долг «сеять добро и не допускать зла», если можно успешно его исполнять, даже если никто больше этого не делает; то есть, в принципе, общество не должно полностью зависеть от халифа в плане восстановления справедливости. Затем в парных речах нам напоминают о том, что нужно сделать прежде, чем такой принцип станет эффективно воплощаться на практике, поскольку ат-Табари, очевидно не предлагает всем мусульманам поступать так же свободно, как Абдаррахман. Необходимо было выработать закон, чтобы каждый знал его: недостатки халифов восполнит хорошо продуманный шариат, поддерживаемый ответственным мусульманским населением.
Ат-Табари даже не пытается предложить точную реконструкцию событий. У всех его главных источников были недостатки, о которых он прекрасно знал и, вероятно, не мог надеяться выяснить все подробности. Тем не менее под пером ат-Табари смерть Усмана, главная причина фитны – испытания – в мусульманской общине, становится идеальным поводом продемонстрировать наивность общепринятого решения и предложить вместо него решение в духе истинного шариата[126]126
Многие ученые недооценивают работу, проделанную собственно ат-Табари, рассматривая его только как чрезвычайно полезный источник более ранних материалов. Его историю обвиняют в плохой организации по сравнению с его же комментариями к Корану, а о нем самом говорят как о популяризаторе легенд Сайфа, в частности, в его пересказе завоеваний, где сильно перепутана хронология. Как главный источник последующих летописцев, ат-Табари играл роль, сравнимую (в том, что определял отношение к событиям прежних лет) с ролью аль-Шафии в праве. Подобно работам аль-Шафии, труд ат-Табари обрел идеологическую ясность за счет исторической открытости. И все же объемистое повествование ат-Табари, пусть часто неполное, всегда познавательно и живо. Конечно, не зря он указывал своим студентам, что отбирает только одну десятую свидетельств, которые мог бы включить в труд (распространенное представление о том, что он на самом деле написал более длинную версию, и эта история – лишь ее сокращенный вариант, не подтверждается оригинальной редакцией книги). Умному человеку должно быть достаточно одного слова, чтобы он насторожился. Неслучайно только с момента открытия труда ат-Табари (как подчеркивал Гибб) современные историки получили возможность воссоздать периоды, которые он описывал. Ат-Табари именно этого и хотел. (Русские переводы этого труда – Материалы по истории туркмен и Туркмении. Т. 1. М., 1939; Древние и средневековые источники по этнографии и истории Африки Южнее Сахары. Т. 1. Арабские источники VII–X вв. М.-Л. 1960; Ат-Табари. История. Ташкент, 1987; Ат-Табари. История пророков и царей. М., 2010. – Прим. ред.)
[Закрыть].
Историческая работа ат-Табари, конечно, нетипична; это работа мастера. Она демонстрирует ту интеллектуальную тонкость, которую позволяли методы шариатских наук в их лучшем проявлении. Другие историки – будь то летописцы или собиратели биографий – использовали те же формы технически, но их иснады являлись в большей степени документальными, их отбор явственнее отражал их в целом более пристрастные и менее сложные точки зрения. Однако даже у них прием документирования иснада так же, как и общее чувство объективности в суждениях о том, что важно для уммы Мухаммада, обеспечил значительную рассудительность, опору на факты и уважение к историческим достижениям этой школы[127]127
Изучение исламских исторических трудов только началось. Бертольд Шпулер (Bertold Spuler) в ‘Islamische und abendlaendische Geschichtsschreibung, Saeculunt, 6 (1955), 125–137, показал, что средневековые мусульмане не обладали тем же мощным универсальным взглядом, как современные жители Запада, и перечислил обширную библиографию; но его статья грешит несколькими фальшивыми стереотипами и упущениями. Франц Розенталь (Franz Rosenthal) написал A History of Muslim Historiography (Leiden, 1952), главным образом сосредоточившись на нескольких арабских летописях, особенно времен мамлюков; философски она малопонятна и не очень познавательна. См. также его исследование ‘Die arabische Autobiographic’, Analecta Orientalia, 14 (Rome, 1937), 1-40. D. S. Margoliouth, Lectures on Arabic Historians (Calcutta, 1902) – более интересный, но все же поверхностный обзор. Самое полезное, хоть и несколько небрежное исследование – H.A.R. Gibb, ‘Ta'rikh’ в дополнительном томе Encyclopaedia of Islam, переизданном в Studies on the Civilization of Islam (Boston, 1962). История догмы исследована Хельмутом Риттером (Helmuth Ritter) и другими, но в основном с позиции взаимосвязи источников – эту цель поставил себе Клод Каэн (Claude Cahen, La Syrie du Nord, Paris, 1940) в отношении определенных летописцев Средневековья.
[Закрыть].
Те же настроения преобладали в изучении грамматики и литературной критике. Они, по сути, образовали единое направление деятельности, целью которого было поддержание высоких стандартов и чистоты арабского языка – языка Корана и хадисов. Данная дисциплина возникла в кругах, занимавшихся изучением точного смысла древнеарабских слов, встречающихся в хадисах и непонятных более поздним поколениям. Как при разработке самого шариата, ученые надеялись избежать бида, нововведений, и сохранить первозданную простоту и однородность взглядов. Однако особенная значимость этого направления в науке стала результатом других тенденций в обществе – образа жизни, связанного с двором Аббасидов, а не с набожными улемами.
Постепенно представления приверженцев шариата проникли даже в область абстрактной мысли – в теологию и философский анализ. (Позже мы уделим этому особое внимание.) Здесь шариатские улемы стремились защищать подобающими методами теоретические положения, которые закрепились в фикхе как верные с правовой точки зрения. В этом участвовало несколько враждебно настроенных по отношению друг к другу групп, каждая со своей точки зрения. Пример Мухаммада показывал, что Аллах одобряет наличие разных мнений, и для многих набожных мусульман этого уже было достаточно. Тем не менее огромное количество улемов считали своим долгом продемонстрировать, что позиции, разрешенные Кораном и хадисами, разумны; попытка сделать это привела их в целый мир абстрактной мысли.
Наконец, шариатские научные взгляды оказали влияние на ту самую сферу, откуда получили один из основных компонентов изначального толчка к развитию: на индивидуальное богослужение и веру. Ощущение космической ориентации мусульман и их ответы на божественный вызов глубоко пропитались духом шариата, какими разными ни были бы они между собой.
Глава IV Личная религиозность: конфронтация с историей и эгоизм ок. 750–945 гг
При дворе жизнь на первый взгляд была полна блеска и красот. Мы уже наблюдали, как придворное общество стимулировало развитие идеала адаба – совершенствования утонченной личности. Культивируемая дисциплина внешних атрибутов – величественные пропорции домов, в которых жил человек, использование утвари и одежды изящных форм и цветов, но прежде всего красноречие и искусная подача мыслей – все это формировало модель повседневной жизни, которая в своем лучшем проявлении могла быть поистине прекрасна. Роскошный двор отбирал все лучшее из изобилия предложений конкурентов и в охране мощи этого двора, и в роскоши, которую он стимулировал, такая культура процветала. Во всей империи каждый, кто мог позволить себе подобные вещи, как правило, жил по примеру двора. Но с этой утонченной внешней атрибутикой контрастировала глубинная и более беспокойная сфера духовной деятельности, выраженная в индивидуальной набожности. Почти в любом человеке, мужчине или женщине, даже в привилегированных кругах, заключался мятежный дух, склонный поступаться внешним богатством ради настоящей жизни.
Блеск двора и его утонченность зиждились в конечном счете на гордости и жадности, на пытках и убийствах, на бесчисленных неблаговидных словах и поступках. Никакие привилегированные слои в исламском мире не могли в полной мере избежать порочности. Были те, кто жаждал разорвать привычный круг жизни, какой бы прекрасной она ни была, и противопоставить реалиям вселенной глубочайшие реалии их собственной души, противопоставить ее величию их собственную внутреннюю надежду и найти главное призвание, которому потребуется посвятить жизнь. Отдельные личности посвящали всю жизнь таким попыткам, а многие другие, с радостью отдававшие себя заботам о внешних атрибутах, тем не менее поддерживали увлеченных духовными исканиями в достаточной мере, чтобы превратить их в значительную силу в мировых масштабах. Таким образом, личные духовные интересы стали одной из ведущих сил высокой культуры в мусульманских городах.
Богатство и мощь исламского государства могут показаться тождественными богатству и мощи ислама и всему, что правоверный мусульманин надеялся увидеть в подлунном мире. Но, пожалуй, мусульмане, особенно те, кого захватил новый исламский вызов, ощущали давление космической дисгармонии. Однако они не хотели возвращаться к старым местническим системам богослужения и даже к манихейству, поскольку только в исламе получили величайший толчок к своим исканиям. Посреди роскоши и при многообразии возможностей, предоставляемых сильной монархией, эти искатели космического призвания, подобно искателям знания или красоты, нашли богатую почву для творческих инициатив. Последствия великих деяний Мухаммада и первых мусульман все еще ощущались, но не были изучены, будучи постоянным стимулом для тех, кто считал Коран священным текстом. Заключенные в нем сложности – вызовы – подвигли многих на попытки найти решение, которое отвечало бы их целям.
Мы говорим здесь не о религии вообще, а о личной религиозности человека, то есть о его духовных верованиях: о его манере реагировать на божественное начало, на то, что в его понимании стоит выше природного порядка вещей, на ощущаемый им космический аспект жизни, придающий ей глубочайший смысл. Религия, как уже отмечалось, подразумевает все разнообразные ответвления тех традиций, в основе которых лежит эта реакция. Религиозные общины, как правило, характеризуются не только индивидуальными проявлениями реакции на божественный вызов, но и организациями, члены которых могут иметь очень низкий уровень религиозности даже при чрезвычайной преданности данной организации. Кроме того, такие общины могут играть роли в социальной структуре, развивать новые формы искусства или космологические доктрины. В последних отражается ориентация индивидуальной религиозности, но, помимо этого, и другие социальные и интеллектуальные традиции. Религиозность не может сводиться к этике, хотя определяет некоторые стандарты поведения по отношению к собратьям. Религиозность нельзя даже отождествить с фанатичным принятием мифа и ритуала, что может происходить без особого религиозного чувства и быть в лучшем случае лишь частичным или окказиональным ее проявлением.

Мечеть Ибн Тулуна в Каире, Египет. Современное фото
Индивидуальная набожность в некотором роде это только малая часть религии. Тем не менее это ее стержень. Именно в процессе индивидуального поклонения Богу (посредством обычных ритуалов или другими способами) открывается космический параметр бытия, который и делает религию религиозной; и, следовательно, находит свое оправдание вся структура религиозного общества. Соответственно, то, что мы называем индивидуальной, или личной, религиозностью, или богослужением (поклонением), играет ключевую роль во всей цивилизации, по крайней мере, там, где религиозные традиции наиболее значимы. Изменения в культуре вообще и в настроениях и способах богослужения тесно взаимосвязаны. Стили поклонения Богу еще труднее выделить и изучить, чем стили искусства, но они подчас гораздо важнее.
Для одних людей личная набожность – это незаметный фон для повседневных забот и радостей. Для других – жизненное переживание и движущая сила. В обоих случаях она обладает определенным влиянием, которое следует отличать от социального влияния принадлежности к конкретной религиозной общине. В двух совершенно разных религиозных традициях могут возникнуть схожие взгляды; или же они возникают вне какой бы то ни было традиции. Ко времени ар-Рашида и аль-Мамуна в исламской традиции появилось несколько резко контрастирующих друг с другом стилей личного богослужения и религиозности. Ни один из них нельзя отождествить просто с исламом, хотя сторонники каждого из них претендовали на то, что именно их стиль и есть подлинный ислам.
Различные формы богослужения того времени, особенно в мусульманском сообществе, подталкивали и обогащали друг друга. В ходе взаимодействия с разными социальными интересами и проблемами они определяли судьбоносные повороты в истории великой монархии и независимой социальной и интеллектуальной жизни, которую стимулировали. Но эти разные формы богослужения, возникшие тогда, требуют особенно пристального внимания, потому что с того момента и впредь они пропитали самую ткань мусульманской жизни. Их элементы часто сохранялись еще долго после того, как создавшая их традиция уходила в тень или вовсе растворялась.
Связь благочестия с религиозной лояльностьюПроявление религиозности всегда очень личная вещь. Как в случае с эстетической оценкой, у каждого индивидуума есть свои склонности. Религиозность одних типов личности проявляется в бурном выражении чувства божественного величия; в других каждодневное пребывание в лучах божественного Света проявляется главным образом в заботливом и бережном обращении с ближними. Независимо от вероисповедания различные типы проявления религиозности наблюдаются у тех людей, кому они больше всего подходят. Существует такое же бесконечное множество откликов на божественное начало, если они искренние, сколько на свете типов людей.
Тем не менее формы религиозного отклика варьируются и в зависимости от религиозной традиции, культуры и даже классовой принадлежности. Варьируются не просто ритуалы и вера, но сам стиль поклонения Богу. Параллель можно провести с миром искусства. Несмотря на все индивидуальные различия, искусство итальянского Возрождения, например, демонстрирует свой самобытный стиль. Несомненно, личные склонности многих художников сдерживались модными тогда представлениями общества, и их потенциальный гений так и не раскрылся. В то же время получили выражение самые разные темпераменты даже в широких рамках, заданных стилем Ренессанса. То же относится к религиозности. Вероятно, развитие некоторых настроений в тот или иной период или в той или иной традиции несколько затруднено, а в другой, напротив, находит стимулы к активному развитию, даже если в пределах одного стиля богослужения наблюдается существенное расхождение индивидуальных вариаций. Например, ислам, как протестантизм, порицал обет безбрачия и монашеский образ жизни. В обеих традициях индивидуумы, которые, будучи католиками или буддистами, наверняка стали бы монахами, находили другие формы выражения своей религиозности; но эти формы им, скорее всего, кажутся неудовлетворительными и в любом случае сильно окрашенными превалирующим антимонашеским стилем почитания Бога.
Не только в крупных религиозных традициях, но и в их разных субтрадициях сформировались свои стили богослужения, в которых проявлялись личностные особенности людей. Эти стили не выходят за широкие рамки, заданные традицией в целом, но многие из них при этом сильно отличаются друг от друга. Так, христианское богослужение всегда опиралось на переживание личного искупления и окрашивалось им. Но это приняло совершенно разные формы в католической литургии, с одной стороны, и в евангелическом протестантизме-с другой; а в рамках протестантизма строгие и интеллектуальные проповеди пуритан XVI века сильно отличались от более позднего «энтузиазма» возрожденческих движений на американских пограничных территориях. То же многообразие внутри широких общих границ возникло и в исламе.
К появлению столь разных стилей приводят не только различия в социальном уровне и исторические обстоятельства; в процессе диалога в традиции, в одной и той же среде обязательно получат выражение разные темпераменты. В целом определенная культурная традиция, и особенно религиозная, как правило, первой закрепляется среди людей с примерно похожими нравами. Но, если той или иной традиции придерживается широкий сектор населения, во втором или третьем поколении (когда все нравы повторятся в ее наследниках), эта традиция, скорее всего, получит новое толкование со всех точек зрения, которые может предложить многообразие человеческих характеров. Та же формула, которая обеспечивает поддержку всех, обретает совершенно контрастные значения в каждом отдельном секторе. Целостность традиции накладывает ограничения на подобный процесс, так что не все нравы в итоге находят себе одинаково комфортные ниши, но обычно процесс этот оставляет достаточное пространство для развития значительных различий, чтобы не разрушалось единство группы, пытающейся поддержать строгую внутреннюю дисциплину. Расхождения в стилях богослужения, возникшие у мусульман в период общества Высокого халифата, отражали различия в социальном уровне и в отношении к власти. Но в еще большей степени они стали отражением разных нравов, и все сформировавшиеся в итоге основные группы можно описать как проявление разных взглядов на жизнь, которые встречаются почти в любом обществе.
Набожность мусульман в период высокого халифата имела весьма разнообразные формы; тем не менее определенные течения выделяются в ходе событий как формообразующие. Такое движение, как манихейство, вышло за конфессиональные рамки; но самые активные течения процветали в русле ислама. Для мусульман это было время бурного расцвета, когда создавались новые модели. Факт не удивительный, поскольку сам ислам как вероисповедание тогда быстро разрастался по количеству новообращенных, привлекая представителей самых разных народов. Как во многие периоды расцвета, в это время больше стимулировалось появление новых видов творчества, чем основательность. Но мы можем разграничить два основных типа религиозности в исламе, несмотря на все многообразие. Первый – мистический тип, еще не ставший доминирующим. Второй – керигматический, делавший акцент на истории. Исламский пиетизм в большей степени, чем ирано-семитские традиции, отражал мощное историческое сознание – то, которое уже становилось редкостью в неисламских традициях, от которого отрекались в пользу ислама самые активные в историческом смысле классы.
Мы уже дали определение термину «религиозный» (в «Прологе») как применимому в первую очередь (т. е. в качестве стержня разнородных явлений, объединенных термином «религия») к любому переживанию или поведению, связанному с жизненной ориентацией в той мере, в какой оно сосредоточено на роли человека в среде, ощущаемой как космос. Когда человек сосредотачивается на этом, он обычно некоторым образом приобщается к непостижимому и/или получает представление о космическом превосходстве и о попытках отреагировать на него. Нужно добавить, что «религиозный» отклик в этом главном смысле может иметь как минимум три варианта, каждый из которых сыграл свою роль в формировании характера исламской набожности. Мы можем различить три компонента религиозного переживания и поведения; эти компоненты не взаимоисключающие – на деле, они предполагают друг друга, но означают разные моменты духовного опыта. Каждый из этих компонентов может стать определяющим в религиозной традиции или даже в религиозной жизни отдельного человека, а другие два – ему подчиняться; и в той мере, в какой это было так, этот компонент определяет общий характер религиозного переживания и поведения.
Мы выделяем в личной религиозности компонент отслеживания парадигмы, когда человек ищет высшее начало в устойчивых космических механизмах, в повторяющихся природных явлениях (включая природу социальную). Через миф и ритуал как символические и взаимно перекликающиеся парадигмы устойчивую природную (и культурную) среду можно определить как космос. Например, когда молящийся обращается лицом в сторону Мекки в мечети и кланяется, он символически ставит себя в правильное положение по отношению к Богу – в положение покорности – и к другим мусульманам и, таким образом, вновь и вновь восстанавливает космическую гармонию в своей жизни. (Некоторые авторы пишут, будто это и есть типичнейшая религия.)[128]128
Этому стилю преимущественно посвящен труд Mircea Eliade in Le Sacre et le Profane (Paris, 1965), переведенный на английский с немецкого: The Sacred and the Profane (New York, 1959) (Русский перевод – Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994 г. – Прим. ред.) Поучительное исследование религии Clifford Geertz, ‘Religion as a Cultural System’, Anthropological Approaches to the Study of Religion, ed. Michael Banton (New York, 1966) тоже фактически определяет только режим «отслеживания парадигмы», интерпретируя другие два компонента с точки зрения первого. Кстати, исследование также охватывает более широкий спектр явлений, чем тот, который мы называем «религией»; поскольку то, о чем говорит автор, применимо ко всей сфере, названной мною «жизненной ориентацией». Например, с незначительными изменениями или без них это применимо к параметру «отслеживания парадигмы» советского коммунизма (в том числе «социального реализма» и т. д.). Если человек ищет чисто формально определяемую культурную «точку зрения», как делает автор, это верно; а то, что мы назвали «религиозным», лишь вопрос размеров явления в рамках того, что он считает формально более точной категорией жизненной ориентации. Можно добавить, что именно так обстоит дело независимо от того, носит ли религия характер отслеживания парадигмы, керигматический или мистический: нечто соответствующее каждому из этих режимов может иметь место в нерелигиозном поведении, связанном с жизненной ориентаций, в котором делается упор на роль человека в космосе. (Пожалуй, мы можем здесь говорить о «самопроникновении» (что иногда включает, например, определенные виды психотерапии) как о более широкой категории, для которой мистическое поведение – только ее религиозная форма.)
[Закрыть]
Во-вторых, можно выделить керигматический компонент, когда высшее начало человек ищет в необратимых, поддающихся датировке событиях, в истории с ее позитивными моральными обязательствами. На момент откровения среду, особенно историческое общество в том виде, какое оно есть сейчас и каким вот-вот станет, можно рассматривать как радикально отличную от того, какой она выглядит на поверхности, и индивидуум должен искать новые способы реагировать на ее реальность. Например, когда молящийся декламирует Коран, он осознает, что великие мира сего вот-вот умрут и предстанут перед судом Божьим, а посему не заслуживают всех тех почестей, которые им оказывают; и что он сам должен найти способ изменить свою манеру поклонения им и склоняться только перед Богом. Этот керигматический компонент играет ведущую роль в пророческих монотеистических традициях (а следовательно, некоторые теологи даже выделяют его как выходящий за рамки «религии», взятой в плане отслеживания парадигмы).
Наконец, следует упомянуть мистический компонент личной набожности, когда объективное высшее начало человек ищет в субъективном внутреннем знании, в зреющей индивидуальности: изучая или контролируя свое сознание, человек может проникнуть в свою душу и найти еще более глубокое осмысление окружающей среды. Например, когда молящийся размышляет о созидательной силе Бога и своей собственной малости, он может почувствовать, будто его тело всего лишь песчинка среди других песчинок; цели, к которым он стремился до того, кажутся теперь глупыми, а выполнение требований Господа – очевидным и простым.
Среди большинства мусульман, для кого религия представляла вторичный интерес, религиозное поведение часто ограничивалось режимом отслеживания парадигмы. То есть другие два компонента, как правило, подчинялись отслеживанию парадигмы в той мере, в какой человек признавал вызов, заключавшийся в Коране, или переживал трансформацию самосознания, это, главным образом, способствовало подкреплению опыта, связанного с отслеживанием парадигмы, особенно когда его воплощением стал шариат как универсальная модель. Но великие традиции исламской религиозности возникали и развивались в основном в керигматическом или мистическом ключе – они наиболее характерным образом выражали отклик либо на керигматическое восприятие истории, либо на мистическое восприятие собственной индивидуальности. То есть влиятельнейшие фигуры мусульманской духовной жизни чаще всего работали в одном из этих двух режимов; и рядовые личности, развивая свое духовное сознание, тоже тяготели к одному из них.









































