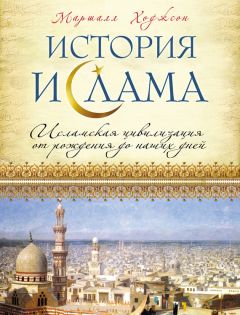
Автор книги: Маршалл Ходжсон
Жанр: Религиоведение, Религия
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
В период высокого халифата ведущие традиции личной религиозности были отмечены керигматической ориентацией: их положительная приверженность нравственным вызовам, которые раскрываются в ходе исторических событий, была решающей для структуры их религиозного сознания и поведения. Это не значит, что компонент отслеживания парадигмы и даже некоторые мистические элементы в данных традициях отсутствовали; действительно компонент отслеживания парадигмы иногда обретал первичное значение. Но во всех этих традициях керигматический элемент играл несоизмеримо огромную роль, по крайней мере в сравнении с большей частью религиозных обществ аграрной эпохи.
Уже среди представителей религиозной оппозиции при Марванидах многие точки зрения выражались в религиозных вопросах. С начала эпохи Аббасидов до нас дошли названия разнообразных школ мысли или как минимум имена сторонников того или иного ведущего учения; иногда трудно разобраться, что именно отражает настоящие различия в основном религиозном духе[129]129
Слишком часто всевозможные объединения – от людей, согласившихся друг с другом в одном мнении, до основательной школы мысли или даже официального религиозного органа – ученые называют «сектой» («религиозным течением»), не делая различий в отношении характера, степени или численности. Это может привести к абсурдной путанице.
[Закрыть]. Тем не менее их объединяло сильное ощущение исторического вызова ислама, выраженного Кораном. Часто даже различия в стиле поклонения среди мусульман имели прямое отношение к общему происхождению фракционных традиций, выросших из деления религиозных деятелей на фракции при Марванидах. Эти различия отражали их общий упор на социальный и исторический аспект жизни людей. Все они усматривали божественное провидение в судьбе человеческих обществ от поколения к поколению, но видели его по-разному. Так, политические разногласия касательно имамата можно было исследовать, и результаты этого исследования имели сильнейшее влияние на самом личном уровне.
Эта социальная и историческая ориентация продолжала определять религиозность всех течений, выросших из религиозных фракций. Часто она придавала ей аскетический характер, требуя соблюдения строгих стандартов общественных приличий, коим чужды были излишества или другие уступки аристократической культуре, которые с эгалитарной точки зрения можно было бы считать разрушительной болезнью общества. В общем, она сделала ислам прекрасным проводником социальных устремлений устойчивых монотеистических традиций.
В то время как некоторые более старые традиции разбавлялись или обогащались, превращаясь в преимущественно крестьянские культы и имея тенденцию строиться вокруг природного мифа, прежние поиски сочетания праведной личной жизни и справедливой социальной политики возобновили прежде всего мусульмане. Соответственно, у них одних ирано-семитский принцип народности с его личным морализмом пришел к устойчивому процветанию[130]130
Я уже пытался развить эту мысль подробнее в статье ‘Islam and Image’, History of Religions, 3 (1964), 220–260; однако ей очень не хватает ощущения развития во времени.
[Закрыть]. Одна сторона этой народности выразилась в необычайно мощном духе моральной исключительности настоящего общества, приверженного истинному созидательному моменту – истинному моменту откровения и тому, что он открывает. Только в таком обществе присутствуют правда и законность; но кто бы ни разделял эту приверженность, он тем самым находился не только в социальном, но и в космическом плане на уровень выше тех, кто отказывался верить в то же самое; на уровне, где единственным настоящим различием между верующими была степень их религиозности. Мусульмане чувствовали себя защитниками веры Авраама посреди вновь обратившихся к язычеству общин зимми.
Эта эксклюзивность отразилась в шахаде, составленной из двух равнозначных утверждений: нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – Пророк Его. В принципе, эти фразы могли быть – а в редких случаях действительно были – поняты как фразы разных уровней: первая фраза – универсальная, вторая – частный случай; потом во второй фразе имя пророка можно было заменить на любое другое с тем же успехом, не обесценивая ее как свидетельство преданности главным атрибутам божественной истины. Статус других пророков не подлежал сомнению. Но на практике благочестивые мусульмане не могли признать, что традиции, выросшие из моментов откровения, ниспосланных другим пророкам, имели более чем ограниченную юридическую силу по сравнению с традицией, берущей начало из откровения Мухаммада. Все остальные были безнадежно запятнаны. Поэтому вторая фраза имела силу, не выраженную словами в полной мере: дело не просто в мессианстве, которым был облечен Мухаммад, а в Мухаммаде как мессии, что и являлось второй вечной истиной, которую следовало поставить в один ряд с единственностью Бога. Откровения прежних пророков были только вторичны по отношению к мессианству Мухаммада, если он их вообще признавал. Мусульманину присущи строгость и бескомпромиссное достоинство, и каждый может приобщиться к ним: он один, в отличие от всех неверных, уверовал, стал наместником Бога на земле; другие же не были даже людьми в полном смысле слова. Если мусульманин не являлся в этот период реальным политическим правителем, он все же был равноправным членом правящего общества и в космическом плане разделял его статус.

Большая мечеть Кайруана, Тунис. Современное фото
Та же исключительность выразилась в господствующей роли Корана в религиозности мусульман – в том, что Коран как минимум в определенной степени был у всех на устах, и никакая образованная или специально обученная элита не могла его монополизировать. Для создания ислама собрали воедино весь доисламский монотеистический опыт и знания, и его, таким образом, можно было назвать ирано-семитским монотеизмом в его самой народной форме. Тем не менее ничто не сумело принизить роль Корана как предмета почитания в данной традиции. Его тексты можно было толковать как угодно, в том числе усматривая в них некоранические точки зрения. Например, тот, кто читает Коран без предубеждений, не найдет почти никаких возражений против художника или скульптора, но множество – против поэта. И все же ко времени высокого Аббасидского халифата мусульмане в целом чтили содержавшиеся в нем суждения – до той степени, что более поздние поколения считали, что их предрассудки уходят корнями в Коран. Однако по всем этим причинам главные вызовы Корана ощущались весьма сильно, и это произведение направило ирано-семитское наследие в определенное русло.
Притягательность Корана выдержала проверку временем. То, что считали вызовом древние арабы Мекки и Медины, заключало в себе не менее мощный вызов для городских купцов и ремесленников оседлых земель от Нила до Амударьи. Как произошло во многих религиозных традициях, относительное отсутствие интеллектуальной искушенности в обществе Мухаммада, сквозящее во всем тексте Корана, способствовало упору на простейшую реальность жизни человека. Обыденные ситуации, повседневные аналогии могли понимать буквально даже неграмотные. Пожалуй, еще важнее то, что отсутствовало внимание к тонким материям эстетического или нравственного сознания, культивируемых образованной элитой, чтобы скрыть от глаз жестокость знати или благородство, присущее всем людям. Требуя отрубать руки вору, Коран не давал ни философских обоснований этого, ни (как часто делали его комментаторы) тонкостей юридического доказательства; жестокое наказание выделялось как приговор, вписывающийся в сознание рядовых людей касательно как вора, так и любого, кто допускает, чтобы жалость мешала ему исполнить свой долг или гнев побудил к более жестокой расправе. Даже те, кто считает, что нашел лучший способ, чем мединцы, отреагировать на это требование правосудия, должен остановиться и задуматься, является ли его реакция обдуманной или испорчена сентиментальностью или даже самодовольством.
Коран по-прежнему со времен Мекки и Медины обладает огромным потенциалом. В своей форме он продолжал, даже после окончания активного процесса откровения вместе со смертью Мухаммада, оставаться событием, действием, а не просто констатацией фактов или норм. Он задумывался не для того, чтобы служить источником информации или чтобы черпать вдохновение, а для цитирования в качестве акта преданности во время молитвы; и он не стал просто священным источником авторитета, когда основание ислама начало отдаляться во времени. Он по-прежнему играл ведущую роль для всех, кто принял ислам и серьезно к нему относился. Человек занимался не внимательным чтением Корана, а поклонялся Богу с его помощью; не просто пассивно принимал, но, цитируя его, вновь утверждал его значимость для себя: событие откровения обновлялось каждый раз, когда один из верующих во время акта поклонения переживал содержавшиеся в Коране мысли.
Соответственно, молящийся вновь и вновь подтверждал для себя через Коран, каждым отрывком, который произносил, его единственный и мощный вызов: вызов, который лучше всего выражает слово тавхид – утверждение единства Бога. Он заново подтверждал, что мы сталкиваемся с авторитетом Бога-создателя и Его требованиями к человеческой совести, которым нет конкурентов в нашем сознании, нет непосредственного источника норм, менее важного долга; так человек обязался воплощать в своей жизни неизменное призвание, с которым каждый сталкивался заново в Коране всякий раз, когда начинал его читать; всякий раз в молитве он вновь и вновь посвящал себя ему. Каждых стих Корана по-своему излагал и объяснял этот вызов, применяемый к многочисленным элементам обычной жизни или формулируемый через уроки природы и истории[131]131
Существует острая необходимость изучения Корана с современной научной точки зрения, способной предложить прочтение текста, альтернативное принятому на Западе. Даже если появится более качественный английский перевод, все же нам нужны подробные комментарии, которые укажут читателю, на что обратить внимание. На данный момент в широком доступе есть типичное издание W. Т. de Вагу, ed., Approaches to the Oriental Classics (Columbia University Press, 1959), посвященное способам преподавания экзотической классики в западной общеобразовательной системе. В ней Артур Джеффри, авторитетный филолог и специалист по Корану, говорит: «Коран рекомендуется изучать повсеместно только из-за его огромного авторитета у мусульман». Он не признает ни религиозной, ни литературной ценности текста. Авторитет Корана он пытается объяснить его уникальным теологическим статусом, но не упоминает о том, что и сам этот статус можно объяснить, что Коран завоевал столь высокое положение благодаря своим собственным особенностям еще до того, как серьезные мужи пожелали придать ему тот самый уникальный теологический статус.
[Закрыть].
Уникальная сила Корана, приковывавшая все внимание человека к его единому и всеохватному вызову, привнесла чисто религиозный компонент в нараставшее движение иконофобии в ирано-се-митских традициях; это движение – типичное проявление характера их религиозности и ее воплощения в исламе. Использование изображений считалось неподобающим для пророческой религии нравственного Бога из-за их ассоциации с природными божествами. Но в присутствии Корана они отвлекали внимание молящегося, даже если не брать в расчет подобные ассоциации. Коран сам по себе может служить разумным, почти осязаемым символом Единого, чей вызов собой выражает.
Коранический вызов имеет однозначную нравственную природу. Если Коран отсылает нас к красотам природы, речь идет не о том, что мы должны воздать хвалу красоте Аллаха или испытать благоговейный трепет пред Его мудростью, а о том, что нас предупреждают о Его силе и способности привести в исполнение установленные Им же законы. Более высокоразвитый духовно человек, сосредоточив все мысли на Коране, мог ощущать непреодолимую нравственную силу, которая определяла формирование его личности. Поэтому размещение любых других символов рядом с Кораном, как бы прямо они ни указывали на другие аспекты божественного начала, обязательно (согласно общему закону о силе символов для сознания человека) вмешивается, оттягивает на себя и в итоге растворяет сконцентрированную религиозную энергию. Такие выплески эмоций не были альтернативными способами предстать перед Единым; скорее, они отвлекали и ослабляли преклонение перед Ним, отраженное в Коране, и его моральные требования. Можно сказать, что доктрина о единстве Бога, центральная для развитого ислама, во многом является теологическим выражением единства акта поклонения в его лучшем виде, его полной отдачей осознанию морального господства Бога над молящимся Ему.
Соответственно, центральное место Корана исключало символическое проявление узких характерных аспектов отношений человека и Бога, какое наблюдалось в христианских таинствах; а наряду с таинствами оно исключало священнослужителей, наличие которых ими предполагалось. Утрачивали актуальность и другие символические проявления духовного сознания, нашедшие отражение в искусстве, как это произошло при возникновении схожего движения в христианском протестантизме. Но чувства правоверных не ограничивались процессом и местом совершения молитвы. Вся жизнь была пронизана религиозным духом; нигде не допускалось присутствие чего-либо, что могло соперничать с Кораном в пробуждении глубокого душевного отклика. Вся творческая сфера попадала под подозрение: художественная и научная литература, музыка и живопись. В той мере, в какой любое искусство, верное самому себе, не являлось простым ублажением взора и слуха, но глубоко проникало в душу, оно было потенциальным конкурентом Корана, тонкой формой идолопоклонства. Наука тоже не просто объективное удовлетворение любопытства: она тоже требует всецелой моральной преданности себе. Таким образом, религиозные мусульмане вполне могли опасаться всех видов искусства, где бы они ни появлялись, и всех аспектов высокой культуры, которые не отвечали моральному предназначению, к которому призывал Коран.
Наконец, единство коранического культа породило исключительность самого религиозного общества: если внутри ислама не допускалась никакая иная культовая форма, пусть даже монотеистическая, то уж тем более не могло быть и речи о легитимности любых религиозных общин, которые соперничали бы с обществом, поддерживающим культ Корана. Единство Бога предполагало одно средство поклонения и единство поклоняющегося Ему общества.
Среди весьма серьезных и увлеченных людей этот религиозный опыт был, несомненно, сильнейшим доказательством исключительности ислама и поводом к исключению всех культовых образов и вообще всего символизма, способного соперничать с Кораном, и всех конкурирующих общин. И все же эти немногочисленные заинтересованные люди не могли сами осуществить это. Их чувства не возымели бы действия, если бы они не совпали с общими народными тенденциями, стимулируемыми в торговой среде: недоверие к аристократии, к роскоши, ко всему исключительному, в том числе ко всем отраслям науки и искусства; и замена этих излишеств высокой культуры в высшем обществе господствующим положением священного общества, в котором самый обычный человек реализовывал свое личное достоинство в повседневных личных отношениях. Поэтому духовные обвинения религиозных активистов были воплощены на практике только там, где народный дух в широком смысле подкреплял их религиозные чувства. Соответственно, самая роскошная форма изобразительного искусства, требующая высочайшего аристократического или духовного вкуса и ресурсов – скульптура – была почти полностью запрещена; между тем как искусство, которым могли заниматься представители любого класса – поэзия – почти никогда не предавалась анафеме. И все же, пожалуй, сам популистский импульс мог и не иметь столь обширного успеха, если бы его не поддержали религиозные идеи чрезвычайно чувствительных личностей; разумеется, эти чувства, связанные с исключительностью ислама, реализовывались в полной мере только в мечети, где такие люди обладали особым авторитетом.
В любом случае исключительность ислама родилась именно благодаря тому, что было универсального в его общей концепции, в силу его надежд на равенство и справедливость, и ответственности человека в рамках высших норм. Сама реакция на эту концепцию, позволившая ей воплотиться в живую традицию, и ответственность, и преданность, с которыми она воплощалась обществом, отгораживали ислам от конкурирующих ценностей и традиций. Коран, чьим текстом практически исчерпывался исламский символизм, стал единственным мощным и конкретным образом в данной религии.
Несмотря на непосредственное сильное влияние Корана, самого текста, по-видимому, было все-таки недостаточно, чтобы традиция столь строго сосредоточилась на нем, не будучи связана с жизнью общества. Во времена Мухаммада он соответствовал ходу событий того периода, объясняя и направляя их. Позже мусульманам пришлось искать эквивалент для собственного поколения. Одним из решений, которое способствовало воплощению коранического вызова в повседневной жизни, была разработка правил практической морали, отвечавших культу Корана. Так возник шариат – автономный свод законов, сформулированных для разных особых случаев. В процессе совершенствования этих правил (не прекратившемся по сей день) Коран играл центральную роль и активно входил в жизнь общества.
Шариат приобрел дальнейшую эмоциональную силу, поскольку выражал преданность мусульманскому обществу, чьи идеализированные механизмы он описывал. Заключенная в Коране эксклюзивность сразу дополнилась эксклюзивностью, опиравшейся на историзм мусульманской общины. В ходе событий после третьей фитны и триумфа Аббасидов эта общинная ориентация шариатского духа подчеркивалась с особой силой: имеется в виду преданность общине, исповедующей мусульманство, даже в ущерб любым другим ценностям. Она легко сочеталась с новым духом шариата, поскольку для религиозных активистов, отвергавших власть Марванидов и не любивших Аббасидов, отождествление с общиной могло означать только признание шариата.
В шиитских кругах этот дух помог дисциплинировать даже теоретиков-экстремистов гулата. Вскоре после восшествия на престол Аббасидов имам Джафар ас-Садик посчитал разумным отречься от своего известного сторонника гулатита Абул-Хаттаба за то, что тот слишком далеко зашел в отрицании нараставшего шариатского духа.
Его больше заботил внутренний символизм, чем юридическое применение закона. (Короткое время спустя аль-Мансур казнил Абул-Хаттаба за ересь.) В целом учения теоретиков гулата именно в это время – по крайней мере их словесное выражение – стали более умеренными, чтобы не оскорбить приверженцев шариата. Так, более поздние теоретики из числа шиитов-джафаритов возвышали своих имамов как «доказательства» (худжжа) Божия или носителей божественного света – оба эти понятия имели широкое метафизическое влияние на ираносемитскую традицию; но (в отличие от практики первого гулата) в знак почтения к тотальному правовому господству Пророка имамов больше никогда не называли даже самыми малозначительными «пророками» (наби), несмотря на то что значение данного термина позволяло это.
Схожий общинный дух возник и среди самих правоведов. В Багдаде Абу-Юсуф, ученик Абу-Ханифы, делал акцент на правовых нормах прежних времен при Марванидах почти в той же мере, что и аль-Авзаи, руководитель сирийской школы, который испытывал естественную тоску по дням сирийского господства. С помощью таких людей арабизм прежних лет в некоторой степени проник в шариат.
Но даже при этом одного только шариатского духа было недостаточно, чтобы обеспечить живое взаимодействие с Кораном и, таким образом, сформировать все содержание актуальной модели богослужения. Шариатизм в определенной форме был почти универсальным для всех исламских течений, выросших из религиозных фракций. Но каждое из них вносило свои компоненты.
Мы обсудим сначала разновидности пиетизма, возникшие среди тех, кто отказывался приобщаться к официальному мусульманскому порядку – среди хариджитов и особенно шиитов: шиитов-зайдитов с их постоянными политическими мятежами и главных радикальных шиитских групп – двунадесятников с их хилиастическими надеждами и исмаилитов с их эзотерическим и заговорщицким интеллектуализмом. Затем мы вернемся к тем, кто принял джамаа в ее официальной форме, в частности, к моралистам-мутазилитам и к их конкурентам – приверженцам хадисов, поборникам популизма и верноподданства и главным наследникам прежних религиозных объединений; и особенно к суфиям, чей мистицизм формировал главный фундамент мусульманской религиозной жизни в более поздние века. Я обязательно изложу здесь, как сам понимаю, эти несколько традиций и опущу то, что мне остается непонятным; поэтому все, о чем я говорю, кажется более аргументированным, чем есть на самом деле. Но только при более пристальном изучении религиозности отдельных лидеров и рядовых людей в каждой традиции мы можем надеяться на адекватное понимание того, что сейчас слишком часто является областью предположений.
Мы уже наблюдали, как к началу эпохи Аббасидов формировалось различие между шиа, сторонниками Али, стремившимися к очищению ислама, и джамаа, сторонниками сплоченности общины, желавшими сохранить то, что уже было достигнуто. Эти две позиции, соответственно, привлекали людей, более склонных рисковать всем ради идеала, и тех, кто был более склонен считать, что лучшего, чем то, что есть, уже не будет. Внутри каждого из этих широких направлений появились дальнейшие разделения – снова отразившие (внутри каждой группы) относительно идеалистическое требование совершенствования или относительно практическое требование консервации; либо выражавшие различие между теми, кто был больше склонен к общедоступной, экзотерической истине, и теми, кто предпочитал эзотерическую истину, доступную лишь элите. Из многообразных сочетаний этих и других тенденций возникло несколько сильных течений с собственным стилем почитания Бога, и некоторые из них сыграли важную историческую роль.
Два первых течения, долго сохранявшиеся на протяжении эпохи Аббасидов, были особенно характерными проявлениями строгости, свойственной религиозным диссидентам. Они требовали верности более высоким стандартам, чем те, что преобладали в обществе, от всего мусульманского общества, не питая снисхождения к человеческим слабостям. В период Высокого халифата они постепенно отошли в тень, а позже сохранились только в отдельных местах; но, пока для активного реформатора сильная централизованная империя представляла собой относительно простую политическую проблему, они предлагали убедительные альтернативы для людей определенного склада.
Самое известное своей социальной суровостью движение – хариджизм – отвергало даже шиа в качестве проводника реформ. Мы уже отмечали, что хариджиты предпринимали последовательные попытки сохранить абсолютное равенство и ответственность верующих внутри однородного сообщества, часто за счет ухода из мусульманского общества и создания непримиримых воинствующих банд. Они активно занимались шариатскими проблемами, но прежде всего настаивали на эффективном обеспечении благочестивого общественного порядка. Иногда они откровенно смотрели сквозь пальцы на поведение, которое другие религиозные группы в теории запрещали, чтобы сделать свое учение применимым на практике. Но в целом они отличались пуританским и чрезмерно воинственным нравом. Хариджиты-ибадиты сумели учредить среди значительного количества населения отдаленных районов, где большинство людей принадлежали к исламской вере (в частности, в Омане в Восточной Аравии), норму, которая хотя бы на поверхности казалась правильной. Однако после VIII века они постепенно утратили свою значимость везде, кроме этих отдаленных уголков.
Внутри шиитского движения очень похожую позицию заняли зайдиты. Со времен аль-Касима ар-Расси (ум. в 860 г.), их великого теоретика, они настаивали на том, что истинным имамом должен быть тот Алид (то есть потомок по линии Фатимы), который сочетал в себе владение правовым и религиозным учением, политическую инициативу и достаточную проницательность, чтобы возглавить вооруженное восстание против властей. Этот имам должен был принадлежать либо к роду Хасана, либо Хусайна и не обязательно являться сыном имама; также необязательным считалось постоянное наличие имама, если никто не подходил на эту роль. Результатом стала череда весьма компетентных имамов, правивших отдаленными областями, особенно в Йемене.









































