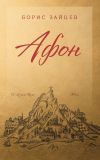Текст книги "Планета Афон. ΑΓΙΟN ΟΡΟΣ"
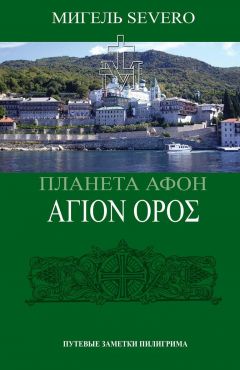
Автор книги: Мигель Severo
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
– О чём сегодня говорили на проповеди?
От неожиданности у меня чуть не посыпалось всё из рук, однако мне быстро удалось нарисовать умное выражение на лице, и слегка заикающимся голосом ничего не вспомнить.
Проповедь «у них» читается не как обычно в российских храмах, не после службы, а после чтения Евангелия. Но, пребывая в это время в размышлении о мiрском, азъ недостойный благополучно пропустил её мимо ушей. В чём не приминул чистосердечно покаяться о. – ю, аще убо скрывать от него моё нерадение было весьма бесполезною заботою.
Оценив степень моего покаяния, он не стал укорять меня дежурным промыванием мозгов, но с отеческой благосклонностью стал напутствовать народными средствами. Для этих целей он избрал весьма оригинальное наглядное пособие в образе грязной посуды. Преподавать таким образом святоотеческое учение мне ещё не пытался никто, однако наглядность в таком вопросе, как потом выяснилось, имеет весьма существенное, можно даже сказать максимально действенное значение. Впрочем, судите сами.
– Вот ты сегодня причастился, вроде как все грехи тебе Господь простил. Так думаешь?
– Ну, да. Вроде так нас учат, – мысли мои растекались как студень в микроволновке.
– И хоть сейчас готов пред Богом предстать? – авва был готов рассмеяться.
– Н-нет, сейчас не готов. Ещё не во всех грехах покаялся.
– А на милосердие Божие, что, уже не надеешься? – вопрос был поставлен ребром.
– Но для этого самому надо милосердным быть, нас так учили.
– Верно учили. Бог ведь не за количество грехов не прощает, и даже не за тяжесть содеянного греха, а за нераскаянность в нём!
Вот, скажем так, рыба: чтобы ей очутиться на сковородке достаточно всего один раз заглотить наживку. Верно? Чтобы стать убийцей, достаточно один раз нажать на курок. Или чтобы сорваться в пропасть, хватит и одного неверного шага.
Так и в аду можно очутиться всего лишь благодаря одному греховному помыслу. «Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир» [Рим. 8; 6].
– Но ведь живя в мiру волей-неволей приходится думать о мiрском. С неба-то ничего не падает, если только не кирпич на голову, – ВПС съёжился, будто он действительно падал.
– Без воли Божией не то, что кирпич на голову, даже волос с головы не упадёт. А мiрские помыслы они естественны, даже Христос говорил о хлебе насущном, но лишь о насущном! Сиречь «на существование», не более того.
То есть днесь, о завтрашнем дне не безпокойтесь, Господь вас не оставит. А ведь большинство как? Запасают на всю оставшуюся жизнь, и даже детям, внукам стараются «достойную» жизнь обеспечить.
Вот и надеются эти дети и внуки лишь на родительский достаток, сами-то ничего делать не умеют и не хотят. Только жизнь прожигают в кабаках да на курортах.
А случись кризис какой, так они по-мiру пойдут, милостыню просить будут, а сами-то подавали? Души-то червями изъедены, где уж тут о милосердии думать, им бы свои страсти ублажить. Как сковородка, вон, нагаром покрылась, попробуй её отчистить!
Вот так и душа человеческая нагаром покрывается, и уже ни один благой помысел та душа произвести не может. Как говорил преподобный Иосиф: «Царствие Небесное не даётся лежащим на боку, а только труждающимся и скорби терпящим».
– Но ведь бывают же случаи, когда богатые начинают храмы строить, щедрые пожертвования делают на благотворительность? – I am аккуратно зашёл с тыла.
– Делают! Но, как правило, лишь те, кому как раз скорби и пришлось претерпеть. Господь их и вразумляет подобным образом… Но таких пока единицы.
В основном люди лишь о собственной утробе пекутся. А если и делают доброе дело, то лишь для собственного тщеславия. Таковые свою награду уже на земле получают, в Царствии Небесном им ждать нечего.
– Выходит что ж, ни количество грехов, ни тяжесть содеянного, ни благотворительность значения не имеют? Как же тогда спастись? – мои мысли вдруг оказались в тупике.
Авва – й взглянул мне в глаза, видимо, чтобы прочитать: искренне я не понимаю или хочу оправдать затраты на поездку, «записав» в свой актив очередную душеспасительную беседу. И если решил всё-таки, что беседу продолжать небезполезно, значит, обнаружил в моих очах искорку правдолюбия, а не притворного лицемерия.
Но в том-то вся и штука, что до зѣла замороченным прихожанам российских храмов нужно всё объяснять на пальцах и с нуля.
Авва взял три полупустых шлёнки и задал наводящий вопрос.
– Вот миски с оливками, будешь ты в них сейчас мёд наливать?
– Нет, конечно. Зачем же помойку делать? – просквозил резон в моих словах.
– Так ведь в одной всего три ягоды, в другой десяток, а третья почти полна.
– Какая разница? Всё равно сначала вымыть надо, а потом уже мёд наливать.
– Вот так и душа! Не имеет значения, сколькими грехами она осквернена. Пока от все́х грехов её не очистишь и не отмоешь, для божественной благодати там места нет. Сам сказал, что помойка получится. Это то же самое, что в чашке смешать бензин с молоком. Ни жажду утолить, ни машину заправить. Только в помойку вылить и остаётся. Верно?

Отец – й вывалил маслины в самую полную миску и дал мне понюхать порожнюю.
– Чем пахнет? – спросил он меня так, будто скомандовал «смирно!».
– Ну, как чем? Рассолом, – не могла же чашка пахнуть нержавеющей сталью.
– Вот так и человек, даже освободившись от греха, но, не причастившись, продолжает оставаться в греховном смраде. – Можно в миску мёд наливать?
– В принципе можно, только он пахнуть будет.
– В принципе! – язвительно передразнил меня старец. – Да или нет?
– Нельзя! Сначала вымыть нужно, – отчеканил ВПС как рапорт дежурному по роте.
– А эта миска, чем пахнет? – и он поднёс к моему носу другую пустую шлёнку.
– Тем же, рассолом! – азъ горемычный слегка не понимал, зачем столь «китайский» вопрос. Авва уловил моё настроение и разрешил его в шесть секунд.
– Имеет значение количество – один грех на тебе или сто?
– Получается, что не имеет, – при этом авва нацелил на меня свой указательный палец.
Потом взял чайник, налил в миску немного кипятку, помыл её, затем сполоснул второй раз и снова дал мне понюхать.
– А теперь чем пахнет?
– Ничем не пахнет, – разве можно в этом усомниться?
– Можно в неё мёд наливать?
– Конечно! Даже нужно, – азъ непонятливый тоже не удержался и съязвил. О. – й пронзил меня полувесёлым взглядом, что означало, типа с юмором у него тоже всё в порядке.
– А если бы в миске бензин был или краска? Отмылась бы она кипяточком?
– Нет, конечно! Что за вопрос? Её бы тогда нужно было «Fairy» отмывать, либо ацетоном.
– Вот так и с грехами. Бывают повседневные грехи, которые мы на каждом шагу совершаем, а бывают тяжкие, за которые Бог сильно прогневляется. За такие, как правило, епитимью накладывают. Хотя изначально в переводе звучит как наказание, на самом деле это испытание.
Выдержит человек – значит, раскаялся в тяжком грехе. А если отмахнётся или по немощи своей не сможет, то всю оставшуюся жизнь также вот вонять будет.
Если духовник не наложит епитимью, её наложит Сам Бог в виде скорбей, болезней или жизненных невзгод. Но Господь никогда не даст испытание не по силам.
А если и после этого человек не раскается в содеянном, тогда выходит, что не желает человек исправляться, и на милосердие уже рассчитывать не может. Так и пойдёт в преисподнюю с тяжким грузом, если за него никто молиться не будет.
Взять хотя бы Лота. Разве он праведник был? Но проявил милосердие к ангелам Божьим и по молитвам Авраама спасся из Содома. И дочерей своих спас, хотя они и блудницами были.
А жену его Бог покарал за то, что выдала содомянам ангелов, и те хотели над ними поглумиться, да Господь ослепил нечестивых. Потому и пожалела она о случившемся, потому обернулась, что сама была не лучше своих собратьев. За просто так Всевышний не стал бы её наказывать, помиловал бы.
– Вот смотри, – продолжал трапезарь, показывая мне чисто вымытую шлёнку, – видишь в ней воду?
– Нет, она почти сухая, – не стану же говорить, что без очков плохо не вижу.
– Так же и с молитвой. Вот ты был сегодня на службе, а в голове твоей ветер гулял, ничего не задержалось. Но душа всё равно очистилась и готова принять благодать от Бога. – Авва взял со стола вазочку с душистым монастырским мёдом и вылил содержимое в шлёнку. Затем протянул её мне и благословил вкушать благодать.
Азъ многогрешный любезно поблагодарил старца, однако пребывал в состоянии ступора, по поводу неумения есть по-собачьи. О. – й заметил моё замешательство, но не проявил прыти насчёт пожаловать мне шанцевый инструмент.
Торжественная минута затянулась, и он первый прервал томительное ожидание.
– Ну, что же не вкушаешь, ай не по душе тебе дар Божий?
– Да, м-м-м, эт-та-а, ф-сь-сь… – кроме междометий у меня связанных слов не получалось.
– Вот что значит проявить милосердие! Если бы ты не откликнулся предложить мне свою помощь, то и я бы не дал тебе ложку. Вот и христианин, выходя из храма и видя убогих на паперти, должен проявить милосердие, а иначе он зря потолок коптил в храме битых три часа. Толку от его пребывания – ноль! Благодать он получил, а вкусить её не сможет. Тут же Господь попустит и первый встречный, например, поскандалит с ним и заберёт всю благодать.
Авва – й протянул мне чайную ложечку и терпеливо стал наблюдать за постепенно изменяющимся выражением моего лица. Судя по его реакции, оно изменялось от низшего к высшему, потому что мёд был настолько ароматный и соблазнительный, что можно было перебить им аппетит до голодного обморока.
Тогда трапезарь взял шлёнку и вылил остатки обратно в вазочку. За сим опять предъявил мне её на экспертизу и вопросительно взглянув на меня, задал прежний вопрос: чем пахнет?
– Ясно чем, мёдом, – блаженное выражение ещё не покинуло мой лик.
– Маслины в неё будешь класть? – вопрос был для дураков.
– Ну-у, сначала вымыть нужно. Кислое с пресным не сочетается.
– Вот так и душа, исполненная божественной благодати, противится греху. Даже если ты растерял благодать, всё равно она остаётся на донышке и от человека исходит благоухание добродетели. Если снова не поддашься дьявольскому искушению, душа твоя до тех пор будет источать запах мёда. Но если дьявол слижет благодать без остатка, – тут он взял шлёнку и окатил её кипятком, – тогда греху снова путь открыт, милости прошу к нашему шалашу.
Отец – й наложил в неё доверху аппетитных маслин и определил ей прежнее место на столе. Азъ тем временем пропускал через серое вещество полученную информацию и слегка недоумевал. «Вот же, как всё просто, дважды два – четыре! Всего несколько минут и никаких «китайских» вопросов, аще и никаких дурных помыслов. Всё ясно, как на афонском небе.
А сколько же наши пастыри отнимают у людей драгоценного времени, часами топчутся на проповедях, а воз и ныне там! В одно ухо влетает, из другого моментально вылетает. Нет, чтобы вот так же, чётко, ясно, по-простому объяснить и никаки́х вопросов, никаки́х проблем!
Более полутысячи лет назад Николай Коперник произнёс свою сакраментальную фразу: «Всё гениальное – просто!» И сотворил открытие гелиоцентрической Солнечной системы.
Вот бы не только нашим пастырям, но и нашим депутатам понять эту прописную истину! А то внесли в Думу два законопроекта, «Не убий» и «Не укради», а депутаты уже шестого созыва до сих пор, вот уже более двадцати лет усердно трудятся над поправками. Жалкое племя!
Но депутатам простительно, они обречены «в поддавки» играть, но пастырей-то кто тянет за язык людям голову морочить? Дурак, осознавший, что он дурак – это гений!

Вот и им, если не могут стёжку найти к сердцам своих прихожан, почему бы на Афон не съездить? Да не помыть полы в монастырской трапезной, чтобы получить урок наглядности из уст аввы – я? Глядишь, и жизнь в стране резко бы в гору пошла».
– Ты не суди их, ты в их шкуре не бывал, они, как могут, своё дело делают, – прервал мои размышления мой новый наставник. – После стольких лет духовного гнёта за один день человеку ничего изменить не под силу. Поколения должны смениться.
Моисей, вон, сорок лет евреев по пустыни водил, пока не дошло до них, что земля обетованная – в сердце! Любая земля станет обетованной, если от старых грехов избавиться. Вот и в России, пока жива ностальгия по прошлому, к лучшему только через скорби меняться будет.
Мне ничего не оставалось, как снова поразиться прозорливости и святоотеческой мудрости совершенно неприметного с виду и самого заурядного афонского монаха. К тому же несущего самое заурядное и незаметное, и в то же время самое незаменимое послушание.
Потому как по нерадению своему, любой паломник, не говоря уже о созерцателях, без тени смущения сможет пропустить службу или посещение какого-то монастыря. Но уж трапезу не пропустит никто! И не отпустит авве – ю грех по поводу отсутствия или неисправности чего-либо. И он никогда не отмахнётся, всегда извинится, если что не так, хотя у него всегда всё так. Всё достойно есть! Как в прямом, так и в переносном смысле…

Глава XIII
«Молчание – золото!»

Когда одного старца спросили, почему он ушёл из мiра, он ответил так:
– Пока слово не произнесено, оно – узник того, кто собирался его сказать. Когда же слово сказано, его пленником становится тот, кто произнёс его. Я часто раскаивался в том, что говорил, но ни разу не сожалел о том, что молчал.
* * *

Пробуждение Алексея, надо признать, было не столь блаженным, как хотелось бы. Ощутив давно забытый духмяный запах свежего сена, перемежающийся с пьянящими запахами осени, он вспомнил родное село, отчий дом, детство, юность, унесённую шквальным ветром октябрьского переворота. Новое светлое будущее, которое обещали большевики, обернулось запахами пороха и крови – запахами войны.
И вот колесо истории как бы повернулось вспять, и он снова из войны возвратился в ту далёкую мирную жизнь, где всё было подчинено законам любви и божественной благодати.
Перед глазами Алексея, как и в тот роковой день, промелькнули лица его родных, близких, друзей, однополчан. Уже пребывая в забытьи, он увидел крупным планом лицо Василия, отчего-то смеющегося раскатистым басом.
А, вот от чего! Верный гнедой друг Алексея и его спаситель Храбрец скакал по скошенному лугу, исторгая пламень из ноздрей, а за ним, силясь догнать, бегал рыжий обер-лейтенант и что-то истошно кричал по-немецки. Кажется, «руссиш швайн», но ветер уносил слова за горизонт и там они обращались в молнии, которые летели в Василия, но натыкались на невидимую стену и рассыпались искрами.
И вот уже эти искры светятся на вечернем небосклоне светлячками звёзд, а конь озарился яркими лучами восходящего солнца и нежданно превратился в дракона с чешуйчатым панцирем и мерзкой огнедышащей мордой. Василий вдруг исчез, а дракон, продолжая исторгать пламень, стал подниматься всё выше и выше…
Его зловещая фигура затмила солнце, тем не менее, кругом стало невыносимо жарко, словно в геенне огненной. Жар всё усиливался, дракон внезапно покраснел и с него стали стекать как бы капли расплавленного металла, превращаясь в огненные стрелы.
Алексей вдруг ощутил зримое присутствие своё в этом аду. Одна из стрел вонзилась ему в правую ногу чуть ниже колена, и резкая боль пронзила его по самые пятки.
Он силился вытащить стрелу, но та на глазах превратилась в гремучую змею, которая приблизила пасть с ядовитыми зубами и раздвоенным языком вплотную к лицу Алексея и не зашипела, а почему-то залаяла.
Он хотел понять, откуда вдруг этот жуткий лай, но в ту же секунду появился ангел в сияющем белоснежном одеянии и серебряным мечом отсёк мерзкой гадине голову.
Лай прекратился, ангел вытащил из раны змеиный хвост, подхватил Алексея под руки и полетел с ним навстречу волшебно меняющейся картине обетованной земли, с ярко-изумрудного цвета травой, и кристально чистыми источниками звеняще-родниковой воды.
Птицы с отливающе-золотым оперением наполняли слух малиновым звучанием, и кульминацией картины явилась фигура статной молодой женщины, держащей омофор. Омочив его в хрустальной воде, она приблизилась к Алексею, возложила смоченный край на его пылающий лоб и произнесла своим удивительно задушевным серебристым голосом:
– Алёша, что с тобой? Тебе плохо?
Он с трудом разлепил, будто враз налившиеся ртутью веки, и помутневшим взором увидел над собой побледневше-испуганное лицо Надежды. Она положила на его лоб холодный компресс, а краем своего платка пыталась стереть пот с его лица.
Алексея бил лёгкий озноб, зубы мелко выстукивали «танец маленьких лебедей», а голова не могла найти себе позы от невыносимой горячки.
В конце концов, к нему вернулось способность соображать. Он высунул руку из-под овчинного полушубка, которым Надежда успела укрыть его ещё до пробуждения, и тихонько и нежно провёл по её волосам, плечам, спине. Она по-прежнему, с нескрываемой тревогой, смотрела на него, и снова тихонько произнесла:
– Алёша, ну, как ты? Тебе очень нездоровится?
– Ничего… Терпимо… Бывало и хуже. – Он проговорил эти слова через паузы, с явным сверхусилием. Надежда укрыла его ещё одним покрывалом, а потом прижалась к нему, как бы согревая его своим теплом. Дрожь у Алексея постепенно прекратилась, он уже полностью пришёл в себя и уже вполне отчётливо спросил:
– Что со мной было? Почему ты так перепугалась? На тебе лица нет!
– У тебя жар сильный, видимо отвар подействовал, и организм начал бороться с болезнью. Ты бредил так, что даже пёс услыхал и начал лаять. Хорошо я проснулась, а то бы могли всё село переполошить. Откуда ж знать, кто явился середь ночи? Быстро юбку натянула, платок накинула, схватила топор и к калитке. Марс лаем заливается, ан нет никого. Сбежал, думаю.
Вдруг слышу голос чей-то, мужской, со стороны сеновала. Подхожу, а это ты в бреду мечешься. Тронула лицо – мама ро́дная! Мокрый весь, как лягушка. Скорее тряпку намочила, холодный компресс тебе на лоб положила, обтёрла платком, тут ты и пробудился.
– А… мне… тут… та-а-акое… привиделось… – Алексей говорил всё ещё с трудом, но в глазах уже появился светоч разума, и Надежда заметно успокоилась.
– Не говори ничего, молчи. Тебе силы копить нужно. Лечение лёгким не бывает. Не вмешайся, так омертвела бы нога, а потом либо режь, или плетью бы висела.
Дядька мой на Германской так ногу потерял. Пуля кость задела, а он внимания не обратил. Боль прошла, ну и ладно. А когда хвати-ился-я-а… Ногу оттяпали, да и сам вскоре преставился от заражения крови. Вот ведь как бывает! Ну, что, может, в дом пойдёшь?
– Нет, нельзя! – Алексей враз встрепенулся. – Здесь спокойнее. Если что, – он показал золингеновский штык, – укрыться можно, а найдут, так задёшево не дамся. А в хате не укроешься и не сбежишь если что. Спасибо, конечно, но уж я лучше здесь.
– А если опять бредить начнёшь? Марс всё село на ноги поднимет, что тогда делать?
– Странная кличка, – улыбнувшись, проговорил Алексей.
– Семён придумал. Он у меня астрономией увлекался, даже подзорную трубу смастерил, телескопом её называл.
Сядет, бывало, ночью, до-о-олго в чёрное небо смотрит. Я подойду, спрошу, а он мне говорит, что новую звезду открыл и «Надеждой» назвал, – она засмеялась тихонько. – А потом обнимет меня и скажет: «Смотри!»
Я гляну в окуляр, а там жемчужная россыпь как будто, а в серединке ма-а-аленькая красная звёздочка мерцает. Глаз невозможно оторвать. До-олго так смотрю, пока он не поцелует меня и скажет: «Это мой подарок тебе!»
Забавный он! Где он сейчас? – Надя проговорила последнюю фразу так, будто Семён был в далёкой звёздной экспедиции и затерялся где-то между созвездиями Орион и Центавр.
– Знамо дело, – перелистал Алексей свои совсем недавние жизненные страницы. – Он даже в бараке, где мы в плену сидели, солнечные часы соорудил. Солнечный лучик сквозь крышу пробивался, так он на земле циферблат расчертил и время измерял.
– Он тако-ой. – Надя произнесла это со вздохом отчаяния.
– Да ты не бойся, вернётся Семён. Живой вернётся, вот увидишь. Такая любовь, как у тебя к нему, чудеса делает. Молись только за него, неустанно молись!
– Каждый Божий день молюсь. С земными поклонами. И батюшке каждое воскресенье оброк ношу, чтобы за Сёму моего молился.
Батюшка тоже меня обнадёживает, имя, говорит, у меня такое, потому не должна унывать. Надежда умирает последней. А я не хочу Семёна пережить, хочу, чтобы мы с ним в один день преставились, даже в один час. Как Пётр и Февронья Муромские.
Надежда трижды перекрестилась и, вздохнув, продолжила.
– Это князь жил такой на Руси, в городе Муроме, на крестьянской дочери женился, за то, что исцелила его от проказы. Ни один лекарь исцелить не мог, а она любовью своей и травами исцелила. Хотел он её обмануть поначалу, да хворь возвернулась. Видать, была на то воля Божия, чтобы она́ его женою стала.
Прогневались тут бояре, прогнали их из города, а потом как трон делить начали, так поубивали друг дружку. И слёзно умоляли вернуться в Муром благоверного князя с любимой женой. С тех пор мир в земле муромской воцарился.
Так и жили они душа в душу и умерли в один день, даже похоронены вместе. Их разлучили, а наутро они опять вместе в гробу лежат! Во, чудеса! Это батюшка на проповеди рассказал.
– А у вас что, и церковь есть в селе? Действующая? – удивление снова посетило его.
– Есть. Большевики-то закрыли, священника куда-то услали, на Соловки, вроде. А как немцы пришли, так снова приход стал действующим. Батюшка, отец Амвросий, раньше в Оптиной пустыни служил, монастырь такой есть в соседней губернии.
– Знаю. Мне Вася про него рассказывал. Разбойник, говорят, его построил. Опта его звали. На все деньги, что с убиенных украл, грехи чтоб замаливать. Под Калугой где-то находится.
– Василий это кто? Друг твой?
– Ну, да. С ним мы из плена бежали, он тоже калужский. Невеста его за другого вышла, так, когда у них детки поумирали, она к старцу прозорливому пошла, чтобы тот ей причину открыл, чем она так провинилась, за что ей такое. Тот старец как раз из Оптиной пустыни был.
– Вот и батюшка наш тоже прозорливый. Его как служить поставили, немцы потребовали, чтобы он за Великую Германию молился. А он ни в какую! Одна страна, говорит, есть, Богом хранимая – Россия! За неё и молиться буду!
Когда полицай на него донос состряпал, его в районное отделение гестапо отправили. Там пытали, вроде, хотя не знаю, бабы так говорят. Потом главный его к себе вызвал, приказал ему поминать на службах Великую Германию, а батюшка – нет и всё тут!
Замахнулся тогда фриц, хотел отцу Амвросию пощёчину залепить, а в это время ка-а-а-ак молния сверкнёт среди ясного неба! Немцы перепугались, а батюшка стоит себе, улыбается. Только гестаповец опять замахнулся, тут гром ка-а-ак жахнет! И вдруг дверь открывается, вбегает часовой и кричит: «Пожар!».
Все переполошились, забегали, а отец Амвросий стоит, как стоял, ни слова не промолвил. Немцы туда-сюда, вёдер нет, воды нет – чем тушить-то? А батюшка перекрестился три раза, и такой вдруг ливень полил! Прям, как из ведра! Враз всё потухло.
Тогда гестаповец приказал полицаю отвезти «пастора в кирху», и с тех пор ни одна собака даже духом не заикается ни про какую «великую германию».
Последние слова Надежда произнесла с таким уничижением, как будто речь шла о какой-нибудь болотной кикиморе. За разговорами она не заметила, как небо на востоке начало светлеть, петухи запели утренние серенады, и вскоре пора было уже доить корову.
Алексей немного притомился и снова начал задрёмывать. Надежда решила поменять ему компресс, и когда пришла снова, он уже крепко спал. Она потеплее укрыла его, взяла ведро и направилась к своей кормилице Зорьке, которая уже начала выказывать утреннее нетерпение.
Вот уже алая денница повисла над селом, на небосводе нарисовались все цвета радуги – ночь постепенно сдавала свои права. Надежда закончила утреннюю дойку, подбросила бурёнке свежего сенца, потом неслышно подошла к Алексею.
Он крепко спал всё в том же положении, но на лице его уже не было той гримасы боли, которую она увидела середь ночи. Заперев сарай на захлопку, Надя отнесла надой в сенцы и пошла растапливать печку.
Под утро болезнь опять дала о себе знать, и сон нашего героя снова перешёл в кошмарное состояние. Однако ночных видений больше не повторялось, картины рисовались из обыденной мiрской жизни, исполинские чудища его тоже не беспокоили.
Всадник на белом коне, в рыцарских доспехах и с длинным копьём, чем-то до боли напоминал Василия. Он спокойно гарцевал по скошенному лугу, а над ним парил сонм ангелов в белых одеяниях. Потом Алексей снова увидел ту самую женщину, державшую омофор, хотел ей что-то сказать, но ангел спустился с небес и притворил правою десницею уста его.
Женщина приблизилась к нему. Её лицо было словно покрыто воском, но он неожиданно растаял и лик Богородицы засиял божественным светом. Из уст Ея полилась серебристая речь.
– Не надо ничего говорить. Я и так всё знаю. А людям знать пока рано.
– Что знать? – Алексей говорил мысленно, уста его по-прежнему охранял ангел.
– Знать о твоём чудесном спасении, – Богородица проговорила так, будто пропела.
– Ну почему же, скажи мне, Матерь Божия? – Алексея подхлёстывало нетерпение.
– Брань великая идёт на земле. Потому люди злы и позавидуют тебе. Придёт время, когда брань прекратится, тогда и расскажешь им всю истину.
– А когда же наступит тот блаженный миг? – его будто посетило отчаяние.
– Видишь вон того всадника, что по полю скачет?
– Кто он? Скажи мне, скажи, Матерь Божия, – Алексей взмолился ажник до слёз.
– Это великомученик Георгий. В тот самый день, когда он просияет во Славе Божией, закончится великая брань на земле, тогда ангелы и разрешат твои уста. Тогда и поведаешь людям ту велию милость, что Сын Мой и Бог твой явил тебе и спас тебя. А пока лучше молчи.
Алексей открыл глаза. Хотя на улице было уже совсем светло, в сарайке стоял густой полумрак. Дверь была заперта снаружи, кругом была удивительная тишина.
Обычно сельская жизнь с рассветом кипит как гейзер, но в оккупированном селе даже в страдную пору жизнь как бы притаилась. Люди старались лишний раз не появляться на улице, чтобы не мозолить глаза и не стать случайной жертвой.
Надежды тоже не было видно – видимо она стряпала в доме или работала в огороде. Горячка заметно отступила, и Алексей смог без проблем подняться и размять немного затёкшие мышцы. Но слабость вскоре опять победила, и он снова взобрался на своё ароматное ложе и предался умственному напрягу.
А подумать ему было о чём. Безконечно долго оставаться здесь он не мог: рано или поздно неосторожным шагом можно выдать себя, а тогда и Наде не поздоровится. Но и уходить в неизвестность в таком состоянии равносильно самоубийству.
С Василием вдвоём было проще, а одному путь уготован лишь в могилу. Или к фашистам в плен, что то же самое. Задачку ему ставила жизнь достойно неразрешимую.
Но ведь сказано же ему было Самой Пречистой Девой, что доживёт он до того счастливого дня, когда закончится эта ужасная война, и не будет тогда между людьми этой брани. Жизнь другая начнётся, когда народ снова веру обретёт.
Только велено ему было рта не раскрывать до конца войны. А как же он отчитается, за своё спасение? Кто поверит, что столько времени шатался непонятно где, да ещё и вылечился вдобавок. Ерунда получается. В плен не попадал, к своим не вернулся, так, где же прозябал?
Снова и снова возвращался Алексей к мучившей его мысли и снова и снова не находил ответа. А ответ был, ответ уже крался через лабиринты памяти и вот-вот готов был сорваться с языка радостным возгласом «Эврика!»
И что-то опять тормозило, что-то опять воздвигало препятствие на пути. Что же? «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго». «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй мя грешнаго» «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий…»
Алексей вновь и вновь повторял слова молитвы, пока не услышал голос Марса. Взглянув в щёлку, он увидел Надежду, которая шла к воротам весёлой походкой и улыбалась. Открыв калитку, она впустила во двор немолодую, невысокого роста женщину и проводила её в хату.
Странно, он при этом абсолютно не ощутил страха, более того, почувствовал в этом визите прекрасной незнакомки даже как бы благодать. Необъяснимое чувство не отпускало его до тех самых пор, покуда нежданная гостья не покинула Надин дом и не вышла за ворота.
Ему захотелось увидеть Надежду и обо всём расспросить её. Но та сама уже шла прямиком к сарайке, и вскоре раздалась скрипучая песнь давно не смазанного засова.
* * *
Мои размышления прервал ещё совсем молодой, можно даже сказать, юный монах. Весьма немногословно поприветствовав о. – я, он обратился к нему с просьбой направить помощников на предмет приготовления к вечере. В чём конкретно требовалась помощь, он объяснять не стал, но трапезарь и так понял, да и читателю, думаю, не нужно толковать, каким образом.
Кивком подбородка указав молодому в мою сторону, авва произнёс «вон, бери», и обратился уже ко мне с вопросом:
– Ты же никуда не торопишься? Поможешь отцу Ф – у?
– Куда мне торопиться? Мне ещё двое суток здесь пребывать.
– Тогда иди к нему, он покажет, что делать нужно. На ужин твой любимый салат будет.
Мне ничего не оставалось, как сопроводить отца Ф – а до подсобного помещения, или, говоря проще, до наспех сколоченной досчатой сараюшки, именуемой «разделочная».
Несмотря на скромность убранства, помещение сквозило чистотой и отсутствием беспорядка. Все приборы, кастрюли, различный инструмент и прочие прибамбасы, были до зѣла аккуратно сложены, расставлены и до зеркального блеска вымыты и вычищены.
Что меня ещё сразу располагает к благоприятному отношению, так это готовность инструмента к работе. Если, к примеру, ножи архитупые, то меня не удержать от резюме «каков нож, таков и хозяин». Монах Ф – т в этом отношении был выше всяких похвал, поэтому к послушанию мне довелось приступить без комментариев.
В чём состояло послушание, не собираюсь делать секрета.
Посреди подсобного помещения располагался – даже трудно подобрать слово для определения: жбан – не жбан, кастрюля – не кастрюля, короче, некий сосуд исполинских размеров.
Нет, не пугайтесь, он в десятки, а то и в сотни раз уступал по размерам стадиону «Лужники», но и корытом назвать его сложно. О размерах сего сосуда жаждоутолительной благодати можно судить примерно по таким параметрам, что дабы не пребывать в праздности и унынии, вдоль периметра свободно могли бы разместиться человек пятнадцать.
Гора же содержимого в нём продукта хотя и не дотягивала по высоте до среднего человеческого роста, но только самую малость, и вполне могла соперничать.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?