Текст книги "В поисках Парижа, или Вечное возвращение"
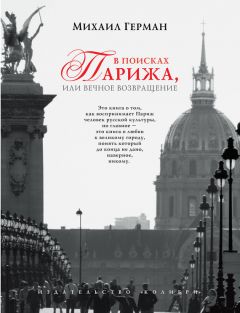
Автор книги: Михаил Герман
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Но прийти к большой литературе, не вкусив пьянящей романтики юношеских головокружительных мифов, тоже вряд ли возможно: не встревоженный искристой фантазией Дюма или Жюля Верна разум – способен ли он услышать Достоевского и Томаса Манна?
Нет, Дюма будут читать всегда, без него мир был бы холоднее и прагматичнее, кровь медленнее текла бы в жилах и дети не умели бы мечтать! Есть в его книгах то волшебное, особенное, что дается только в детстве и остается навсегда. Как говорил Маленький принц: «Ну ничего… Дети поймут».
И не только дети.
Осенью 2002 года прах Дюма перенесли в Пантеон. Наверное, многие негодовали: рядом с Жан-Жаком Руссо, Вольтером, Виктором Гюго, Пьером и Мари Кюри – этот претенциозный беллетрист!
Всадники в лазоревых мушкетерских плащах конвоировали катафалк, и странно блестели шитые золотом кресты в свете современных электрических фонарей. Такой же лазоревой, шитой «мушкетерскими» крестами тканью был покрыт гроб, установленный перед ступенями Пантеона во время торжественной церемонии. На покрывале было вышито: «Все за одного, один за всех».
«У Республики есть свобода, равенство и братство, – сказал у ступеней Пантеона президент Франции. – Но у нее есть еще и Атос, Портос, Арамис и д’Артаньян!»
Как известно, французы не любят соглашаться со своим президентом, протест у них в крови. Но, думаю, здесь произошел тот редкий случай, когда каждый француз согласился с президентом Республики.
Надо все же признаться, что наши переводы Дюма чаще всего посредственны, небрежны или попросту плохи. Отношение к нему сложилось как к писателю второстепенному, привычным стало использование лишь слегка подредактированных переводов XIX века, вымарывание пассажей, несовместимых с советскими взглядами: например, после войны изъяли сцену расправы мушкетеров с мерзавцем, плюнувшим в лицо низложенному Карлу I Английскому («Двадцать лет спустя»).
К тому же, как понял я через много лет, Дюма – весьма тонкий стилист и куда более изощренный мастер психологической интриги, чем можно предполагать, читая его по-русски. Мне казалось прежде, что «Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя» – трехтомный, переполненный длинными диалогами, сложными придворными интригами и слишком многочисленными персонажами последний роман трилогии – куда слабее и скучнее, чем «Три мушкетера», этой звенящей остроумием и звоном шпаг книги. Казалось, историю, столь однообразную, многословную и – особенно к концу – сентиментальную, дочитывают лишь настойчивые поклонники мушкетеров, и то почти без увлечения и удовольствия. А на самом деле «Виконт де Бражелон» написан с нюансировками, ироничным блеском и горечью, сравнимыми по тонкости с Мариво.
В эвакуации, кроме Дюма, Мериме, Жюля Верна и Гюго, я, случайно разумеется, прочел только Анри де Ренье – роман «Дважды любимая», своей почти бесстрастной, но невиданно откровенной эротикой поразивший мое уже встревоженное отроческое воображение. Я перечитал этот роман лишь спустя полвека и поразился, как можно было его воспринять в двенадцать лет – с его церемонной зашифрованностью, утомительной рафинированностью и подробностью деталей, прохладной отстраненностью.
Вернувшись после войны из эвакуации в Ленинград, я наконец добрался до книг, о которых только слышал и мечтал страстно. Я имею в виду энциклопедию. Восемьдесят шесть томов (официально – полутомов) Брокгауза и Ефрона: зеленые переплеты, черные уголки, золоченые корешки – торжественная и суровая шеренга бесконечного всеведения. До сих пор мне чудится: все главное, что я знаю, оттуда. Как бы много ни знала моя мама (а она училась в гимназии, читала массу исторических романов и отлично ориентировалась в истории), энциклопедия – дело особенное: королевский портал в систематическое знание, ответы на все вопросы.
Имея возможность пользоваться энциклопедией, я решил, что вполне могу и сам сочинять исторические романы, естественно из французской жизни.
Я выбрал детство Людовика XIII, время всевластия гнусного маршала д’Анкра и его жены Галигаи. Видимо, потому, что время было – отчасти по книгам о мушкетерах – знакомое, но у Дюма не описанное. Энциклопедия Брокгауза и том популярной истории Йегера казались мне материалом совершенно достаточным. У меня сохранились первые страницы «романа». Я писал, как мне казалось, вполне в духе Дюма, придумывал «блестящие» диалоги и драматические сцены, описывал сцену убийства временщика на Луврском мосту капитаном королевской гвардии Никола де Витри. Правда, написал я не более двадцати страниц, но первый шаг в историческое сочинительство совершил.
Эти страницы сохранились. Первая глава называлась «Королевский приказ» и начиналась так:
Наступило утро 23 апреля 1617 года. В парижских садах запели птицы, торопливые обыватели бежали куда-то, фонарщики тушили фонари. Начиналась жизнь и в Лувре. Вельможи, первые пришедшие во дворец, обсуждали последние новости и вместе с новостями обсуждали и осуждали Кончино, как называли его ненавидящие его люди, или маркиза де Люсиньи, губернатора Амьена и главного камергера, как называли его приспешники.
Были там и беседы жены Кончино Леоноры Галигаи с королевой Марией Медичи, и разговор с Людовиком XIII Шарля де Люиня, склонявшего юного короля к расправе над узурпатором. Коварный де Люинь убеждал монарха с завидным красноречием, утверждая, между прочим, что «решительные поступки свойственны королям и великим людям». Появлялся на моих страницах и лакей «в ливрее из красного сукна, шитого серебром», был и лес, «в котором щебетали птицы», и кабинет «черного испанского дерева, отделанный позолотой», с потолком, «отделанным фресками и лепными украшениями».
Но любовь моя к заграничной истории была слишком пылкой и беспорядочной, чтобы я мог на чем-то остановиться. Баловался и драматургией – писал, так сказать, «комедию плаща и шпаги», но остановился почти сразу после списка действующих лиц, на этот раз испанского толка: «Фемидо – мот и дуэлянт…»
После войны и неведомая мне прежде французская классика стала доступна. И именно французская литература сверх известных своих достоинств – так уж исторически сложилось – готова была отвечать на тягостные и тайные отроческие вопросы. Ведь литература русская редко и неохотно касалась интимных сторон жизни, иные авторы, открыто и прекрасно писавшие о чувственной любви (Бунин, например), были под запретом. А французские писатели приоткрывали путь к познанию того, о чем в русской классике и – разумеется! – в литературе советской говорить было не принято.
Я вовсе не считаю, что чтение классики «не в оригинале» так уж обедняет читателя. По мне, так лучше хорошо знать и толком понять всего Шекспира в переводе, чем, мучительно продираясь сквозь архаические обороты «Гамлета» (трудного сейчас и для англичан), лелеять свою приверженность оригиналу. Мопассан же – событие особенное. В лучших переводах он кажется ясным, простым и прозрачным, как Мериме, на деле же его язык чрезвычайно нюансирован и богат и русских синонимов нередко попросту не хватает. Не будучи филологом и безупречным знатоком языка, не рискну углубляться в тонкости, скажу лишь, что этот писатель – во всяком случае, для меня – пример чисто французской манеры строить мысль и выражать ее словами. Ведь, к сожалению, умение говорить и читать по-французски еще не значит думать и передавать мысль так, как это внятно и свойственно французскому интеллекту.
Мне казалось, я просто увлечен неведомой откровенностью автора, а меж тем мир мопассановского Парижа властно обволакивал меня, «приручал», я привыкал к подробностям парижской жизни, не слишком вникая в них.

Церковь Трините, где Жорж Дюруа – Милый друг – назначает свидание госпоже Вальтер. Случалось, я проходил мимо, почти не глядя, но куда чаще смотрел на нее, вспоминая Мопассана, казалось слыша стук каблучков взволнованной стареющей дамы, угадывая блеск набриолиненных белокурых усов Дюруа в сумраке церкви, шорох колес фиакров по макодамовой мостовой. И все же по сию пору кажется мне: этот жаркий исход июльского дня, паперть, лихорадочную встречу расчетливого и все же слегка влюбленного сердцееда (bourreau des coeurs, как говорят французы) с женой своего патрона, эту знойную тишину, пыльные деревья я почувствовал, увидел и запомнил тогда, впервые читая великий роман:
Площадь Трините была почти пуста под слепящим июльским солнцем. Тяжкая жара давила Париж, словно отяжелевший, пылающий воздух рухнул сверху на город, сгустившийся и кипящий воздух, разрывающий грудь.
Фонтаны перед церковью едва били. Их словно изнемогающие струи вздымались медленно и вяло, а зеленоватая влага в бассейне, где плавали листья и клочки бумаги, была густой и неприятно-мутной.
Собака перепрыгнула через каменную ограду и окунулась в эти подозрительные волны. Несколько человек, сидевших на скамейках полукруглого садика у портала, с завистью смотрели на нее.
Вот кусочек Парижа, и сколько было их еще – и на этих страницах, и в других рассказах и романах. К Мопассану еще будет случай вернуться.
Париж стучался в мое сознание со страниц книг, более всего поражавших мое воображение. «Все люди – враги» Олдингтона – как описана там великая любовь, о которой, читая этот превосходный роман, я тогда, пятнадцатилетний, только и мечтал. Париж не просто был сценой, где действовали герои, он присутствовал в их мыслях, я привыкал к уверенности: этот город – начало всему, он открывает мир, красоту, ощущение иных миров, он – концентрация самого понятия «заграница»:
Он пересек парк наискось и увидел перед собой огромный двор Лувра, его чудесный фасад и высокие шиферные крыши, а когда он обернулся и поглядел назад, взору его открылся уходящий вдаль величественный проспект с Триумфальной аркой в конце. Он был глубоко потрясен благородной простотой этих линий и форм. <…> На середине моста он остановился, чтобы посмотреть на реку. Позади него в широкой пелене пронизанного золотом тумана садилось солнце; стрижи с пронзительными криками чертили стремительные кривые на нежно-голубом небе, прозрачном бледно-голубом небе Иль-де-Франса; река поблескивала на солнце, вздуваясь рябью от вереницы тяжелых, коричневых барж, медленно ползущих за буксиром, выбрасывающим клубы дыма позади двух бесшумно скользящих белых речных пароходиков, наполненных пассажирами. Фасад Лувра, выходящий на набережную, был почти скрыт освещенной солнцем зеленью, а большие серые башни собора казались коленопреклоненными среди вершин деревьев.
Открытием и потрясением на всю жизнь был Джон Дос Пассос: «Три солдата», «42-я параллель», «1919» («Манхэттен» я прочел позже) – романы, поразившие меня слепящей зримостью, умением сказать о никем не определенных раньше состояниях души, резкой и возвышенной откровенностью интимных сцен, вкусом к детали, щемящей печалью, мощью и концентрированностью фраз, способностью написать о том, что таится в закрытой глубине подсознания.
Они сели в такси и быстро пронеслись по улицам, где при тусклом солнечном свете серовато-зеленоватые и серо-лиловые тона смешивались с синими пятнами и бледными отсветами, как сливаются краски в перьях на груди у голубя. Они проехали мимо безлиственных садов Тюильри; на другой стороне поднимались ярко-красные мансардные крыши и высокие трубы внутренних строений Лувра. Они на минуту увидели реку, тускло-зеленую, как нефрит, и ряд платанов, набросанных коричневыми и желтоватыми мазками вдоль набережной (Дос Пассос. Три солдата).
Немалую роль в моей растущей галломании играло и то обстоятельство, что в отрочестве я мечтал стать художником. Не знаю, обладал ли я подлинным талантом, скорее, обо мне можно было сказать столь же нелестно, как Толстой о Вронском: «У него была способность понимать искусство и верно, со вкусом подражать искусству». Профессионалы считали меня юношей одаренным, но, видимо, чего-то главного мне не хватило, к тому же для настоящего художника я жил и мыслил слишком вербализованно.
Тогда же мне представлялась эта профессия романтической и прежде всего рафинированной, как в романе Мопассана «Сильна как смерть». В мастерской должен был стоять аромат роз и духов и царить утонченный интеллектуализм. Увлекался я более всего книжной графикой и рисовал изысканные, как мне казалось, обложки и иллюстрации к разным, естественно переводным, книжкам.
У меня сохранились сделанные силуэтами, во вполне мирискусническом духе картинки к новеллам Мопассана и даже к роману «Наше сердце». Разумеется, я мало что понял в этом романе, но обложка и сейчас вызывает у меня умиление: медальон с изображением влюбленной пары на тропинке Мон-Сен-Мишель, цилиндр и сюртук Андре Мариоля, длинное платье Мишель де Бюрн – все это не было лишено наивного изящества.
Спустя – страшно сказать – почти шестьдесят лет я впервые увидел это дерзновенное и грандиозное создание, эту крепость-монастырь, окруженную морем и вонзающуюся сквозь облака в небо, напоминая о том, что великая архитектура, подобно устоявшей Вавилонской башне, может достигнуть горних заповедных сфер: «Причудливый хаос стрел, гранитных цветов, арок, перекинутых с башни на башню, – неправдоподобное, огромное и легкое архитектурное кружево, как бы вышитое на лазури». И странно соприкоснулись отроческие мечтания с грозной реальностью, но и сейчас они не кажутся мне ни наивными, ни смешными.
И к «Красному и черному» сделал я обложку – белый на черном фоне силуэт юного Сореля с книжкой в руках; и к роману Теофиля Готье «Капитан Фракасс».
Я относительно поздно – лет пятнадцати – прочел тоже знаменитую книгу Дюма «Граф Монте-Кристо» (в том же страстно любимом издании «Academia») и, естественно, был потрясен. Не скрою – этот роман по сию пору немало значит в моей жизни, думаю, не только в моей, просто об этом стесняются говорить. Сумрачная рыцарственность Дантеса – Монте-Кристо, благородная романтическая месть, абсолютная власть над всеми и над собой. А для меня это было и первой влюбленностью в Рим, в эти названия – Монте-Пинчо, Корсо, Пьяцца дель Пополо, Виа дель Бабуино, палаццо Росполи (итальянцы произносят «Русполи», но ведь так я прочел в любимой книжке, и это – важнее!) – все то, что я увидел в реальности, быть может, слишком поздно – почти полвека спустя. И никакая история искусств этих «монте-кристовских» – моих! – ассоциаций не затенила. А в августе 1965-го я смотрел с марсельского берега на замок Иф, где четырнадцать лет провел Дантес – будущий граф Монте-Кристо. Туда можно было съездить всего за пять франков, но из моих спутников-туристов никто не захотел потратиться, а ехать одному в ту пору строжайше запрещалось…
Но был там и Париж, он ощущался фоном. Как легкие наброски пером на полях книги, все эти особняки времен Июльской монархии, улица Эльдер, Шоссе-д’Антен, Отёй, Елисейские Поля, цветные фраки, ложи в Опере, балы. И тоже я рисовал иллюстрации-силуэты с кораблями, каретами, канделябрами, цилиндрами, замками…
В пятидесятые годы, когда я был уже студентом, Париж стал мелькать и в кино, наступало время великого французского неореализма, сурового и поэтичного. Началось все, разумеется, с итальянских картин, хотя первый потрясший тогда всех фильм «У стен Малапаги» был совместный – итало-французский – и главную роль играл француз Жан Габен. Открывался иной порог откровенности, безжалостная и вместе с тем добрая правдивость. Оказывается, положительный герой может пить вино, любить неправедных женщин, быть и справедливым, и несправедливым, что по небритому его лицу могут течь слезы и пот… Как все это уживалось в сознании? Едва ли не одновременно я смотрел и очередной фильм о Сталине, где вождь в Гражданскую войну лихо мчался на подножке бронепоезда…
Летом 1953-го я посмотрел французский фильм «Их было пятеро» режиссера Жака Пиното, старшего брата куда более знаменитого, вошедшего во все энциклопедии Клода Пиното. Тогда Пиното-старшему не было и тридцати.
Ничего подобного прежде я не видел и даже не воображал, что подобное может быть. Невиданное смешение тонкого психологизма, романтики и почти циничной жесткости, сентиментальный детектив, соединенный с кровавой драмой. Пятеро солдат, равные друзья на войне, они разъединены наступившим миром. Один вернулся к своей профессии почтальона, другой вновь почувствовал себя маркизом, о чем забыл на войне, третий пытается вспомнить, что был боксером, четвертый остается в армии, пятый – актер, ищущий работу.
Главной сенсацией для наших зрителей была сцена с постелью. «Из затемнения», как пишут кинематографисты, возникала комната, где актер Роже, в расстегнутой сорочке, сидел на краю кровати, а жена его друга-почтальона – Симона – накидывала поверх рубашки халатик.
– И это произошло в его постели!
– И в моей, дорогой.
Такого в советском кино не случалось никогда, и зрители обмирали. Правда, в фильме было столько горечи, боли и изящества, что непривычная откровенность только прибавляла подлинной печали.
Валери (Арлетт Мерри) – сестра Роже – пошла на панель. Незабываемый диалог. Брат спрашивает:
– Чем ты занималась во время войны?
– Делала долги.
– А теперь?
– Расплачиваюсь.
Прекрасная Валери с жестким запекшимся ртом. В нее влюбляется маркиз, высокий, невиданно элегантный, грустный и мужественный, – его играл тогда совсем еще молодой, ставший потом знаменитым шансонье Жан-Клод Паскаль. Они молча поднимаются в вагончике фуникулера на Монмартр.
Не забыть черно-белый вечный Париж начала пятидесятых в душных маленьких залах ленинградских кинотеатров, эти тонкие, сухо и нежно очерченные лица, грустное веселье, улочки и дома из детских мечтаний, крохотные квартирки, крутые монмартрские улочки, печаль без нытья, пронзительная радость нищей и вольной жизни, любовь, горечь, никаких «производственных тем» – лишь страсть, нежность, печаль, жизнь, город-фантом, который никогда не суждено увидеть, который, наверное, существует только на этой выцветающей, поцарапанной пленке…

А еще «Пармская обитель» (1947) с Жераром Филипом, с Марией Казарес… Стендаля тогда, разумеется, я не читал. На меня подействовали не только сюжет и актеры, но даже имена героев, которые и сейчас не могу произносить без волнения: Клелия Конти, граф Моска, Фабрицио дель Донго, графиня Пьетранера – герцогиня Сансеверина – прельстительная и печальная Джина… Фильм следовал Стендалю отнюдь не прилежно, и в том пряталась несомненная его удача. Позже смотрели с тем же Жераром Филипом «Красное и черное» – фильм красивый, цветной, тщательно следовавший букве и духу книги. Получилась красивая иллюстрация. А здесь, в «Пармской обители», – далекая от пристальной, глубокой, но суховатой прозы Стендаля поэтическая трагедия, полная приключений и пылких страстей, без отступлений и рефлексий. А может быть, просто я был в таком возрасте, когда все воспринимается с пронзительной и грустной восторженностью. Стендаля же тогда прочесть не смог. Слишком подробно, неживописно, медлительно и толсто. И все же не поворачивается язык сказать, что кино чему-то помешало. Быть может, и наоборот. Как любил я и Клелию, и грустную, всеведущую Джину.
Париж возникал как постоянный герой едва ли не всех французских фильмов. «Антуан и Антуанетта» Жака Беккера, и эта очаровательная при всей ее сентиментальности (недавно я вновь ее посмотрел) картина Жана Поля Ле Шануа «Папа, мама, служанка и я» с Николь Курсель, великолепным Фернаном Леду и еще не слишком известным Луи де Фюнесом. Там была непридуманная, недосягаемая Франция, монмартрские улочки, застенчивая доброта, горькие шутки. Но она была настолько настоящей, что казалась сказкой. И «Адрес неизвестен» того же Ле Шануа, где добрый таксист – Бернар Блие – возил провинциальную девушку по всему городу, и снова Париж, Париж… А «На окраине Парижа» («Porte des Lilas») Рене Клера с Брассансом я тогда не понял, к этому фильму я еще вернусь.
Вышел и советский фильм о Франции «Убийство на улице Данте» знаменитого Михаила Ромма. Невероятно мелодраматический, про то, как гнусный юный неофашист Шарль Тибо убивал свою прогрессивную и боровшуюся за мир мать Мадлен Тибо. Не думаю, что так уж привлекла Ромма искусственная и ходульно решенная тема о Сопротивлении. Но сделать фильм о Франции!.. Давно, в 1934 году, он снял немой фильм по новелле Мопассана «Пышка», имевший успех даже за границей. Французы у Ромма непрерывно и горько острили, грустно смеялись, весело и мужественно умирали, носили береты, пили вино и скрывали страдания – куда было до них, наверное, французам настоящим! Где-то разыскали или сделали изысканные аксессуары красивой французской жизни, вплоть до галстуков. Никого тогда (даже знаменитых режиссеров) за границу не пускали, и в фильм был вмонтирован кусочек видовых съемок – площадь Согласия, куда выглядывали герои, распахнув окно. Фильм был знамением времени – условным, но все же прикосновением к Западу.
Что мне, мальчишке, униженная тоска по Парижу – не более чем очередное отроческое мечтание! Все же, вопреки всякой логике, где-то в иррациональных глубинах души копошился эмбрион надежды: может быть, когда-нибудь… А на что могли надеяться люди стареющие, интеллигенты, мечтавшие о Париже полвека?
В середине пятидесятых появился робкий заграничный туризм, разумеется для избранников системы, проверенных, партийных, блатных, реже – для совсем уж почтенных и знаменитых, которым даже советские функционеры не могли отказать. В третьем классе теплохода «Победа» удалось проехать даже Константину Георгиевичу Паустовскому. Шестидесятичетырехлетний писатель, с детства грезивший о Париже, был наконец высочайше допущен. Стыдно, но, с другой стороны, – я по себе это знаю, когда поездка в Париж воспринималась подарком судьбы, – как обострены были глаза и чувства. Какой наивный и трогательный до слез очерк «Мимолетный Париж» опубликовал мудрый стареющий литератор:
Я с полной ясностью представил себе, что через три дня я впервые в жизни увижу Париж. Я наконец поверил в это, и у меня начало тяжело биться сердце.
Сколько унижения за этими строчками и сколько восторженной романтики! Это был, как всегда у Паустовского, артистично и восторженно написанный текст, с массой романтических ассоциаций и, думаю, выдуманных (или сильно поэтизированных – Паустовский славился неуемной, почти мюнхаузеновской фантазией) подробностей и диалогов с парижанами и парижанками, но это был именно тот, выстраданный десятилетиями, отчасти выдуманный, книжный, но все же увиденный в реальности (в которую и ему, знаменитому писателю, едва верилось!) город.
Теперь, в иной жизни, избавляясь от рабского, репрессированного сознания, мы теряем это ощущение подарка судьбы. Вероятно, это хорошо и уж во всяком случае естественно, если бы только не забыть, что Синяя птица внутри нас и от каждого зависит, как ощущать себя в Париже и в первый, и в сороковой раз!
К концу пятидесятых кое-кто из моих институтских преподавателей уже попадал за границу в туристических группах. Только партийные, проверенные, и то по блату. Но ездили. Помню, как робко и восторженно смотрели мы на первого из них, вернувшегося из Чехословакии. На нем был берет (!) и изящнейший крошечный значок в петлице сверхмодного плаща. Хотелось до него дотронуться, как до космонавта.
Множились пропагандистские очерки и выступления – «допущенные» радетели режима отрабатывали поездки, понося парижскую тяжелую жизнь, безработицу etc. Вежливость они называли лицемерием, умение работать – «потогонной системой», отсутствие очередей объясняли бедностью: парижане покупают «двести пятьдесят граммов мяса и килограмм картофеля на обед, два банана или сто пятьдесят граммов клубники на десерт». Все рассказы и выступления неизменно заканчивались восклицанием: «В гостях хорошо, а дома – лучше!» Впрочем, такое случается и нынче.
Очерк о поездке начинался обычно так: «Наш самолет оторвался от бетонной дорожки Шереметьевского аэродрома. Еще в полете мне на глаза попалась (этим выражением обозначалась и случайность, и знание французского языка, причем, разумеется, и то и другое было враньем) газета „Юманите“, где рассказывалось о героической борьбе французских рабочих за свои права, за мир и социальную справедливость» – и кончался словами: «Мы возвращались на родину, унося с собой теплое чувство к трудолюбивому французскому народу, борющемуся за свои права, за мир и социальную справедливость».
Раньше я смеялся над такими пассажами, теперь становится страшно и жалко. Каким тоскливым бредом сочились «дырявые души» (Евгений Шварц) моих сограждан, которые не в силах были понять, что в магазинах мало народу, поскольку нет дефицита, что покупают мало продуктов не от бедности, а от любви к свежей еде. А уж упоминать о бананах в Советском Союзе и вовсе неприлично: они были редкостью и за ними выстраивались безумные и постыдные километровые очереди.
Еще одна доподлинная цитата:
…Почему бы не вспомнить, находясь в Париже, любуясь стройной, розовой в лучах утреннего солнца Вандомской колонной, что все великолепие зданий, окружающих площадь Вандом, – результат потоков пролитой самими французами и их противниками крови во всех концах земного шара, в неисчислимых больших и малых захватнических войнах?
И почему же нельзя вместо перспективы фешенебельной улицы Мира хотя бы на миг мысленно увидеть проспект Мира в Москве, построенный в наши дни в результате героического, свободного труда советских людей?[2]2
В. Сытин. Совсем немного Парижа. М., 1962, с. 31. Даю точную ссылку, поскольку современный читатель может просто не поверить, что такое писалось и печаталось.
[Закрыть]
Что тут скажешь.
В 1958 году «Новый мир» опубликовал книгу Виктора Некрасова «Первое знакомство». Автор единственной известной тогда честной книги о войне «В окопах Сталинграда», Некрасов написал, казалось бы, скромные путевые заметки о поездке в Италию и во Францию с горькой болью за собственную страну, с нежностью к тем другим, еще не слишком понятным странам, написал серьезно, умно и весело. Сколько было хулы по поводу этого очерка! Он ведь любил свою советскую (именно советскую!) страну, а она выгнала его за «антисоветчину»! Хорошо, наверное, что последние годы жизни он прожил во Франции, которую любил и понимал (и в которой, кстати говоря, жил маленьким мальчиком в годы Первой мировой войны («Мать, окончившая в свое время Лозаннский университет, работала тогда в одном из парижских госпиталей, я же <…> пасся в парке Монсури»). Не мне судить о том, каково ему там жилось в последние годы. Но уж, конечно, лучше, чем в предавшей его стране.
Впервые съездил за границу любимый мой профессор, европейская знаменитость Владимир Францевич Левинсон-Лессинг. Он бывал там еще ребенком, до революции, можно считать, и не бывал. Вернулся из Бельгии и Голландии просветленным и успокоенным. Белые манжеты виднелись из-под рукавов серого модного пиджака, щеки, выбритые с новой тщательностью, приобрели европейский свежий глянец, невиданные по элегантности очки блестели на носу. Повизгивая от любопытства, мы задавали ему поспешные вопросы. «Что привезли?» – «Да вот очки…» – «Что больше всего вам понравилось?» – «Знаете, там в ресторанах совсем не пахнет едой, нет этого тяжелого запаха, как у нас», – ответил Владимир Францевич и поник головой, смутившись, что не об искусстве говорит. До чего довели всех нас и даже Левинсона-Лессинга, этого небожителя! Но он обрел забытую уверенность в своей значительности, за границей его знали. Там был он дома: все знал, говорил на всех языках.
А у меня с языками продолжались кокетливые и, в сущности, пустые отношения. Мне страсть как хотелось трещать по-иностранному, но учиться я не любил. В эвакуации языки не преподавали вовсе. В Ленинграде в школе был, условно говоря, английский. Занятия сводились к составлению вопросительных и отрицательных фраз, к контрольным и переводам элементарных текстов из учебников – что-то про «Red Army men», маршировавших на «Red Army parade», и проч. Учительница иногда произносила «английскую фразу»: «Вы вели себя вери бэд, и я поставлю вам ту».
Учить же в институте нас стали французскому. Примерно как в школе английскому. Грамматика, спряжения, неправильные глаголы. И тексты – про Place Rouge и Mausoléе de Lénin. Говорила по-французски наша преподавательница с дурным прононсом и сильно запинаясь. Признаюсь, эти уроки еще более охладили мою гаснущую страсть к французскому: я увлекся английским, на нем можно было болтать со случайными иностранцами, шведскими или датскими моряками и вообще задаваться.
Зато была на нашей кафедре иностранных языков великолепная горбоносая дама (мне она казалась старой, но ей не было, наверное, и пятидесяти), нищая, но с горделивой осанкой герцогини в изгнании, – Тамара Георгиевна. Отец ее был грузинским аристократом, мать – французской актрисой, покойный муж – цирковым клоуном. Она естественным образом говорила по-французски и по-немецки (куда лучше наших учителей), но преподавать не имела права, поскольку не получила «высшего образования». Занимала унизительное для ее природного блеска место лаборантки, без конца перепечатывала учебные тексты. Никогда не ныла, острила, порой весьма рискованно, ее грудной, очень низкий, чуть с хрипотцой актерски-барственный голос царил на кафедре. Она всегда была бодра и весела, «держала лицо», а жила впроголодь, на кефире и картошке. Она видела во мне примерно то же, что и я сам, – какую-то мнимую причастность французскому языку, и не то чтобы давала мне уроки, но говорила со мной, немножко учила, и иногда я даже приходил в ее нищую аристократическую комнату в коммуналке, чтобы почитать вслух какие-нибудь французские тексты. Приходил преступно редко!
Сейчас уже трудно представить себе, насколько тогда было в диковинку хоть какое-то умение говорить на иностранном языке. Да и слышать его было большой необычностью. Тем более французский!
Много лет спустя, в 1969 году, научившись относительно сносно говорить по-французски, я получил царский подарок от милого коллеги, с которым мы «советскими туристами» прилетели в Брюссель. Услышав, как я говорю, он сделал мне комплимент, на что я возразил: «Но ведь вы же знаете немецкий лучше, чем я французский!» Ответ был афористичен, и я запомнил его навсегда: «Знание немецкого – это знание языка, а французского – человеческое качество!» И хотя в этом суждении мало логики и даже есть некая надменность по отношению к другим замечательным языкам, я ощущаю его как истину в последней инстанции.

Я принадлежу к поколению, учившемуся в смутные времена: мы начинали при Сталине, диплом защищали при Хрущеве. Нас учили плохо, немногие прекрасные преподаватели не восполняли отсутствия серьезного системного знания у большинства других. Языкам же учить и не старались («С тех пор как его величество объявил, что наша нация есть высшая в мире, нам приказано начисто забыть иностранные языки», – говорил известный персонаж Евгения Шварца), а мне хотелось знать языки страстно. Но я ленился, хотя временами начинал учиться сам, яростно и настойчиво. Понемногу даже кое-как заговорил – сначала по-английски, потом и по-французски.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































