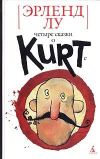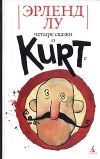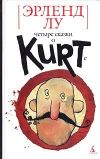Текст книги "Стезя смерти"

Автор книги: Надежда Попова
Жанр: Историческое фэнтези, Фэнтези
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 35 страниц)
Глава 22
Долгие июньские дни, становящиеся все жарче, влачились медленно, перетекая в столь же длинные и жарко-душные ночи.
Бессонница возвращалась все чаще; все чаще Курт, лежа на боку, глядел в распахнутое окно, где над соседней крышей, неспешно сползая от одного края к другому, парила луна, ночь от ночи все более полнящаяся, все более явственная и отчетливая. В одну из таких бессонных ночей на землю обрушился дождь – сплошной темной стеною, скрыв небесное светило плотными тучами. В ту ночь он до утра просидел у окна, бесцельно глядя на улицу, где, скрывшийся за углом противоположного дома, был им однажды запримечен приставленный от начальства «хвост». Все прочее время увидеть следящих за ним агентов не удавалось, однако Курт знал, что они есть, а временами предполагал даже почти с уверенностью, где именно; как и в прочих дисциплинах, преподаваемых в академии святого Макария, в искусстве слежки выпускник номер тысяча двадцать один весьма преуспел, а посему, если б имел таковое желание, мог бы, хоть и изрядно потрудившись, вычислить надзиравших за ним и даже, быть может, от них оторваться…
Кёльн жил своей, отдельной от него жизнью, и временами казалось, что судьба странной прихотью забросила Курта в город призраков, где он существует вместе с жителями и одновременно словно в каком-то ином, отличном от их бытии, или это он сам – бесплотный призрак, до которого нет никому дела. К реальности возвращали лишь взгляды, встречаемые изредка и напоминающие о том, о чем и сам город стал уже забывать. И даже взглядов становилось все меньше, все реже доводилось встречать чьи-то глаза вовсе – Кёльн заполнялся торгашами и крестьянами, начинающими свозить на рынок первые дары лета.
Несколько раз Курт заходил в кёльнский собор, останавливаясь неподалеку от говорящего проповедь князь-епископа, слушая произносимые им слова и следя за выражением его лица, глаз, думая, что в десяти шагах от него стоит человек, не ведающий о том, что ждет его в недалеком будущем. «Stat sua quisque dies»[173]173
Каждому предназначен свой день (лат.).
[Закрыть], звучало в мыслях. Stat sua quisque dies…
Для чего он приходит сюда, Курт до конца понять не мог: чувства, одолевающие его, были странны и непонятны ему самому. Он смотрел на лоснящееся, словно бы опухшее лицо над богатой ризой, самодовольное и нарочито-возвышенное, на уверенные движения, на массивную тушу, столь явно соответствующую тому образу священства, что установился в людском представлении об оном, и пытался вообразить себе момент, когда жизнь покинет это раскормленное тело с проданной золоту душой. Не сложится ли так, что некий бог, бесчувственный и равнодушный бог неправедного обогащения, существует где-то в необозримых далях той, иной стороны бытия, и душа эта в самом деле отдана ему, передана навеки, хотя и без оглашенного и подписанного договора, и именно к нему отойдет после гибели тела?..
Мысленному взору не раз виделось, как, заперши дверь, эти пальцы, похожие на покрытые волосом сосиски, пересчитывают то, что вскоре придется оставить, уйдя туда, куда золоту доступа нет… Ни разу Курту еще не доводилось видеть обреченного на смерть – вот так, явно. Ни одно из его дознаний еще не завершалось приговором, и не было еще человека, глядя на которого можно было бы сказать с уверенностью – «завтра эта жизнь оборвется». Но даже и тогда все было бы иначе, ибо сейчас он смотрел на того, кто наслаждается бытием без боязни, без подозрений, без сомнения. Кто полагает, что впереди у него дни и годы безоблачной счастливой жизни…
Маргарет день ото дня тоже становилась все сосредоточенней и задумчивее, порою до сумрачности, и в один прекрасный день, плюнув на условности и остатки приличий, Курт едва не силой вытащил ее на загородную прогулку, реквизировав для этой цели курьерских лошадей Друденхауса, не спросив на то дозволения и никого не поставив в известность. После недолгой поездки шагом и короткой рыси они остановились далеко в полях, на пологом берегу Райна, и провели там почти весь долгий и ослепительно-солнечный день. Возвращались уже к вечеру, пересекая улицы под взглядами горожан, и на набережной разминулись с таким же, как у них, курьерским с сосредоточенным, усталым седоком. Курт остановил коня так резко, что едва не вскинул его на дыбы, чувствуя, как довольная улыбка сползает с лица.
– Курьер от попечительского отделения, – пояснил он вполголоса, глядя вслед грохочущему по мосту скакуну. – Пришел ответ на донесение Керна.
– Тебе нечего бояться, – столь же тихо, убежденно отозвалась Маргарет. – Он обещал мне, что тебе ничто не грозит, и я верю в его возможности.
– Может, и так, – вздохнул Курт, – однако все равно придется явиться к старику. Лучше сегодня; ненавижу безвестность.
Долго терзаться безвестностью ему не пришлось: уже в приемной зале он наткнулся на Ланца, которому Бруно, сумрачный, злой, втолковывал что-то, отчаянно жестикулируя. Увидев Курта, оба умолкли; молчание провожало его до двери к лестнице, молчание и – ощутимые всем телом взгляды в спину. Лишь когда он поставил ногу на первую ступеньку, позади послышалось тяжелое:
– Гессе!
Он обернулся медленно, встретившись с темным взглядом Ланца, и тот шагнул ближе.
– Из кураторского отдела пришел ответ на донесение Керна, – сообщил Дитрих, и Курт приподнял бровь в наигранном удивлении:
– Донесение? В смысле – донос на меня, ты хотел сказать?
Старший сжал зубы так, что натянулась на скулах кожа, но на его слова ничего не ответил.
– Либо ты везучий, мерзавец, – продолжил Ланц негромко, выцеживая слова с напряжением, – либо у твоей ведьмы и впрямь немыслимые связи… Радуйся, сукин сын.
Курт лишь пожал плечами, отвернувшись от полыхающего взора своего бывшего подопечного, молчаливого, как смерть, и вновь развернулся к лестнице.
Керн был многословнее и в выражениях на ту же тему гораздо несдержаннее. Маргарет оказалась права: ответ, привезенный курьером, был четким и недвусмысленным – следователь четвертого ранга Курт Гессе действовал ad imperatum et summo studio omnino[174]174
Cогласно предписаниям и с величайшим усердием во всех отношениях (лат.).
[Закрыть], и причин к проведению собственного расследования попечительским отделом Конгрегации нет…
О вышеупомянутой переписке уже через три дня стало известно половине Кёльна. Курт был убежден, что невольным распространителем сведений стал Бруно; видя курьера и зная, что о его выходке Керн не мог не сообщить наверх, студенты наверняка насели на его бывшего подопечного, требуя сказать, почему до сих пор не арестован столь явно предавший Конгрегацию следователь. А получив ответ, слушатели кёльнского университета в который уж раз воплотили в жизнь местную пословицу «если что-то известно хотя бы двум студентам»…
Уже не раз до Курта доходили сведения о том, что в студенческом трактире часто разгораются споры и случаются даже рукоприкладства между приверженцами идеи виновности некогда арестованной пфальцграфини фон Шёнборн и теми, кто искренне (либо же от нежелания над тем задумываться) полагал ее оговоренной, а дознавателя Гессе – исполнившим свой долг. А однажды вечером, за сутки до ожидаемой ночи, в кривом и тесном, как дешевый сапог, проулке, возвращаясь из Друденхауса, Курт столкнулся почти в буквальном смысле нос к носу с приятелем покойного университетского секретаря. Тот стоял, привалившись плечом к глухой стене одного из домов, глядя так, что стало понятно сразу и без сомнений: Герман Фельсбау поджидал здесь майстера инквизитора, поджидал давно и намерен был ждать до последнего. На сей раз тот был трезв, однако взгляд горел лихорадочно и отчаянно, а движения, хоть и уверенные, были рваными и излишне резкими. Преодолев желание отступить назад, Курт, лишь чуть замедлив шаг, приблизился, пытаясь за эти несколько шагов решить, как лучше поступить в этой ситуации – пройти мимо молча, поздоровавшись или же остановиться…
– Я жду здесь вас, – без приветствия сообщил ему Фельсбау, когда оставалось лишь два шага, тем самым избавив его от необходимости выбора, и Курт встал на месте, пытаясь понять, насколько студент решительно настроен.
– В самом деле? – уточнил он ровно, и приятель Шлага, оттолкнувшись от стены, шагнул вперед, остановившись почти вплотную, отчего желание отступить стало еще крепче, а в голову пришла мысль о том, что закон, дозволяющий студентам носить оружие, надлежало бы пересмотреть.
– Полтора месяца назад, – тихо, четко выговаривая каждое слово, произнес студент, глядя ему в лицо, – говоря со мною, вы сказали, что я должен думать о том, как восстановить справедливость. О том, что, если я настоящий друг Филиппу, я должен говорить с вами, потому что только вы можете покарать преступника. Вы это помните, майстер инквизитор?
– Разумеется, – кивнул Курт, пытаясь не поддаться болезненному настойчивому взгляду и не отвести глаз.
– Вы нашли того, кто виновен в его смерти. Точнее, «ту, что была виновна». И вы – я знаю, именно вы – сделали так, чтобы она оказалась на свободе. Я слышу слишком многое и потому хочу услышать ответ на свой вопрос именно от вас, майстер инквизитор. Сейчас, сей же миг, глядя мне в глаза, скажите: она в самом деле невиновна?
Одно тяжелое, нескончаемое мгновение висела тишина; наконец, негромко, тщательно следя за собственным голосом, Курт отозвался:
– Да.
Тишина осталась еще на один миг – такой долгий, невозможно бесконечный – и Герман Фельсбау, положив руку на ремень с оружием, выговорил почти уже шепотом, беспреклонным и уверенным:
– Вы лжете.
Курт медленно опустил взгляд, глядя на то, как подрагивает его ладонь, тихо подбирающаяся к оружию, и снова посмотрел в горящие глаза напротив.
– Ты знаешь, что бывает за покушение на инквизитора? – спросил он спокойно, и Фельсбау, побелев, точно выгоревший саван, откликнулся, ни секунды не промедлив:
– Плевать.
Третий миг тишины упал, как гранитная плита, тяжко и мертво.
– Герман!
По плите пробежала трещина, и мгновения вновь стали краткими, стремительными, такими, как им и положено быть; Фельсбау вздрогнул, но на голос Бруно за своей спиной не обернулся.
– Герман, не глупи, – тихо попросил подопечный, медленно приближаясь и осторожно, шаг за шагом, вклиниваясь между ними. – Не надо.
– Это не твое дело, Хоффмайер, – не отрывая взгляда от глаз Курта, бросил студент, и Бруно опустил руку на его ладонь, прижав и без того стиснутые пальцы к рукояти и не давая шевельнуться.
– Это мое дело, – возразил он наставительно. – Когда на моих глазах человек роет себе могилу, – это мое дело. Герман, даже не думай. Ты совершаешь глупость.
– Плевать, – повторил тот, и Бруно сжал пальцы сильнее.
– Он накромсает тебя на ломти. Поверь, я знаю это лучше, чем кто бы то ни было; и, если ничто иное тебя не тревожит, ты при этом не успеешь сделать то, что хочешь сделать… Да уйди же хоть ты отсюда к черту! – не сдержавшись, выкрикнул подопечный, полуобернувшись к Курту, и он, неспешно отвернувшись, зашагал прочь, слыша, как за спиной зашуршали мелкие камешки под подошвами – Фельсбау рванулся ему вслед, вновь силой удержанный на месте.
– …не его, так ее! – донеслось до слуха, уже когда Курт готов был повернуть за угол.
Он остановился, окаменев на месте всего на миг, и, круто развернувшись, тем же размеренным шагом возвратился обратно.
– Черт, дурак… – обреченно прошипел Бруно, глядя на него почти с ненавистью, по-прежнему держа студента за ладонь, рвущуюся к рукояти.
Курт требовательно вытянул руку:
– Оружие, Герман. Лучше сам.
– Не надо, – попросил Бруно тихо, и он повторил настойчивее и жестче:
– Оружие!
– Прекрати, это уже переходит все границы – даже для тебя!
– Разве? – не оборачиваясь к подопечному, переспросил Курт. – Этот человек угрожал мне и – пфальцграфине фон Шёнборн; или ты скажешь, что ты не слышал этого?
– Ничего, – губы Германа Фельсбау дрогнули в кривой нервной ухмылке, и, рванувшись, тот таки высвободил руку, одним движением расстегнув пряжку ремня с оружием. – Пусть так. Держите, майстер инквизитор. Однако, что же – вы полагаете, что, арестовав меня, вы заткнете рот половине города? Ошибаетесь.
– Посмотрим, – возразил Курт, за плечо развернув его в сторону, откуда только что пришел, – на улицу, ведущую к башням Друденхауса.
Бруно шел позади – молча, но неотступно, а войдя в каменную башню, бегом метнулся наверх, к комнате Керна, откуда вышел спустя четверть часа – взбешенный и бледный. Выслушать мнение начальства о своих действиях Курту все же пришлось, однако Герман Фельсбау остался в подвале Друденхауса в одной из камер под надзором хмурого стража.
* * *
Вечер накануне означенного часа был сумрачным и прохладным, укрытым густеющими тучами, несущими в себе дождевое предвестие. Курт, вчера нарочно просидевший бо́льшую часть ночи в бодрствовании, проснулся далеко за полдень, почти даже к вечеру, когда в воздухе уже слышались колокола, извещающие горожан о начале вечернего богослужения. Пища, которую он остерегся назвать завтраком, была поглощена без ощущений вкуса или запаха, и спустя полчаса, шагая по вечерним улицам Кёльна к собору, Курт уже не мог даже припомнить, что именно было ему подано и в каком виде.
Вопреки собственным опасениям, нервозности он не ощущал. Разумеется, были в душе и напряженность, и нетерпение, и некоторая настороженность, однако ожидаемого им от себя страха или хоть тени боязни почему-то не было; быть может, попросту оттого, что никак не могло изобразиться в мыслях подробностей или хоть некоторых приблизительных представлений о том, что сегодня могло его ждать.
Незадолго до окончания повечерия Курт проскользнул сквозь довольно густую сегодня толпу в сторону, пройдя за колоннами, и быстрым, почти бегущим шагом поднялся по лестнице колокольни к крохотной комнатке под самой кровлей. Отслеживающие его агенты сегодня на глаза не попадались, однако тот факт, что они продолжают надзирать безотвязно, был непреложен. Те, что вели Маргарет, были заурядными профанами, то и дело попадавшими даже в ее поле зрения, не искушенного подобными испытаниями; избавиться от них ей не составит труда и без его помощи.
Курт уселся на полу полутемной тесной комнатушки, прислонясь затылком к холодной каменной стене и глядя на окружие дневного светила, уже коснувшегося одним боком видимой отсюда, с высоты крыши магистрата. Солнце, желто-белое, словно очищенное перезрелое яблоко, склонялось к закату неспешно, издевательски медлительно, забираясь за крыши домов неясным расплывчатым пятном, словно размазанным по небу серо-синими тучами. Вечернее богослужение тоже казалось длинней обыкновенного, и когда над головой, оглушая, вновь зазвучали колокола, вначале даже не поверилось, что нет еще и семи пополудни. Однако когда утихли отголоски литого звона, когда перестали доноситься снизу, со двора собора, голоса расходящихся прихожан и служек, со временем приключилась совершенно обратная напасть – оно помчалось вдруг, словно застоявшийся курьерский, и солнце точно бы ухнуло в окоем, как будто кто-то попросту вогнал его за край земли. Темнеть стало внезапно – и по вине разогнавшихся почему-то минут, и из-за все более сходящихся над крышами туч, и когда плотные сумерки стали растворять контуры окна, вновь не поверилось – теперь уже тому, что так скоро минуло еще почти два часа. Сейчас, подумал он до удивления равнодушно, приставленные к нему агенты слежки должны уже поставить на уши начальство.
Momentum veri[175]175
Момент истины (лат.).
[Закрыть]…
Поднявшись, Курт бросил последний взгляд за окно. Луны, главной виновницы сегодняшнего торжества, в эту ночь не увидеть. С другой стороны, участникам готовящегося обряда ее не будет видно в любом случае – из-под земли, из нутра нескончаемых древних катакомб, изрывших старый, полузабытый Кёльн.
Запертые двери собора, темнеющие с каждым мгновением окна, погашенные светильники и свечи предоставили мраку свободно разгуливать меж колоннами, витать под сводами и обступать со всех сторон собравшихся у ризницы людей. Их было пятеро – Маргарет, тихая и собранная, бледная, словно отсутствующая, князь-епископ, Рудольф фон Аусхазен и двое вооруженных короткими клинками бойцов его личной стражи, безучастные ко всему, недвижные и молчаливые. Сам герцог тоже был при оружии – ремень оттягивала тяжелая, явно не парадная чинкуэда[176]176
Чинкуэда или чинкведеа (от итал. cinquedea – дословно «божественная пятерня») – клинковое оружие, которое можно отнести как к коротким мечам, так и к длинным кинжалам. Отличается характерной треугольной формой обоюдоострого лезвия, широкого у основания и резко сужающегося к острию. В Германии известно под названием «воловий язык».
[Закрыть], на рукояти которой мирно покоилась его левая ладонь.
Курт оружия не брал – об этом его не просили, однако он был убежден, что и оба кинжала, и, тем более, арбалет все равно отняли бы: кроме самой Маргарет, ему не верил никто; о том не упоминалось, однако таковое положение вещей подразумевалось само собою и было подтверждено немедленно.
– Я вижу, некоторое здравое зерно в вашем отношении к реальности имеется, – заметил фон Аусхазен и кивнул одному из своих сопровождающих. – Обыщи господина дознавателя; может статься, что я все же польстил его рассудительности.
Курт не ответил, лишь шагнув ближе и приподняв руки; Маргарет, встретившись с ним взглядом, улыбнулась чуть заметно – то ли их общей в эту минуту мысли, касающейся герцога, то ли попросту припомнив себя в комнате Друденхауса в том же положении…
– Майстер инквизитор, – мерзким, сальным голосом поприветствовал Курта и князь-епископ, сегодня пребывающий в мирском платье – довольно вычурном для хождения по катакомбам камзоле, натянувшемся на животе, точно набитый ветошью мешок. – Кто бы мог подумать.
Курт снова промолчал; к святому отцу, невзирая на его близкую участь, он сострадания не испытывал, отмечая в душе с некоторой настороженностью почти злорадство, и потому сказать в ответ что-либо, не приправленное открытой дерзостью, сейчас попросту не мог.
– Ничего, – негромко сообщил телохранитель герцога, отступив на шаг от терпеливо ожидающего окончания обыска господина следователя, и фон Аусхазен удивленно хмыкнул:
– Действительно – кто бы мог подумать…
– Довольно, – оборвала его Маргарет. – Нам пора идти.
Сказано было тихо, почти неслышно и спокойно, однако на сей раз со стороны герцога не прозвучало ни единой колкости или хоть усмешки; сегодня хозяйкой положения была она, и под сомнение это не ставилось. Дабы напомнить о собственном статусе, Курт отстранил солдата плечом и прошагал вперед, взяв графиню под руку; помимо прочего, это лишило его возможности нести светильник, каковыми вооружились все присутствующие. До сих пор ему было неведомо, насколько хорошо осведомлен о нем герцог и известно ли тому о его столь досадной слабости; даже объяснения с Маргарет на эту тему до сих пор удавалось избегать, и менять что-либо в этом отношении Курт пока был не намерен. Сейчас он вышагивал следом за одним из телохранителей с факелом, чувствуя время от времени, как тонкие пальцы, лежащие на его локте, сжимаются – то ли пытаясь ободрить его, то ли саму Маргарет, то ли для того, чтобы попросту ощутить его подле себя.
За дверью ризницы обнаружился проход, из непроглядной тьмы которого дохнуло склепом и холодом; в узких коридорах катакомб можно было двигаться, лишь ступая друг за другом, и ее руку пришлось отпустить. Более не говорилось ни слова, ни одного вопроса задано не было, ни одной реплики, касающейся происходящего, не было брошено – молчание шло вместе с ними, впереди, за спинами, витая над головами; молчание и сумрак…
Эта часть подземного Кельна пребывала в распоряжении собора – на каменных полках здесь и там обнаруживалась старая церковная утварь, списанная в этот своеобразный архив за ненадобностью, судя по всему, из-за ее чрезмерно скромного вида; у одного из поворотов стояли, прислоненные к стене, какие-то узкие полусгнившие доски. Вскоре Курт всматриваться перестал – в трепещущем свете огня видно было плохо, а кроме того, любопытствующе вертеть головой, двигаясь в этой строгой и по-своему торжественной процессии, ему казалось чем-то неподобающим и неуместным.
Идущий впереди солдат вскоре остановился – коридор оканчивался тяжелой окованной дверью, темной от времени, с забитым древесной трухой отверстием замка. О том, что есть проход, когда-то ведший из принадлежащих собору катакомб в подземелья, изрывшие нутро Кёльна и уходящие в бесконечность, Курт знал, как знали об этом все служащие Друденхауса, да и вообще любой мало-мальски любознательный горожанин. Когда-то ведущую в эти ходы дверь заперли, после чего ключ был утерян; к прочему, в обрывках весьма невнятных записей городского и церковного архивов то и дело мелькали предостережения тем, кому могло бы придти в голову взломать замок. Записанные теперь уже неведомо кем слова призывали остерегаться скрытых под землею тайн, опасных и вредоносных для человека. Разумеется, господину обер-инквизитору давно хотелось наплевать на все предостережения и явиться к упомянутой двери с топором в руке, однако же, сложная и еще более теперь запутавшаяся иерархия отношений между Инквизицией и Церковью вообще лишала его доступа к тайнам кельнского собора…
– Открывай!
Голос Маргарет в этой мертвой тишине прозвучал, как команда полководца, – пронзительно и отчетливо, и Курт не был удивлен тому, что князь-епископ засуетился, неловко протискиваясь мимо него к двери, суетливо нашаривая что-то в складках одежды. Не удивился он и тогда, когда увидел в руке святого отца ключ – огромный, точно от амбара с зерном, длиною более чем с ладонь; бороздка была невообразимой формы, и Курт, припомнив уроки надлежащего обращения с замками, преподанные в академии, мысленно отметил, что подобрать отмычку под этот ключ фактически невозможно.
Вставлять его в замок, всем своим видом говорящий о том, что внутренность механизма проржавела и разрушилась, князь-епископ не стал; приблизившись к двери, он с видимым усилием сдвинул в сторону одну из клепок, под которой и обнаружилась скважина – явно пользованная не раз и даже смазанная, судя по тому, с какой легкостью провернулся в ней ключ. Отперев такой же замок почти у самого пола, он отступил в сторону, и телохранитель герцога, толкнув створку, зашагал по открывшемуся взору проходу – уверенно и не задерживаясь, как человек, оказавшийся здесь не впервые. Курт замер на пороге темного, беспроглядно мрачного коридора, из которого дышала сырость, мгла и невнятная, не поддающаяся разуму опасность…
– Идем, – поторопила Маргарет, коснувшись его руки, и он с облегчением отметил, что теперь ее голос прозвучал уже иначе – мягко, как и прежде.
– Значит, ход все-таки открыт… – невольно перейдя на шепот, произнес Курт, и она кивнула, потянув его за собой в темноту с ярким пятном факела.
– Открыт. И сегодня ты увидишь сам, что скрывается за ним.
И снова герцог, идущий следом, не позволил себе ни единой усмешки, которую, он был в этом убежден, не преминул бы вставить в любое другое время и в любом другом месте. А ведь он уже боится своей племянницы, понял вдруг Курт, исподволь бросив взгляд за спину. Уже сейчас, всего лишь на пороге ее близящегося могущества, герцог фон Аусхазен опасается всего того, что скрыто в ней, и наверняка пытается с некоторой внутренней дрожью вообразить себе, что же будет после этой ночи…
Когда за спинами идущих следом людей захлопнулась дверь, Курт едва не вздрогнул, а когда в замках изнутри дважды провернулся ключ, по лопаткам резанул острый холод. Чувство затерянности вернулось вновь, и все, что было перед глазами еще четверть часа назад, все вокруг – небо, темные тучи, падающее в пустоту солнце, Кельн, люди в нем – все стало словно придуманным и нигде, кроме его воображения, не бывшим.
Ходы ветвились, разбегаясь в стороны темными норами; вместо каменной кладки кое-где и пол, и полукруглый потолок, переходящий в стены, были попросту земляными, укрепленными сваями, словно в рудной шахте, и тогда под ногами хлюпала грязная зловонная жижа, а Курт припоминал, что многие из этих подземных ответвлений – остатки водопровода, прорытого когда-то римскими покорителями, отчего торжественность происходящего несколько сбавлялась. В одном из коридоров пришлось идти по доскам, уложенным на камнях над огромной темной лужей; вскоре, однако, кладка возникла вновь – за очередной дверью, уже не запертой, с раскуроченным замком. Сами коридоры стали шире, и Маргарет теперь уже сама взяла его за руку, вновь пойдя рядом. Здесь сыростью уже не пахло – воздух был сухой, звонкий от тишины, и, казалось, напитанный неизъяснимыми, призрачными ароматами.
Вскоре Курт понял, что неведомые запахи ему не почудились – вокруг и в самом деле витал легкий дымок каких-то благовоний, мягко и приятно ведущих голову, не сбивая при том, однако, ясности сознания; напротив, каждый камешек был виден четче прежнего, каждая песчинка и пылинка под ногами стали различимы внятно и близко, и было неясно, попросту привыкли ли к мраку глаза или это диковинные ароматы подстегнули тело и мысли? А за следующим поворотом в конце каменного хода обозначилось багровое пятно дрожащего отсвета факелов.
– Мы пришли, наконец? – уточнил Курт тихо, и Маргарет, приподняв к нему лицо, улыбнулась:
– Да. Теперь уже скоро.
От того, чтобы обернуться на пыхтящего князь-епископа, он удержался…
Пятно света впереди, приблизившись, разрослось, и взору открылось пространство самой настоящей комнаты – со скобами для факелов в стенах, с каменными нишами; у дальней стены высились несколько резных стульев. Аромат, который Курт ощутил еще на подходе, разносился из курильниц, установленных вдоль стен – их было с десяток, и в само́й комнате запах стал просто одуряющим.
Центр комнаты занимала каменная плита с выбитыми в ней петлями, в которых весьма недвусмысленно укрепились четыре ремня.
– Subitum est[177]177
Сюрприз (лат.).
[Закрыть], – ухмыльнулся князь-епископ, перехватив его взгляд, устремленный на жертвенник; Курт сжал пальцы Маргарет на своей руке, отступив чуть в сторону от слишком близко стоящего солдата. – Пес лающий; неплохая замена агнца кроткого.
Подумать о том, как повести себя, о том, что подобные подозрения до сего мгновения его, в сущности, и не покидали, Курт не успел – стоящий позади князь-епископа солдат коротко замахнулся и крепко, точно стукнул святого отца по макушке.
– Он знал, что на моем ритуале должна быть жертва, – услышал он голос Маргарет рядом – точно издалека, из тумана над ночной рекой; он стоял неподвижно, глядя на распростертое в беспамятстве брюзглое тело на каменном полу. – Если бы я не направила его внимание на кого-то другого, возникло бы множество ненужных препон.
– Понимаю…
Голос прозвучал несколько сухо, и Маргарет вздохнула, ничего, однако, не сказав, лишь снова сжала пальцы на его руке. Не проговорил ни слова, к удивлению, и герцог – просто метнул в их сторону ледяной взгляд и обернулся к телохранителям, деловито пристраивавшим бесчувственное тело на каменную плиту.
– Здесь не видно луны, – чтобы сменить тему и забить хоть чем-то не нужные сейчас мысли, заметил Курт, глядя, как солдаты в четыре руки полосуют одежду святого отца, раскрывая окружающему миру волосатый белый живот, похожий на заплесневевший студень. – Как ты узна́ешь, что настало нужное время?
– Я узнаю, – уверенно и просто отозвалась Маргарет. – Я уже ощущаю ее, и минуту, когда все должно свершиться, я просто почувствую.
Ее последние слова словно потонули в вязком, пропитанном благовониями воздухе, и по спине Курта вновь пробежал холод, точно кто-то в жаркой комнате распахнул два окна, дав волю ветру – ледяному, пронизывающему. На миг в голове помутнело, и пальцы непроизвольно стиснулись в кулаки…
Когда наваждение ушло, Курт сказать не мог – через миг ли, через минуту или, быть может, больше; встряхнув головой, он выпустил руку Маргарет, отступив и глядя на неведомо откуда возникшего человека в простой, похожей на монашескую, одежде с глубоко надвинутым капюшоном – тот сидел на одном из стульев у противоположной стены, сидел спокойно, безучастно, будто был там всегда, с того мгновения, как присутствующие здесь люди вошли в эту каменную комнату под землей.
– Как вы… – начал Курт и осекся, прерванный тихим и каким-то равнодушным смехом.
– Subitum est, как сказал несчастный святой отец, – отозвался тот, поднимаясь; теперь стали различимы руки – немолодые руки видавшего жизнь человека, изборожденные глубокими морщинами и пятнами. – Вы все же пришли, ваше сиятельство?
Герцог хмыкнул, стараясь держаться невозмутимо, однако замешательства и некоторой опаски в его лице не увидеть было нельзя.
– Я привык контролировать свои вложения, – сказал он твердо. – Если бы не эта привычка, я бы давно разорился; здесь же, в настоящей обстановке, вложение связуется со слишком большими рисками, а я себе этого позволить не могу. К прочему, присутствие здесь некоей личности развеяло бы последние сомнения, если б таковые имелись, относительно необходимости моего личного присутствия.
– Надеюсь, – мягкий, тихий шепот был похож на тонкую иглу, все глубже погружающуюся в спину – до самого сердца; герцог поежился, – что вашего благоразумия достанет для того, чтобы отложить на более подобающее время все то, чему здесь и теперь не место.
– Я лишь хочу держать под надзором то, в чем заинтересован, – отозвался фон Аусхазен, отведя взгляд, и капюшон молча кивнул, обратившись теперь уже к Курту; он пожал плечами:
– У меня нет повода затевать свару.
– Хорошо. – Морщинистая рука чуть приподнялась, поманив за собою, и требовательный шепот произнес: – Идем, Маргарет. Пора.
– Стой, куда? – растерянно переспросил Курт, перехватив ее за руку; та остановилась, обернувшись, и легко коснулась губами его щеки.
– Я должна подготовиться, – пояснила Маргарет с улыбкой. – Ничего не бойся, все как надо.
– Ты уходишь?
– Я вернусь через несколько минут, – заверила она; обернувшись на вновь застывшую, как камень, фигуру, похожую на бесплотную серую тень, она понизила голос до едва слышного шепота, приблизив губы к самому уху. – Я рада, что ты будешь здесь. Что ты будешь со мной сегодня. Для меня это много значит.
– Да, – таким же чуть различимым шепотом откликнулся Курт. – Для меня тоже.
– Пора, – выдохнула Маргарет, с усилием, почти рывком, высвободив руку, и, не оборачиваясь, исчезла в темноте единственного выхода из каменной комнаты.
В комнате осталась тишина, вновь все та же склепная, мертвая тишина; на себе Курт ощущал пристальный взгляд герцога, но на него не обернулся – он смотрел на каменную плиту с привязанным к ней человеком, прислушиваясь к себе и отмечая уже почти равнодушно, что в душе ничто не вздрагивает при мысли о том, что ждет его в скором времени. Князь-епископ сейчас вообще мало напоминал человека; на плите лежала растянутая для потрошения свинья, перекормленная, расплывшаяся…
– Поневоле задумаешься – а каково мое-то будущее, верно?
От голоса фон Аусхазена позади Курт вздрогнул и отступил чуть в сторону, обернувшись; тот усмехнулся: