Читать книгу "От него к ней и от нее к нему. Веселые рассказы"
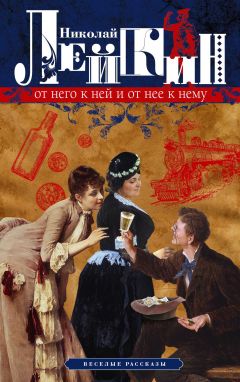
Автор книги: Николай Лейкин
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Барон (вздрагивая). Вы вся «коварство и любовь»! (Про себя.) Однако «бойкая барыня»!
Графиня. Но «пагуба» одного Виктора ни к чему не поведет. У него есть «ребенок» от сироты Акулины, и он хочет прикрыть свои «ошибки молодости» «женитьбой», а потому нужно уничтожить как Акулину, так и ее «дитя»!
Барон (закрывая лицо руками). Мне страшно!
Графиня. Трус! Привыкать надо!
Барон (задумываясь). Нужна «паутина», чтобы опутать их. Но зачем же неповинную девушку?..
Графиня. Ништо ей! «Не в свои сани не садись»! Ведь ежели на ней женится Виктор, она будет «ворона в павлиньих перьях». Вот вам кинжал!
Барон (берет кинжал, прячет его за пазуху и чешет за ухом). Может выйти «неприятная история»!
Графиня. Так согласны, мой «нахлебник»?
Барон (про себя). Отказаться, так будет «гроза». (Вслух.) Ах ты, «горькая судьбина»! Я согласен, но требую за это «миллион».
Графиня. Это «бешеные деньги»!
Барон. Ну, «двести тысяч»?
Графиня. «Свои люди, сочтемся»!
Барон (воздев очи в потолок и тыкая в графиню пальцем). Вот «виноватая»! Это для меня «несчастие особого рода»! (Быстро убегает.)
Графиня (остается одна и поет). «Все мы жаждем любви»! (Подбоченясь.) Ну, чем я не «Елена Прекрасная»?
Действие II
Театр представляет лес. Вдали виднеются горы, море и кладбище.
Направо хижина Андроныча. Андроныч сидит на завалинке и читает «Театральное искусство» Петра Боборыкина.
Рядом с ним сидит Акулина и вяжет бисерный кошелек.
У ног ее играет ребенок.
Акулина (нежно Андронычу). Дедушка, ты мой «благодетель»! Мне что-то грустно. Я видела страшный «сон на Волге».
Андроныч. Не кручинься, сегодня «праздник жатвы», а «праздничный сон до обеда»! Наступает «ночное» время, худого ничего не случилось, так, значит, и не случится. Пойти поколотить в доску. (Уходит.)
Виктор (входит и бросается на Акулину). О, если б ты знала, какое у меня «горячее сердце»! Ты «бедная невеста», но «бедность не порок», и сегодня ночью мы обвенчаемся. Коли согласна, то давай руку и совершим «рукобитие». Я «отрезанный ломоть», и родительница не может мне препятствовать.
Акулина (подавая ему руку). Тише! Какой-то «старый барин» сюда идет!
Виктор. О, это барон Кнаквурст! Он человек «передовой», «либерал» и, наверное, идет сюда «с благонамеренною целью».
Акулина (ласкаясь к нему). «Фофочка» мой! «Мотя»! Женясь на мне, ты не получишь, конечно, каменного дома, но вот «приданое современной девушки»! (Указывает нежно на младенца.)
Барон (подкравшись к Виктору, бьет его кинжалом). «Тетеревам не летать по деревам»!
Виктор вскрикивает и падает мертвый.
Удар рассчитан верно, я «старый математик».
Акулина (падает на труп Виктора, мгновенно сходит с ума и поет). «Всех цветочков более розу я любил…»
Барон (в ужасе). «Она помешана»! Теперь нужно уничтожить ребенка! Куда его? Кинуть в «лес» или в «омут»? В «пучину»! (Бежит на гору, кидает ребенка в пучину и кричит.) А ну-ка «со ступеньки на ступеньку»!
Действие III
Декорация первого действия. Барон курит трубку и поплевывает. Графиня ест подсолнечные зерна и нюхает духи.
Барон. О, «Прекрасная Галатея»! От моего «скрытого преступления» погибли три жертвы, и ты завладела наследством «золотопромышленника». Теперь должна быть денежная «дележка». Давай сто рублей!
Графиня. Дудки! Хочешь «полтора рубля», так бери, а нет, я стащу тебя «к мировому».
Барон. Ну, полно! Что за «маскарад»! «Капризница»!
Графиня. Не маскарад, а «на то щука в море, чтоб карась не дремал»!
Барон. Поддела, окаянная! Ах, знать, «не судьба» мне быть богатым. (Плачет.)
Андроныч (входит). Барин, ты совершил «преступление и наказание»… сейчас потерпишь! Кайся!
Барон. Молчи, «каширская старина»!
Андроныч. Не ругаться! У меня «шуба овечья да душа человечья», а ты «мишура»! Преступление твое открылось. Виктор только слегка ранен, Акулина, увидав его живым, пришла в себя, а ребенок, брошенный с горы, упал «на бойком месте», попал в воз сена и остался цел и невредим. Вот они!
Входят Акулина с ребенком и Виктор.
Барон (бросаясь на Виктора). Все равно! Ты должен погибнуть! Умри! (Замахивается на него кинжалом.)
Виктор. Стой, брат! «Дока на доку нашел»! (Прицеливается в барона из пистолета и убивает его.)
Барон (умирая). Кажись, все концы скрыл, но нет! Видно, «на всякого мудреца довольно простоты»!
Андроныч. Ништо тебе. Довольно ты у нас пображничал. «Не все коту масленица».
Виктор. А вас, маменька, выгоняю из дома. Питайтесь подаянием. Авось и прокормитесь: «свет не без добрых людей». Вы завладели было моим состоянием, но знайте, что «чужое добро впрок нейдет»! (Акулине.) А тебе, моя «подруга жизни», дарю половину моего состояния.
Акулина (плачет от умиления). «Не в деньгах счастье»!
Графиня. Сын мой, я не виновата! Я принимаю «в чужом пиру похмелье».
Виктор. «Довольно»!
Андроныч (целуя Акулину). Богачка стала. Вот уж подлинно: «не было ни гроша, да вдруг алтын».
Занавес
Ну, чем это не драма?
2 ноября
Пренеприятная история! Вчера генеральша наняла нового лакея немца Карла. Да ведь какого немца-то! Самого что ни на есть настоящего, трехпробного, такого, что даже в прусском ландвере служил. Как ни старались мы с французом противодействовать этому найму, но ничего не помогло. Генеральша уперлась на своем, что немцы – аккуратный народ, и взяла его. Положим, что немцы – хорошие лакеи: это доказывается их уживчивостью, но каково мне и французу? Немец для нас – все равно что таракан во щах. Каюсь, что во время последней войны я даже свечи ставил за французов, чтобы Бог привел им хоть один раз поколотить немцев, а Гамбетту, Тьера и Трошю так даже в заздравное поминание записал. Предчувствую, что с этим Карлом будут у нас страшные стычки! Француз Мутон, впрочем, не унывает и ищет удобного случая дать ему «куде-бот», а по-нашему пинка…
3 ноября
Вчера произошла стычка, и стычка довольно большая. Карл долго ломался передо мной в разговоре и наконец объявил, что кабы не немцы, так русские до сих пор лежали бы в берлогах и сосали лапы.
– Немцы все для вас придумали и все изобрели, – проговорил он.
Меня взорвало.
– Как все? – воскликнул я. – А самовар, из которого ты завариваешь чай, а перину, на которой ты спишь, а петербургские дрожки, на которых ты ездишь, кто изобрел?
В ответ на это Карл громко захохотал, а я обозвал его сосиской и гороховой колбасой.
4 ноября
Поди ж ты! Пустая вещь, но вчерашний разговор до того меня обозлил, что я сегодня без ярой злобы не могу вздумать о немцах, а между тем с самого утра немцы и все немецкое так и вертятся перед моими глазами. Начать с того, что только лишь я проснулся сегодня поутру, как вдруг услыхал на дворе громкий выкрик: «Штокфиш! штокфиш!»
– Боже мой! Русскую, архангельскую рыбу треску и ту называют немецким именем! – в ярости воскликнул я и плюнул.
– Сапожник Шульц тебя дожидается. Он калоши тебе принес, – ласково проговорила Марья Дементьевна, входя в мою комнату, но я вместо обычного поцелуя выгнал ее вон.
– Везде немцы, везде! На бирже, в литературе, в департаментах, войске! – восклицал я жалобно и пил кофей, сваренный Марьей Дементьевной, но и он казался мне каким-то жидким, немецким.
О, как захотелось мне вдруг напиться допьяна, и с этой целью я позвал Мутона, так как посылать за водкой была его очередь.
– Раскошеливайся на полштофа! – сказал я. – Немцы одолели, и потому давай и напьемся пьяными.
Он с радостью согласился на мое предложение, так как в этих случаях всегда соглашается, и спросил:
– А на закуску не велеть ли принести горячих сосисок от Шписа?
– Друг, ведь Шпис немец! – проговорил я. – Так закусим лучше просто булочкой.
– Но ведь и булка у нас от немца Шюта.
– Тогда простым черным хлебом… – отвечал я с горькой улыбкой.
Он не возражал.
В это время почтальон подал русскую «Иллюстрацию». Хотел посмотреть картинки в «Иллюстрации», но вдруг увидал подпись «редактор-издатель Гоппе» и отложил свое намерение.
Между тем, благодаря распорядительности Мутона, водка уже стояла на столе. О, с каким наслаждением выпил я первую рюмку нашего русского, доброго, простого вина и тотчас схватился вновь за полштоф, дабы налить вторую рюмку, но вдруг с яростью отпихнул его от себя.
– Что с тобой? – вопросил француз, глядя на меня удивленными глазами.
Вместо ответа я указал ему на ярлык полштофа.
– Водка завода Штритера, – внятно прочел мой добрый собрат по спиритизму и поник головой.
Мы долго молчали и не глядели друг на друга. «Сита, решета! Кастрюльки хорошие!» – послышалось на дворе. Француз поднял голову и произнес:
– Вот это уже не немец, не Штритер какой-нибудь, а ваш брат-славянин. Это чех. Поддержи его коммерцию.
Я бросился к окну, высунулся в форточку и стал звать брата-славянина.
Через несколько времени брат-славянин уже стоял у нас в кухне, гремел своими жестяными кастрюльками и говорил:
– Хорошей немецкой работы! Первый сорт.
Я покосился, но тотчас же удержал себя и спросил:
– Брат-славянин, ты чех?
– Из Бэмен, – проговорил он.
– Ну, что у вас на Драве, на Саве, на буйном Дунае?
Он выпучил на меня глаза! Стоящий около него лакей Карл перевел ему мой вопрос по-немецки.
– Хорошо, хорошо, – улыбнулся он, оскалив зубы.
– Но разве ты не говоришь по-славянски? – снова задал я ему вопрос, но вместо ответа он забормотал: «Кауфен зи, мейн гер, кауфен зи!.. Хороша немецка работа!»
– Вон! – крикнул я, затопав ногами, вбежал в свою комнату и упал к себе на кровать. – Боже, – восклицал я, – о каком же слиянии и объединении славян толкуют наши славянофилы! Ну, что общего между мною ярославцем и этим полунемцем? – Но вдруг вспомнил, что и самый лучший наш ученый славянофил назывался немецкой фамилией Гильфердинга, и перестал бесноваться.
– Что же, есть у нас и русский славянофил по фамилии Ширяев, но только, увы! слепец, – проговорил я себе в виде утешения и опять поник головой.
Ко мне подошел Мутон.
– Тебе надо прогуляться, рассеяться, – произнес он. – Выйдем и пройдемся по улице… – И при этом он подал мне мою шляпу.
Я машинально протянул к шляпе руку, но вдруг судорожно отдернул ее: на дне шляпы стояла надпись: «Фабрика Ф. Циммермана, в С.-Петербурге».
– Не надо шляпы, я надену меховую шапку, что делал мне мастер Лоскутов! – сказал я и, шатаясь, вышел на улицу.
Француз последовал за мной. Мы вышли на Гороховую, и, о ужас, перед глазами моими замелькали вывески разных Шульцев, Миллеров, Мейеров, Марксов. Я зажмурился и храбро шел вперед, но вдруг наткнулся на кого-то.
– О, швейн! – раздалось над моим ухом.
Я плюнул и открыл глаза. Передо мной стоял красноносый немец с виолончелем в руках, прикрытым зеленым сукном, а над самой головой немца виднелась прибитая к подъезду вывеска: «Аптека Гаммермана».
– Зайдем пивцом побаловаться? – предложил француз. – Вот очень хорошая немецкая портерная!
Меня взорвало.
– Молчать! – крикнул я и побежал далее.
Француз бежал сзади меня и говорил:
– Ну так зайдем в Толмазов переулок, в «Коммерческую гостиницу». Гостиница эта совсем русская, и ее содержатель – настоящий русак.
Я согласился. Через десять минут мы сидели в гостинице за чаем и, потребовав афиши, начали просматривать их, так как вечером я желал побывать в театре, чтобы развеяться, но на афишах то и дело мелькали немецкие фамилии.
«Театр Берга», гласила афиша, и я плюнул, но, наконец, уже и плевать перестал; афиши подряд гласили: «Русское Купеческое общество для взаимного вспоможения… оркестр под управлением Германа Рейнбольда»… «Русское Купеческое собрание… оркестр Вухерпфеннига» и т. д.
– Довольно, – сказал я и, отложив афишу в сторону, с грустью принялся пить чай.
Француз угадал мою грусть.
– Сегодня день субботний, а потому в театрах играют только немецкое или французское, – проговорил он, – а мы лучше как-нибудь отправимся в русский театр и посмотрим оперетку Зуппе «Прекрасная Галатея». Говорят, что в этой оперетке очень хороша г-жа Кронеберг.
– Мутон, ты издеваешься надо мной! – заорал я во все горло, кинул двугривенный за чай и бросился вон из трактира.
– Она русская, русская! И только носит немецкую фамилию! – кричал он, еле поспевая за мной, но я не слушал его, выбежал на Большую Садовую и очнулся только у Публичной библиотеки, где мальчишка-газетчик совал мне под нос номера газет.
– Есть «Петербургская газета»? – спросил я.
– Отдельная продажа запрещена! – проговорил мальчишка. – А вот ежели хотите немецкую газету, так эта дозволена.
Вместо ответа я сорвал с него шапку и бросил ее в грязь. Тот заревел. Ко мне подошел городовой и проговорил:
– Так, господин, нельзя обращаться на улице. За это и в участок можно.
Я бессмысленно посмотрел на городового и стал переходить улицу к Гостиному Двору.
– Должно быть, немец, не понимает по-русски! – пробормотал городовой и этим словом до того меня обидел, что мне легче бы было просидеть сутки в полицейском участке.
Мы шли по Суконной линии Гостиного Двора. Француз шагал около меня.
– Генеральша просила купить ей календарь, – сказал он. – Зайдем в книжный магазин.
Мы зашли к Вольфу и спросили русский календарь.
– Чей прикажете? Желаете издание Гоппе? – отнесся к нам приказчик.
Я заткнул себе уши и уже не знаю, какой календарь приобрел француз.
– Зайдем в Пассаж? – предложил он мне. – Там девочки хорошенькие прогуливаются, эдакая фам пикант. Так уж там наверное развеешься.
Я согласился, но лишь только прошел по Пассажу несколько шагов, как ко мне подошла какая-то нарядно одетая девушка, скосила глаза и произнесла:
– Каспадин, угостить путылка пива!
– И даже эта-то немка! – почти взвизгнул я, опрометью бросился на улицу, вскочил на извозчика и поехал домой.
Француз летел за мной по следам на другом извозчике.
У ворот нашего дома мы остановились и вошли на двор. На дворе кричал татарин, продавая халаты. Увидев его, я встрепенулся.
– Друг! – крикнул я. – Хоть ты и свиное ухо, хоть и ненавистен нашему брату русскому с давних пор, но все-таки ты мне милее немца!
И с этими словами я бросился татарину на грудь и зарыдал от умиления.
10 ноября
На днях познакомился я через Флюгаркина в Палкином трактире еще с одним сочинителем, по имени Практикановым. Практиканов, как он сам мне объяснил, происходит из семинаристов и на своем веку прошел огонь, и воды, и медные трубы. После третьей «двухспальной» рюмки водки он произнес:
– Видел я, батенька, и сладкое, и горькое, ощущал на телесах моих и розы, и тернии, служил учителем и был околоточным, разъезжал в колясках с разными французскими полудевицами и доходил до такой крайности, что принужден был изображать в ярмарочном балагане дикого человека и есть живых мышей и лягушек, а теперь пишу передовые статьи для наших газет.
– Где же вы пишете? – полюбопытствовал я.
– Где придется, где больше дадут! – отвечал он. – Я стою вне всякой партии. Кроме того, я обладаю способностью писать за и против. Сегодня я разругаю в одной газете классическое образование, а назавтра в другой газете буду доказывать всю необходимость умственной классической гимнастики и расшибу в пух и прах всех, стоящих за реальное образование. Это мне все равно что наплевать! Сегодня буду доказывать, что народ пьянствует вследствие неразвития, а завтра – что вследствие раннего ослабления вожжей, на которых его держали, а нет, так докажу и то, что народ вовсе не пьянствует. Если же серьезных статей не требуется, то я могу писать и легкие, например: насколько следует нам укоротить юбки актрис театров Буфф и Берга и даже, мало того, могу возвести этот легкий вопрос в серьезный. Понадобится доказать, что отечеству грозит опасность вследствие все еще не могущего умереть нигилизма, и я вам из какой-нибудь грубости, наделанной каким-нибудь мещанином квартальному надзирателю, раздую целый пожар. Я все могу!
Естественное дело, что при виде такого способного сочинителя я тотчас же просил его сотрудничать в моей будущей газете «Сын Гостиного Двора». Он согласился и на днях обещал быть у меня.
12 ноября
Сегодня Практиканов был у меня. Беседовали часа три и пили чай с коньяком. Ах, какой умный этот Практиканов! Флюгаркину до него, как до звезды небесной, далеко. После третьего стакана я спросил его, как он думает, будет ли иметь успех моя газета «Сын Гостиного Двора»?
– Это, – говорит, – совершенно зависит от того, кого и что будете трогать и кого и что не будете трогать. Прежде всего, нужно навсегда сохранить за собою право розничной продажи, для чего следует обо всем говорить полегоньку, вполовину и поминутно оглядываться. Поверьте, что можно писать либерально и в то же время самым невинным образом. Карайте, например, и насмехайтесь над ростовщиками, домовладельцами, набавляющими на квартиры, над дровяниками и над купцами всех шерстей. Но, кроме этой казенной сатиры, вы можете трогать адвокатов, акционеров и изредка лягнуть какого-нибудь мирового судью. Можете сколько угодно обличать чиновников, но никак не выше чина коллежского советника. А актеры, а черные лестницы, не освещаемые по вечерам, а вольнопрактикующиеся лекаря, а помойные ямы, тротуары, извозчики, содержатель общественных карет Щапин и, наконец, наш брат литератор? Видите, сколько материалу. Хорош также материал «городовой бляха № 98743», но не всегда безопасен. Об этом надо говорить умеючи: сперва рассказать факт, а потом и замазать. Указав вам на такое количество материалу для статей, должен, однако, прибавить, что и с этим материалом, в видах денежного интереса журнала, нужно обходиться осторожно, а не валять с бреху. Например, нападая на купцов, зазывающих покупателей, как можно осторожнее касайтесь немце-евреев-полотнянщиков, зазывающих покупателей разными быстрыми распродажами, которые устраиваются вследствие будто бы полученной хозяином магазина смертельной раны в битве при Гранвелотте или же банкротства на сто миллионов голландского торгового дома NN. Говорю вам – осторожнее, потому что иначе полотнянщики могут обозлиться и не посылать в вашу газету объявлений, а громадные объявления их – важная статья дохода для редакции. Говоря о беспорядках на железных дорогах, ругайте пьяного машиниста, грубого кондуктора, но о директорах железных дорог – молчок! Директоры железных дорог могут дать подспорье газете не только в виде своих объявлений, но и в виде денежной милости, подписавшись для своих служащих на сотню-другую экземпляров самой газеты. Так же и обо всех акционерных компаниях. Чуть хапнула слегка мелкая пташка – обличай, но ежели запустит в общественную кассу свою лапу директор – молчок! Здесь опять объявления. Самое безобидное для себя – нападать на мелкого купца; о нем что хочешь говори, приравнивай его к чему угодно. Но ежели этот купец, вступив в подряд, кормил своих рабочих гнилью и в конце концов обсчитал их – хули купца, но не удивляйся смирению рабочих, которые ели гниль и все-таки все до одного продолжали работать, а после ужиленья трудовых рублей тихо и мирно разошлись по домам. Еще безобиднее тема для статей – обличение крупных, талантливых и влиятельных литераторов. Во-первых, про тебя будут говорить: «Ай, моська, знать, она сильна, коль лает на слона», а во-вторых, это порадует и там…
Практиканов встал со стула, выпрямился во весь рост, указал перстом в неопределенное пространство и в таком виде умолк. О, как величествен был он в эту минуту в своем всеведении!.. Я не выдержал, бросился к нему на грудь и чуть не зарыдал от умиления.
Боже, даже дух занимается, когда подумаю, какие деньги могу я нажить моей газетой «Сын Гостиного Двора» при помощи этого сочинителя Практиканова, столь глубоко изучившего литературное дело!
Просил его заходить ко мне почаще. Обещал. Ей-ей, этому человеку даже и каждый день стоит стравливать по бутылке коньяку!..
14 ноября
Вчера поутру рассказывал французу Мутону о Практиканове и его литературном знании и умилился душою. Француза же рассказ мой о Практиканове нисколько не удивил.
– Ничего, – говорит, – тут нет необыкновенного. У нас во Франции очень много таких людей, да, кажется, и у вас их достаточно разводится. Все знание Практиканова заключается в том, что по-нашему, по-французски, называется «савуар вивр».
– Что же это, – говорю, – за слово такое и как оно по-русски?
– Перевести, – говорит, – не могу, а объяснить – объясню.
И объяснил.
Из слов его я понял сицевое:
«Савуар вивр» – значит умение подчиняться обстоятельствам, выгодная служба и нашим, и вашим, умение так распорядиться, чтобы и волки были сыты, и овцы были целы, а также и свой карман набить. Видишь ты, например, адвоката, питающего неодолимую симпатию к защите исключительно гражданских дел и, вследствие этого, разъезжающего на кровных рысаках, – это «савуар вивр». Видишь украшенного медалями купца, одной рукой грабящего, а другой расточающего некоторые крохи на колокола и благотворительные заведения, – это «савуар вивр». Видишь либерального журналиста, покупающего дом, – это «савуар вивр». Видишь юношу, кричащего о святых принципах и о бескорыстном служении делу и в то же время обделывающего свои делишки по службе через выгодную женитьбу на начальнической любовнице, – это «савуар вивр». Видишь гуттаперчевые спины, сгибающиеся перед начальством, глядя по рангу, – тоже «савуар вивр». Видишь человека, добывающего концессию, – опять «савуар вивр». Даже мелкий купец, ни слова не знающий по-французски и сумевший вовремя выгодно обанкротиться, и он показывает «савуар вивр».
15 ноября
«Савуар вивр» не идет из головы, да и только. Чувствую, что я начал даже мешаться в словах. Хочу сказать Маше: «Послушай, Марья Дементьевна», а язык говорит: «Послушай, савуар вивр». Сел обедать и, не видя на столе водки, хотел спросить: «Где водка?» – а между тем спросил: «Где савуар вивр?» Сегодня генеральша говорит мне: «Приготовься, у нас вечером будет сеанс спиритизма и столоверчения», а я ей в ответ: «Слушаю, ваше савуар виврство!» Черт знает, что такое! В голове только одна мысль и бродит: как бы мне достичь этого «савуар вивра»?
18 ноября. Утро
Вчера опять весь день думал, как бы мне достичь «савуар вивра». С этой мыслью заснул и видел довольно странный сон.
Вижу, что будто бы прогуливаюсь я по набережной Фонтанки, и странное дело, в каждом выкрике разносчика, в стуке экипажных колес, в свистке городового, в предложении извозчика своих услуг – одним словом, во всем слышу любезные мне два слова «савуар вивр». В великой радости встречаюсь у самого Цепного моста с приятелем моим Митрофаном Флюгаркиным, но вот диво, даже и он вместо обычного «здравствуй» приветствует меня словами: «Желаю тебе „савуар вивра“».
– Как, неужели и тебе засели в голову эти слова! – воскликнул я.
– Какие слова? – изумился он.
– А вот эти, что ты сейчас произнес?
– Это пожелание савуар вивра-то, что ли? Помилуй, да это нынче в большой моде и постепенно вытесняет наши прежние приветствия, давно уже намозолившие всем языки. Вместо «здравствуй» теперь говорят: «Желаю тебе савуар вивра»; вместо вопроса «Как ваше здоровье?» спрашивают, как ваш савуар вивр.
Я улыбнулся, но Флюгаркину поверил, так как он все-таки человек сведущий.
– Ну, скажи, пожалуйста, как же достичь этого «савуар вивра»? – спросил я.
– Очень просто, стоит только не иметь ничего заветного: ни совести, ни чести, ни убеждений, ни веры, ни жены, ни любовницы и при случае более или менее выгодно продавать их. Положим, что ввиду сильного предложения этих предметов цены на них невысоки, но с умением можно и в розницу поторговать очень выгодно. Ты сам знаешь, курочка по зернышку клюет, да сыта бывает. Теперь для этой цели устраивается даже еженедельный аукцион, где продаются все эти предметы с молотка. Аукцион этот бывает каждую субботу в бывшем Соляном Городке, а так как сегодня суббота и мы близ Городка, то не хочешь ли войти в него и посмотреть аукцион?
Я согласился. Мы отправились и, сделав несколько шагов, вошли в здание Соляного Городка.
Большая зала кишела народом и отличалась, как и все аукционы, крайним беспорядком. Публика была самая разнообразная, начиная от мужика, старой салопницы и кончая генералом и пышной барыней в сопровождении ливрейного лакея. Все это бродило, стояло, сидело в разных позах, хвасталось покупками, рассматривало их, перетряхивало и взбалтывало. У задней стены залы помещался амвон. На амвоне за столом сидел, как водится, аукционист с молотком в руке; рядом с ним помещался секретарь с книгами, а поодаль стояла горка с бутылками, банками и коробками, наполненными предметами, подлежащими аукционной продаже. Ярлыки на банках и бутылках имели надписи, вроде: «добросовестность чиновничья», «добросовестность купеческая», «добросовестность актерская», «литературные убеждения», «женская любовь», «женина честь, продаваемая мужем» и т. п. Все эти предметы охраняли какие-то чуйки и по мере надобности передавали их аукционисту. Но вот в руках аукциониста появилась огромная бутыль. Он встряхнул ее и крикнул:
– Добросовестность театрального рецензента! Оценка рубль за спектакль.
– Пятак, – раздалось где-то.
– Гривна!
– Три рубля пятнадцать! – возгласил аукционист и щелкнул на счетах.
– Позвольте, позвольте посмотреть! – послышалось в толпе, и к столу подошли, как я узнал из их последующего разговора, два актера и одна полная и красивая актриса.
Они взяли бутыль в руки и начали трясти ее.
– Фу, какая жидкая! – сказал один из них. – Прошлый год перед бенефисом я густую-прегустую покупал и за ту платил три рубля и ужин, а эта совсем вода.
– Два-то с полтиной дать можно! – отозвался другой актер. – Накидывайте цену, мадам, коли вам требуется, – обратился он к актрисе.
– Ни за что на свете! Я не за тем сюда пришла! – воскликнула она. – Я за этот предмет никогда не плачу деньгами, а всегда натурой; что же касается до публики, то ее подкупаю гусарским мундиром, трико или вообще узким мужским платьем, в котором и выхожу на сцену во время моих бенефисов.
– Господа, не задерживайте! – произнес аукционист.
В публике раздались восклицания: «Пятак», «Двугривенный» – и, наконец, бутыль осталась за каким-то молодым еще актером.
– В будущем году «Гамлета» буду ставить в свой бенефис, так пригодится, – решил он и, расплатившись, потащил ее к выходу.
– Сострадание ростовщика! – снова раздался возглас. – Оценка сто рублей!
На этот предмет торговались три каких-то солидных господина в орденах и толстый концессионер с часовой цепочкой, составленной из железнодорожных жетонов. Они друг перед другом начали страшно набивать цену.
– И что это они петушатся! На что, кажется, такая пустая вещь? – спросил я Флюгаркина.
– Как на что? – отвечал он. – По теперешнему времени это самая редкостная вещь, и каждый из этих тузов старается приобрести ее для своего кабинета редкостей.
– Так, так, – произнес я, но в это время банка с состраданием ростовщика осталась за концессионером, набившим на нее баснословную сумму, а к столу аукциониста подошел франтовато одетый молодой человек и сказал:
– Нет ли у вас бескорыстной любви девушки, так пустите в продажу не в черед, потому мне некогда долго дожидаться!
– Никак нет-с, а то бы с удовольствием!.. – отозвался аукционист. – Этот товар попадается очень редко и никогда не продается самими владельцами, а большею частью их опекунами и родственниками. Извините…
И снова возглас:
– Продается бедность безвестная, непокрытая и неповитая! Оценка грош!
На это предложение никто, однако, не откликнулся, и банка с бедностью снова поместилась на полке.
– И аукционист-то глуп, – прошептал Флюгаркин. – Ну, кому эта вещь нужна?
– Ах, не говорите этого! – вмешалась в разговор какая-то чуйка. – Иногда при случае и бедность требуется, только ее больше покупают гуртом, за вино или за плевые деньги. Бывает, правда, что иные продавцы и дорожатся, но при малом спросе всегда отдают за подходящую цену.
Между тем к Флюгаркину подошел длинный и худой, средних лет, мужчина с бакенбардами и в золотых очках и ломаным русским языком спросил:
– Скажите, пожалуйста, журнальная добросовестность еще не продавалась?
– Никак нет-с! – отвечал тот. – Но будет продаваться. Сегодня этого товару скопилось достаточно.
– То-то… Мне много требуется. Я, видите ли, испрашиваю себе концессию на железную дорогу от Шелакского Носа до острова Калгуева, так нужно, чтобы журналы говорили в мою пользу.
К концессионеру подскочила какая-то личность в цилиндре.
– Не хотите ли купить по вольной цене? – предложила она ему. – Я бы с удовольствием продал мою собственную добросовестность, и продал бы недорого. Мы тоже пишем и пишем много…
– Очень вам благодарен, но зачем же? Я вот приценюсь прежде на аукционе, – отозвался концессионер и отошел в сторону, бормоча: – Твоей-то мне и даром не надо; я ищу кого покрупнее!
А с амвона то и дело раздавались стук молотка, бряканье счетов и возгласы:
– Женская любовь! Совесть купеческая! Человеколюбие подрядческое! Самые чистые юношеские убеждения, сломленные бедностью… – и т. п.
Товар этот шел за очень недорогую цену; его покупали вяло и, оттащив к стороне, перетряхивали и говорили:
– И черт меня дернул этот пятак накинуть! Куда я теперь денусь с этим хламом?!
– Ничего, при другом товаре как-нибудь сойдет! – ободряли себя менее опытные.
Я стоял как истукан и дивился на этот странный аукцион, но, когда аукционист возгласил:
– Материнская любовь! Оценка десять с полтиной! – я невольно вздрогнул и, взглянув на Флюгаркина, произнес:
– Боже мой, неужели и это-то продается?
Флюгаркин пожал плечами, наклонился к моему уху и во все горло гаркнул:
– Не дивись! Это дух времени! Знамение времени!
Крик его был громким, подобно гласу трубному, так что потряс даже стены залы. Я был буквально оглушен, чувствовал, что падаю в обморок, и вдруг проснулся.
У постели моей стояла Марья Дементьевна и держала в руках кофейник.
– Вставай! Десятый час! Кофей-то стоял, стоял да и простыл давно! – говорила она.
Я тотчас же рассказал ей мой сон.
– Пей на ночь больше всякой хмельной дряни, так тогда еще и не такая глупость приснится! – добавила она.
Я молчал и соображал насчет «савуар вивра».
21 ноября
Мысль во что бы то ни стало сделаться сочинителем не дает мне покоя. Марья Дементьевна уверяет, что сегодня ночью я даже во сне кричал «Хочу быть сочинителем!» и только тогда перестал, когда она меня толкнула под бок. Сегодня задумал писать кровавый роман в двадцати четырех частях, а может быть, и более из всех бытов: крестьянского, чиновничьего, купеческого, мазурнического, аристократического, нищенского, военного, фабричного, биржевого и пр., и пр. Роман этот думаю назвать забористым названием «Трущобы Невского проспекта, или Петербургские фальшивомонетчики» и при объявлении об издании моей газеты «Сын Гостиного Двора» обещать его моим годовым подписчикам в виде премии. Это ныне в моде и, наверное, поднимет подписку. Ежели же мой роман не будет кончен или даже вовсе не будет выдан подписчикам – тоже не беда. У нас публика смирная и простит, оставит втуне. Роман свой я напичкаю всякой уголовщиной, и мне будут служить материалами романы наших современных беллетристов. Даже мало того, я постараюсь освоить себе их манеру писания и их мотивы, и каждая глава моего романа будет писана или а-ля Лесков-Стебницкий, или а-ля Крестовский, или а-ля Авдеев, или а-ля Боборыкин и т. д., и т. д. Смею надеяться, что таким образом роман мой будет самый «интересный» и в «современном вкусе», а этого только и надо публике.









































