Читать книгу "От него к ней и от нее к нему. Веселые рассказы"
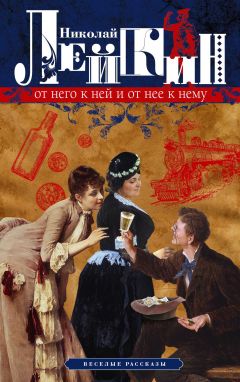
Автор книги: Николай Лейкин
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
В вагоне
В начале апреля я возвращался по Николаевской железной дороге в вагоне третьего класса из Тосны в Петербург. Публика в вагоне была самая разнообразная, но всего больше было рабочего народа: плотников, штукатуров, каменщиков. Все это ехало в Петербург, на летние заработки. Были также и женщины, в тулупах и в салопах, в байковых платках и в вязаных косыночках, с ребятами на руках и без ребят. Ехал с нами и неизбежный рыжебородый монах, от которого, вместо розового масла и ладана, несло сапожным товаром. Монах сидел впереди меня, спиной ко мне. Против него помещалась молодая баба, в нагольном тулупе и с ребенком в руках. Ребенок то и дело плакал; баба то и дело совала его в пазуху тулупа и кормила грудью или же устраивала ему постель из подушки, причем совала его на руки монаху. Монах морщился, вздыхал, но молча брал ребенка.
– Трудно с ребенком-то?.. – вымолвил он наконец, чуть ли не в пятый раз принимая его на руки.
– И не говори!.. – махнула руками баба. – С самой Твери маюсь. Зубы у него, что ли?.. Хоть бы благословил ты его, так авось лучше…
– Не рукоположен… – отвечал монах и вздохнул.
Баба не поняла ответа и продолжала:
– Вот ладанки такие иногда у вас, у чернецов, бывают, что наденешь ты на него, – он и спит как убитый… От мощей, что ли…
Ребенок проснулся, заревел и протянул ручки к бороде монаха.
– Бери, бери… – заговорил монах, подавая бабе ребенка.
– Ах ты, господи! Опять проснулся! Уж не кольнул ли ты его чем?..
– Чем же кольнуть-то мне?..
Ребенок продолжал плакать. Баба взяла его от монаха и принялась укачивать, жужжа над его ухом, но ребенок не унимался.
– Нет ли четочек? Дай его позабавить?
– В мешке под лавкой…
– Экой ты какой! Монах – и без четок…
Баба подняла ребенка дыбком и, тряся его перед клобуком монаха, заговорила:
– А вот будешь реветь, так поп-от тебя и возьмет; возьмет да съест. Вишь, у него колпак-от какой! Возьми ручкой да и потереби… Вот, мол, тебе, дядька, вот, мол…
Ребенок на минуту умолк и протянул руку к клобуку, но тотчас же опять заплакал, так как монах отстранил его рукой.
– Над ангельским чином шуток шутить нельзя… Кощунство… – сказал монах.
– Нет, уж видно, опять грудью кормить придется. Иссосал всю… – проговорила баба, с сердцем распахнула на груди тулуп и принялась кормить ребенка. Тот умолк.
– Суета сует всякая!.. – вздохнул монах и, увидя у женщины открытую грудь, прибавил: – Прикрой наготу-то…
Баба улыбнулась, выставила ряд белых зубов и поправила на груди рубашку. Через несколько времени монах ткнул пальцем в ребенка и спросил:
– Мальчик или девочка?..
– О господи! Да нешто по облику-то не видишь, что мальчик? Впрочем, где ж вам… вы монахи… – И баба опять улыбнулась.
– Даже оставя и иночество, у грудных младенцев черты лица разницы не составляют!.. – произнес монах и прибавил: – Муж-от у тебя в деревне или в Петербург к нему едешь?
Баба покраснела, потупилась и молчала. Монах повторил вопрос.
Баба наклонилась еще ниже и сказала:
– Нет у меня мужа.
– Давно умер? – приставал монах.
Баба опять молчала, но потом вскинула на него глаза и проговорила:
– Я не замужем…
Монах слегка отодвинулся от нее.
– А ребенок-то, значит, в блуде?.. – пробормотал он, но тотчас же спохватился и спросил: – В воспитательный везешь, что ли?..
Баба подняла голову. Глаза ее сверкнули.
– Чтоб я своего ребенка да в воспитательный?.. Нет. Ведь, чай, я мать, а не зверь… Да и зверь охраняет… С голоду подохну, а ребенка не кину.
Монах заморгал глазами и отвернулся. Баба поуспокоилась и продолжала:
– Ты вот в Питер-то приедешь, так, поди, по купечеству ходить начнешь?.. Поспрошал бы мне кой-где местечко. Ты не смотри, что я с ребенком… Я на всякую работу…
Монах молчал.
– Ты где остановишься-то? Я б понаведала к тебе… – приставала баба.
– Где остановишься! Мы, как птицы небесные, где Бог пошлет… – отвечал монах, встал с лавки и пересел на место против меня, предварительно спросив: – Можно ли сесть?
Под лавкой против меня давно уже храпел какой-то мужик. Садясь на место, монах толкнул его ногами, вследствие чего мужик проснулся, звонко зевнул, через несколько времени вылез из-под лавки и, протирая глаза, сел рядом с монахом. Это был маленький, но коренастый мужичонка, в тулупе и в засаленном картузе с надорванным козырьком, из-под которого выглядывали голубовато-серые глаза и торчала редкая клинистая русая борода. Мужик был, видимо, с похмелья. От него так и било струей водочного запаха. Протерев глаза и увидав рядом с собой монаха, мужик тотчас же снял картуз, сложил руки пригоршней и, наклоня голову, молча сунулся к монаху под благословенье.
Монах слегка отодвинулся.
– Не рукоположен, не рукоположен… – заговорил он, отстраняя от себя рукой голову мужика.
– Благословите, ваше преподобие! Может, думаете, что пьян я, так совсем напротив… – приставал мужик.
– Не рукоположен, не посвящен. Права не имею, зане не иерей… – И монах еще более отодвинулся.
Мужик не понял его слов.
– А коли так, так как хотите, воля ваша… А только мы к вам со всем почтением и чувством… Мы тоже при вере… – пробормотал он, слегка обидевшись, и начал зевать и крестить рот.
Я невольно засмеялся и, чтобы скрыть смех, тотчас вытащил из кармана портсигар, положил его себе на колени и, наклонясь над ним, начал свертывать папиросу. Мужик внимательно следил за работой.
– Эдакая у вас, ваше благородие, табачница прекрасная, ей-богу… – проговорил он наконец. – А табак, надо полагать, еще лучше этой табачницы. Дозвольте, ваше благородие, папироску скрутить? Поиздержались насчет махорки-то…
– Крути…
Я дал ему бумажку и табаку. Он стал делать папиросу, но тотчас же разорвал бумагу.
– Уж тонка больно. Не на папироску эту бумагу, а барышням на платье…
Я дал было ему другой листик, но он отказался, поискал что-то на полу, нашел кусочек газетной бумаги, разгладил его, свернул из него папироску и, закурив ее, сказал:
– Хорош табак, но слаб больно, – не забирает. Вот когда мы в Питере, так все трехкоронный забираем. Пять копеек картуз. Вот табак так табак! Совсем яд! Что больше куришь, то больше хочется.
– А ты питерской?
– По летам в Питере живем, а по зимам у баб, в деревне на печи валяемся. Мы костромские будем; от Нерехты пятнадцать верст.
– А по какой части?
– Штукатуры. Дозвольте, ваше благородие, окошечко отворить? Сплюнуть хочется.
– Плюй на пол.
– Неловко, ваше благородие, неравно вас оплюешь… Ведь нашему брату коли уж курить, так и плевать надо, а то скусу настоящего нет.
Он открыл окно, с наслаждением затягивался папиросой и далеко-далеко сплевывал.
– Теперь приедешь в Питер, так сейчас на постоялый и завтра работу искать? – спросил я.
– Зачем на постоялый? Зачем работу искать? У нас и фатера своя есть, и работа завсегда есть. Мы артелью живем. Теперь уж наши, поди, местах в трех подрядились.
– А велика ваша артель?
– Человек тридцать, а ино и больше бывает. Матку держим, стряпуху, значит. Она нас и обошьет, и обмоет, и состряпает нам.
– Неужто одна на всех управится?
– Управится. Чего ей не управиться? Баба здоровенная, молодая, ест вволю…
– И красивая баба?
– Ничего. С еды гладкая, грудастая.
– Поди, за ней молодые-то парни в артели ухаживают.
– То есть как это? – Мужик вытаращил глаза.
– Ну, не приударяют за ней? – поправился я.
– Зачем ее ударять; мы ее любим и даже балуем: то по гривеннику сложимся и платок подарим, то по копейке на орехи либо на подсолнухи дадим, а то вдруг бить?.. Ты посмотри, матка-то какая! Пава павой! Нигде не заколупнешь.
Мужик даже как будто обиделся. Мне досадно стало, что он не понимает меня, и я старался поправиться.
– Ты все не так понимаешь меня. Ну, не трогают ее у вас?
– Я тебе говорю, коли ее кто тронет, так мы сами всякого тронем!
Я начинал беситься.
– Опять все не то… Ну, не целуют ее у вас? – пояснил я ему.
– Ах да… ты насчет заигрыванья? Нет, у нас на этот счет беда! Ни в жизнь! Сейчас штраф… Как застанем кого – сейчас с того четверть водки штрафу и после шабаша выпьем. У нас на этот счет строго… и ах, как строго!
– Но ведь все-таки случается же?
– Как не случаться, случается. То сами застанем, то она нам нажалуется. И уж тогда хоть ты в кровь расчешешь, а коли виноват, так ставь четверть!
– Ну, вот видишь: об этом я и спрашивал. И часто вам это угощение достается?
– Часто. А то как же? Ведь у нас артель. Мы водки-то, почитай, сами и не покупаем – все штрафная.
Прислушивавшийся к нашему разговору монах улыбнулся.
– Значит, каждый день разрешение вина и елея, – проговорил он, но тотчас же спохватился, перекрестился и прибавил: – Господи, прости мое согрешение!
Поезд тихо подъезжал к станции. Его тормозили. Мужик поднялся с места, нахлобучил на голову картуз и, роясь в кармане, сказал:
– Пойти да выпить малость на пятачок, а то со сна-то, как будто, что-то знобить стало…
В вагоне конно-железной дороги
На Знаменской площади, у Лиговки, стоит вагон конно-железной дороги. Кондуктор и кучер переводят лошадей с одного конца вагона на другой. К вагону спешит публика, стараясь захватить места, юркает в нутро и лезет на крышу. На крыше сидят уже человек шесть. Тут и отставной солдат с галунами на рукаве; мастеровой мальчик в коротком пальто, из-под которого выглядывает тиковый халат; полотер в чуйке и со щеткой, завернутой в зеленое сукно; мужик в тулупе, с желтыми, еще неотчищенными сапогами под мышкой и между ними купец в длиннополом сюртуке, в шляпе и с красным коленкоровым зонтиком в руках. Купец только что взлез, упарился, отирает фуляровым платком пот и говорит:
– То есть, господи, до чего человек умудряется! Эдакая махина, с лишком сорок человек в ней сидит, и везут ее две лошади так легко, словно павлинье перо!
– В иностранных землях, говорят, еще мудренее устроено, – отвечает полотер, – там на собаках ездят, а то так на слоне…
– Чего тут собаки! Уж и это-то премудрость! – восклицает купец.
Полотер считает за нужное что-нибудь отвечать и продолжает:
– А то мы вот тут как-то в книжке читали, так в какой-то земле верблюда поймали, вдели ему в ухо серьгу бриллиантовую в тыщу рублей и опять пустили в море. Посланник наш наезжал, закинули ему сеть, думали осетра поймать, и вдруг верблюд… Взглянул он ему на серьгу и говорит: пустите его, шельмеца, пусть он повырастет.
– Поживем еще годков с десяток, так, может, сидя вот тут, и чаек попивать будем, а нет – и графинчик… – сказал купец.
– А то в Пассаже годов десять тому назад так блохи карету возили, – отвечал полотер и утер полой чуйки нос.
В разговор вмешался солдат.
– Что блохи! – сказал он. – Во время коронования в Москве я целых быков жареных видел, и фонтан вином бил.
Купец в недоумении посмотрел на полотера и солдата, но тотчас же был отвлечен следующим зрелищем. На крышу вагона только что взлез мужик в армяке, а за ним по лестнице лезла баба, в кафтане и платке на голове с изображением на нем географической карты. Бабу дергал снизу за подол кондуктор и кричал:
– Тетка, тетка, слезай вниз и садись в нутро! Дамам наверх не дозволяется.
Баба держалась за перила и визжала. Слышались фразы: «Ох, убьет, убьет, мерзавец! Парамоныч, заступись!» Мужик схватил бабу за голову и начал ее тянуть наверх.
– Пусти! – крикнул кондуктор. – А то и тебе вниз велю сойти… Говорят вам, что дамам наверх нельзя…
Мужик оставил бабу, посмотрел вниз на кондуктора и сказал:
– Да она нешто дама?
– Все-таки женский пол… – отвечал кондуктор, снял со ступенек бабу и пихнул ее вовнутрь вагона.
– Прощай, Акулина! Ты вот женский пол, так и плати за это лишних две копейки! – кричал мужик.
– С бабой-то бы поваднее сидеть было… – проговорил купец, улыбнулся и погладил бороду.
Полотер скосил на него глаза и отчеканил:
– Нельзя-с… Что верхом на лошадь, что на колокольню, что сюда на вышку бабам не полагается. На то закон. Еще Петр Великий запретил.
На извозчике
В начале Масленой недели мне довелось ночью ехать из клуба на извозчике. Извозчик был седой, приземистый старик с кротким и благообразным лицом, обрамленным жиденькой бородкой. Одет он был в рваный армячишко деревенского сукна и дырявую шапку, из которой местами выглядывала вата. Путь наш лежал по Невскому. Дорога была прескверная. Уже несколько дней стояла оттепель. Лед кой-где был сколот, кой-где грязною полурастаянною массою лежал на торцовой мостовой. Худая, мохнатая клячонка еле тащила развалюги-сани, несмотря на взмахивание кнутом, на подергивание вожжами и одобрительные и ласковые возгласы извозчика вроде: «Ну-ну, Господь с тобой, милая!», «Понатужься, жиденькая!», «С Богом, с Богом, кормилица!» и т. п. Извозчик хотя и взмахивал кнутом, но лошадь не бил им, а как-то медленно опускал его на спину и гладил им ее. Видно было, что ездил он не «на хозяйской», а «на своей» и берег ее. В половине дороги он обернулся ко мне вполоборота и заговорил:
– Эка дорога-то! Мать Пресвятая! Страсти Божии! Как теперь этой скотине трудно, так и не приведи Бог!
– В дрожки пора запрягать, а сани под навес… – сказал я.
– В каки дрожки? Мы зимние, – отвечал он. – Мы только по зимам… Нет, уж видно, в деревню пора, а то и седоки стали на езду обижаться. А как ты поедешь лучше по этой дороге? Тут уж стегай не стегай, а лучше не станет!
– Зачем же стегать? Стеганьем ничего теперь не возьмешь, а только животное измучишь!
– Да мы и не стегаем, мы к животным ласковы. Мы только шалим кнутом, а не трогаем. У нас это-то и в заводе нет, чтобы бить. Всю деревню изойди – всякий скотину бережет, потому она безответная и человека кормит. Коли ежели против силы, так чего ж тут?!
Извозчик умолк, но через несколько времени снова обратился ко мне:
– Ты Писание-то читаешь ли?
– Читаю.
– Так вот должен знать, что там про скотину-то сказано. Блажен раб, еже и скота милует, сказано. А то бить! В деревню надо ехать, а не бить.
– Тебе бы лучше переждать денька два на квартире, а там, может, и опять санный путь установится, – сказал я ему в утешение. – Ведь у нас только февраль месяц.
– Где нам ждать! Нам ждать несподручно, потому задарма проедаться будешь, – отвечал извозчик. – Нет, да оно и ладней теперь в деревню-то… По крайности, заговеешься с семьей, простишься, как следует. Ежели теперь послезавтра выехать, так я как раз к Прощеному воскресенью поспею. А хорошо у нас в этот день! Прощаются, жен бьют.
– Как жен бьют? За что? – невольно спросил я.
– За то, чтоб чувствовали. Чтоб напредки не баловались. В великую-то седмицу с ними драться не станешь, не те дни, так вот в Прощеное-то воскресенье их и бьют. Страх, как бьют!
– За что же? – снова спросил я.
– Я говорю за то, чтоб чувствовали, чтоб в семье кого не изобидели. Ведь у нас семьи большие, живут все вместе. У кого сестра, у кого мать. Не бей-ка жену-то, так она, пожалуй, обижать их будет. Нешто это можно в доме терпеть? Вдруг она сестру мужнину либо мать… Ведь сестра-то или мать одна полагается. Она ближе человеку. Она родная, кровная; умрет – так другую не возьмешь. А жен-то и самим Богом показано по три брать: умрет одна – бери другую, умрет другая – бери третью. Да и как ее не бить? Придет невесть какая, из чужого дому, и ну куражиться. Вот я ноне по осени сына женил, так тот на Прощеный-то день молодуху свою в первый раз теребить будет.
– И ты позволишь?
– Экой ты чудной, барин, право! Как же не позволить, коли такое обнаковение у нас! На все свой порядок. Ежели вот приведет Бог, потрафлю к Прощеному дню в деревню, так еще сам ему помогу, потому сдается мне, что ему с ней не справиться: молод он у нас, а она баба здоровенная. А первый-то раз надо бы поздоровей побить. Ну, да и то сказать, коли не я, так домашние подсобят, – добавил он.
Все это было сказано извозчиком без малейшей злобы, без малейшей досады, ровным и спокойным голосом. Когда он оборачивался ко мне, я видел его кроткое, благообразное и доброе лицо.
– Неужели же у вас в этот день все бьют своих жен? – допрашивал я.
– Все, вся деревня. Разве слабые старики… да и те своих старух поколотят малость: либо лаптем, либо сапогом, глядя, у кого какой достаток.
– И не жалко?
– Чего же жалеть? Ежели бы жены-то единоутробные были, так так, а ведь-то они чужие; иные из чужих деревень взяты.
– Да ведь это грех?
– Нет. Зачем грех? Спасенье. Ты, барин, холостой?
– Холостой.
– Ну, все-таки при венчаньи в церкви бывал?
– Бывал.
– А коли бывал, так должон знать, что там читается. А жена да боится своего мужа, читается. Коли ежели не бить, так нешто она будет своего мужа бояться? Уж это самим Богом постановлено…
Мне захотелось узнать, какой он губернии. Я спросил.
– Мы новгородские. Кривое Колено на Волхове знаешь? Так вот сейчас за Кривым Коленом, – ответил он.
Дальше я не стал расспрашивать.
Перчатка
На днях мне понадобилось купить себе несколько аршинов мебельного ситцу, и я отправился за ним вовнутрь Александровского рынка, в знакомую лавку. В лавке я встретил самого хозяина. Хозяин сам продавал мне, нарыл на прилавке груду товару, и когда я выбрал ситец, то он ловко отмерил от куска, «припустил» сверх требуемого количества пальца на четыре и, с шумом отрывая его, проговорил: «Два вершочка в уважение».
Разговор зашел о вновь начинающихся морозах.
– Холодно, – сказал я. – Ветер так и пронизывает.
– Чайку не прикажете ли? Тогда маненько и поразогреетесь.
– Пожалуй.
Хозяин молча кивнул молодцам, и те бросились исполнять требуемое. Один из них схватил табурет, смахнул с него рукавом шубы пыль и, подставляя его к прилавку, сказал: «Пожалуйте присесть». Другой подал мне стакан чаю и поставил на прилавок жестяную коробку из-под сардинок с сахаром. Я начал пить. Хозяин, заложа руки в рукава шубы, стоял около меня и вздыхал.
– Торговлишкой сегодня порасклеились. Ей-ей, – произнес он, – с самого утра хоть шаром покати!
В лавке действительно, кроме меня, покупателей не было. Лавка была открытая, без дверей. На пороге стоял молодец и зазывал покупателей, громко выкрикивая название товаров. Мимо лавки шныряли барыни, бабы в тулупах, солдаты с сапожным товаром под мышкой, и вдруг показался толстый, приземистый купец в енотовой шубе и котиковой фуражке. Увидав купца, хозяин, ни к кому особенно не обращаясь, вдруг крикнул:
– Перчатка!
Купец вздрогнул, остановился, оборотил к лавке свое побагровевшее лицо и принялся ругаться:
– Банкрутишка! Мерзавец! Тещу уморил и на кривой объехал! Сирот на левую ногу обделал! В каторге тебе место!
Молодцы фыркали. Хозяин, не переменяя положения, самым невозмутимым образом смотрел на купца. Я недоумевал. Выругавшись вволю, купец пошел далее. Хозяин снова крикнул ему вслед:
– Перчатка-а-а!
– Что это он? С чего он ругается? – невольно спросил я.
– А слова этого не любит. Страх, как не любит! Готов на ножи лезть, – ну, вот его и дразнят, – отвечал хозяин. – Перчатка для него – все равно что каленое железо, так и обожжет!
– Отчего же он не любит этого слова? Отчего его перчаткой дразнят, а не чем-нибудь другим? – допытывался я.
– А извольте видеть, тут целая прокламация! Рассказывать-то долго. Чайку еще не прикажете ли?.. Может, с медком будет вольготнее, так у нас и мед есть.
– Ну, хорошо, я выпью еще стакан, а вы расскажите. Это, должно быть, интересно?
– Хорошо, извольте, только, известно, интерес наш, купеческий. Изобрази и мне стакашек! – крикнул он молодцу.
Молодец подал нам два стакана. Хозяин, спрятав дно стакана в рукав шубы, стал прихлебывать чай и начал:
– Этот самый купец, что сейчас на меня ругательства загибал, Буркиным прозывается. Торгует он у нас тут, поблизости, ленточным товаром, а супротив его другой торгует, по фамилии Слаботелов и тем же товаром. Да, ей-богу, не занимательно, плюньте вы на него!.. Что вам…
Хозяин умолк.
– Полноте… Говорите, говорите, – стал я упрашивать.
Хозяин продолжал:
– Только торгуют это они насупротив друг друга, и завсегда у них промеж себя то пря, то брань, а то и драка, потому друг у друга покупателей отбивают и товар хулят. Раз даже после запору молодцы стенка на стенку пошли. В кровь разодрались. Теперича, к примеру, мы промеж себя соседи, так мы живем в мире и завсегда друг у дружки заимствуемся: товаром ли, коли у самых нехватка, стаканом ли, коли свои побиты, ну, и там разное… А у них этого и в заводе нет. Забеги-ка буркинский молодец к Слаботелову в лавку на заварку чаю попросить – в железные аршины примут. Ей-богу! Был случай – одному переносье перешибли. Только надо вам сказать, что Буркин этот занимался поставками в казенные места, по подряду, значит, а Слаботелов по аукционам ходил и товар скупал. Ходили они прежде и оба по аукционам, и оба подряды брали, да бросили, и каждый взялся за свое дело, потому только убыток один был: придут, бывало, оба на аукцион или на торги и давай назло друг дружке цены набивать. Ну, набьют несообразное, а после и кряхтят. Враги были. По субботам даже в одну баню не ходили. Раз в церкви к одному образу свечки подошли ставить, так и тут чуть не разодрались.
– Кажинный день у них – словно на киатре представление, – вставил до сих пор молчаливый молодец.
– Ну, ты молчи! Знай свое место… – кивнул на него хозяин и продолжал: – Только, изволите видеть, тут как-то в прошлом году, по зиме, Буркин и возьми подряд поставить во дворец пятьдесят дюжин белых официантских перчаток. А у самого товару всего дюжин с десяток, значит, скупать нужно. Подходит срок ставить, – сунулся туда-сюда, и надо же, чтоб такой грех случился – официантских перчаток нигде нет. Весь Питер оббегал, и нет. А надо вам сказать, что сосед Слаботелов и враг евонный за неделю перед этим этих самых перчаток сто дюжин на аукционе купил. И близок локоть, да не укусишь! Как к врагу идти?.. Да и сдерет… Думал, думал Буркин, хотел уже платить большую неустойку, но, наконец, смирился и пошел к Слаботелову. Тот его принял зверем. «Есть-то есть у меня, – говорит, – эти перчатки, только тебе не годятся, потому с изъяном». «Ничего, – говорит, – продай, как-нибудь и с изъяном спулим». Тот начал ломаться. «Приходи, – говорит, – завтра, а я подумаю». Делать нечего, показал ему Буркин в кармане кулак, пришедши домой, чтоб сердце сорвать, поколотил жену, переругал домашних, а наутро все-таки отправился к Слаботелову. Тот встречает его с улыбкой, бороду поглаживает и говорит: «Ладно, коли уже тебе и с изъяном ничего, так бери». А Буркин ему в ответ: «Знаем мы этот изъян-то! Толкуй тут!..» Не верит, значит, думает, что тот назло не хочет ему товару дать. Ну а как цена? Слаботелов сказал и такую цену несообразную заломил, что у Буркина даже поджилки затряслись. Начали, однако, торговаться и покончили. «Присылай, – говорит, – завтра молодцев за товаром, и деньги на бочку. Баш на баш сменяемся; ты товар в полу, а я деньги, потому нет тебе от меня доверия». Сказано – сделано. Буркин получил товар и сейчас его в казенное место на прием. Стали при приеме рассматривать, глядь – сорок дюжин перчаток и все с левой руки. Забраковали. А это значит, что Слаботелов-то сорок дюжин с правой у себя оставил, а с левой Буркину отдал. Назло, значит. Буркин, как тогда разъярившись, прибегает к нему в лавку и ну ругаться. Ругается что ни на есть хуже, а Слаботелов улыбается, бороду поглаживает и говорит: «Дубина! Ведь сам покупал. Ну, не говорил ли я тебе, что товар с изъяном?» Тот все ругается. А Слаботелов ему: «Удержи язык твой от зла и сотвори благо. Дело поправимое. У меня такое же количество перчаток и с правой руки найдется, только цена будет двойная, потому, сам учти, правая рука вдвое важнее левой! Правой рукой ты и крест творишь, и щи хлебаешь, и деньгу берешь». Чуть Кондратий Иваныч не хватил Буркина от этих слов, однако стерпел он, перестал ругаться и начал торговаться. Слаботелов, как был, как уперся на своей цене, так и стоит, ни копейки не спускает. Что ж вы думаете, ведь дал же Буркин, что с него требовали! Ей-богу! Потому ничего не поделаешь – подряд. А вы сами знаете, что казенный подряд значит. Вот с тех-то пор его и дразнят перчаткой, а он как зверь лютый бросается. Ведь нашим рыночникам только попадись на зубок, так беда! Проходу не дадут. Еще чайку стакашек не прикажете ли?
Я отказался, поблагодарил хозяина за рассказ и ушел домой, думая: «Азия, совсем Азия!..»









































