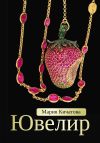Текст книги "На заработках. Роман из жизни чернорабочих женщин"

Автор книги: Николай Лейкин
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 16 страниц)
Когда наутро Арина проснулась, Аграфена лежала рядом с ней под шалашом, закутанная с головою в полушубок, и спала. Арина вспомнила, что она видела ночью, и сразу вспыхнула ненавистью к Аграфене.
«Подлая тварь… А еще землячка и товарка приходится!» – подумала она про Аграфену и, как бы из чувства какой-то гадливости, стараясь не задеть ее, вылезла из-под шалаша и в раздумье села на дровяную чурку.
Голова у Арины была тяжела, ломило в затылке, стучало в висках. Хотелось плакать, но слезы не шли из глаз.
LXVI
Долго просидела Арина на чурке перед остывшим костром, пригорюнившись и в раздумье о своем положении. Она думала об измене Андрея, о коварстве своей подруги и землячки Аграфены. Ночное происшествие не приводило ее в бешенство, но произвело на нее удручающее действие. Облегчив себя слезами ночью, она теперь уже не плакала, но только грустила. Ей было больно, обидно. Оскорбленное самолюбие не давало ей покоя.
«И зачем только я была такая дура, что поверила ему?! – несколько раз повторяла она мысленно, покачивая головой. – Эх, будь при мне покойница Акулинушка – ничего этого не случилось бы, а вот нет ее, и впала я в проруху. Что тут делать? Как теперь быть?» – задавала она себе вопросы – и не находила ответа.
Солнце уже поднялось довольно высоко, у соседей повсюду шипели пилы и стучали топоры, а Арина все еще сидела на чурке, как истукан. Дров за ночь было напилено Андреем и Аграфеной много, перед Ариной они валялись грудами, Арина должна была начать их раскалывать и укладывать в поленницы, но работа не шла ей на ум. Явилась какая-то апатия к труду. Так просидела она еще с четверть часа и, немного поуспокоившись, встала.
– Эх, завей горе в веревочку, девушка! Была глупа, неосторожна, так и казнись. Сама себя раба бьет, что худо жнет, – пробормотала она и хотела, по заведенному утреннему порядку, зажечь костер; стала уже складывать поленья для костра, но, взглянув на шалаши, из-под которых торчали ноги Аграфены и Андрея, вздрогнула и разбросала поленья, говоря: – К чему все это? Зачем? Что я им за батрачка такая!
Чтобы как-нибудь убить время, Арина отправилась к прежним своим товаркам, демянским женщинам. Они уже работали. На горящем костре в котелке кипела вода.
– Бог на помочь, – сказала им Арина.
– Спасибо, – отвечали женщины и спросили ее: – А ты что ж не работаешь?
– Андрей и Аграфена пилили в ночь и теперь спят. Мне нужно бы колоть дрова, да что-то неможется.
Демянские женщины взглянули на нее и заговорили:
– Да, да, смотри какая бледная, лица на тебе нет. Смотри, девушка, и ты не захворай, как Анфиса. Долго ли до греха? Свалиться недолго!
На Арину опять напала грусть, и она отвечала:
– А свалюсь, так туда мне и дорога. Одно только, тятеньку с маменькой жаль, потому все-таки я им помощница.
– Ну, не одни тятенька с маменькой. Есть еще и третий, кого жаль, – улыбнулась Фекла, намекая на Андрея.
Арина вспыхнула. На бледных щеках выступили багровые пятна.
– Пожалуйста, Фекла Степановна, не говори мне об нем, – заговорила она. – Этот человек плевка не стоит, а не токмо что жалеть его!
– Как? Теперь уж ругаешь? Вот девка-то! То миловалась с ним, а теперь, накося, ругает! Что? Или повздорили? – спросила Фекла.
Демянские женщины побросали работать и в удивлении смотрели на Арину. Та помедлила, поморгала глазами, подумала, говорить ли ей или молчать, и отвечала:
– Вздорить не вздорила, а просто он подлецом оказался.
Женщины многозначительно переглянулись и кивнули друг дружке.
– С Грушкой снюхался? – задала вопрос Фекла и тотчас же прибавила: – Верно. Видели уж вот наши бабы, как он с ней за дровами обнявшись сидел и пряниками ее потчевал, когда мы с тобой Анфису в больницу возили. Подлец, совсем подлец! Да и кроме тебя на него тут одна девушка плачется. Крестецкая она. С теткой она тут. Они вон там под деревней пилят. До тебя-то он к ним примазался, с ними пилил, подластился к девке, а потом и в сторону, с товарищем стал пилить.
– И как это только девки верят! – вздыхали демянские женщины, крутя головами.
Арина заморгала опять глазами, утерла рукавом слезы и сказала:
– Бросьте… Не стоит об нем разговаривать. Надо наплевать. Насильно мил не будешь. А я вот к вам пришла… Не примете ли вы меня опять в артель? Уходить мне от него надо.
– Что ж, приставай… Ты работящая, мы тебе всегда рады… – заговорили демянские женщины. – Не следовало только тебе от нас раньше-то уходить.
– Да что уж об этом говорить! Что сделано, того не воротишь, – махнула рукой Арина. – Была моя проруха – за проруху свою и казнюсь.
Когда Арина поведала свое горе демянским женщинам, на душе у ней сделалось легче. Она потолкалась около них и сказала:
– Так я уж сегодня и к вам… Проснутся вот Андрей с Аграфеной, сведу я с ними расчеты и приду.
– Приходи, приходи. Будем ждать. Пилы у нас теперь свои, выкупили мы их у приказчика. Войдешь в долю за пилы, так, когда и продавать их будем после пилки, с тобой поделимся.
Арина медленно стала уходить, направляясь к шалашам, где спали Андрей и Аграфена. На сердце у ней было уже совсем легко. Чувство грусти заменилось чувством ненависти к Андрею и Аграфене.
«Посмотрю я, какими-то они глазами на меня смотреть будут, когда проснутся!» – думала она.
Когда она подошла к шалашам, Андрей был уже вставши, а Аграфена еще спала. Андрей сидел и почесывался. Голова его была всклочена. Увидав Арину, он сказал:
– Что бродишь-то?! Я думал, что ты и не ведь сколько уж дров наколола и сложила, а ты без дела слоняешься. Хоть бы костер зажгла, чтобы можно было воду согреть для чая, а то и того нет.
Губы у Арины задрожали, и она, сверкнув глазами, произнесла:
– Не хочу я больше с подлецом и подлячкой работать. Я, Андрей, сегодня ухожу от вас к демянским бабам. Сосчитаем выставленные дрова, и выдели меня.
Андрей вскинул на нее глаза и улыбнулся.
– Тс… Вот как разговариваешь! Бабы, должно быть, что-нибудь тебе наплели? А ты глупых-то разговоров поменьше слушай.
– Врешь! Не глупые это разговоры, а истинные! Да и нечего мне чужих разговоров слушать, коли я сама, сама своими глазами все видела! – закричала Арина.
– Что видела? – опять улыбнулся Андрей.
– Все, все видела. Вот на этой самой чурке. Я не спала… Видела, видела…
– Да что видела-то? Грушку обнимал? С Грушкой шутил? Так я всех девок и баб так обнимаю. Такой уж у меня характер ласковый. – Андрей встал и обдернул рубаху. – А ты вот что… Ты всю эту глупость-то брось… Что мне такое Грушка? Грушка – так себе землячка, да и девка верченая, а ты моя суженая, высватанная… – заговорил он и стал подходить с улыбками к Арине.
Арина отшатнулась от него, как ужаленная.
– Прочь, мерзавец! – взвизгнула она, схватила полено и замахнулась. – Подавай расчет, а сам пальцем не смей меня тронуть!
– Вишь, взъелась, дура! А ты выслушай… – остановился перед ней Андрей.
– Ничего я не хочу от тебя слушать! Считай сажени, сходи к приказчику за расчетом и выделяй меня.
– Взаправду уходишь? Ну, черт с тобой! Скатертью дорога. Только смотри, вернешься назад, так уж я тогда скажу: «Отваливай»…
– Считай дрова! Не желаю я с тобой больше разговаривать, – строго сказала Арина и отбросила от себя в сторону полено, которое держала в руке.
– Дура, совсем дура, своего расчета не понимающая! – пробормотал Андрей и, взяв самодельную сажень, принялся мерить распиленные дрова.
Арина стояла от него в отдалении и следила за обмериваньем.
LXVII
После полудня Андрей, побывав у приказчика и комиссионера и получив из конторы деньги, выдал Арине ее долю за распиленные и сложенные в поленницы дрова. Рассчитавшись с ней, он сказал:
– Коли уж по своей воле из артели бежишь, то надо с тебя что-нибудь и за пилу и за топор получить. Ты ведь моей пилой и моим топором дрова-то пилила.
Арина вспыхнула.
– А коли с меня за пилу и за топор, то подай мне и за стирку твоих рубах и подверток, – заговорила она. – Что я тебе за батрачка, что даром на тебя работала?! Я и стряпушничала, я и стирала, мыло на свои деньги покупала, дырья на тебе штопала.
– Врешь. Стирали и стряпушничали вы вместе с Грушкой. Ну, да не хочешь отдавать за инструмент честь честью, так черт с тобой. А что до стирки, то ты на меня стирала, а я тебе письма в деревню писал. Сунься-ка письмо-то написать к грамотею – никто меньше гривенника не возьмет, а я тебе два письма написал.
– За письма твои тебе моя доля от ведра остается. Ведро я пополам с Грушкой покупала, уполовник на свои деньги покупала. Четыре копейки за него дала. Чашка для хлебова наполовину моя.
– Подавись своим уполовником. Можешь его взять.
– И возьму. Однако моим-то уполовником ты все-таки черпал из котелка в чашицу.
Арина быстро начала собираться, взяла свою котомку, сапоги, уполовник, ложку деревянную, чашку чайную. С Аграфеной она почти не разговаривала, да и Аграфена как-то совестилась смотреть ей прямо в глаза и сторонилась от нее, прячась за поленницами. Однако, когда Арина, забрав свои вещи, стала уходить, Аграфена крикнула ей из-за дров:
– Отдай Андрею мои ножницы и моток ниток.
– Давно твои паршивые ножницы в лукошко выкинула. Там и нитки лежат, – отвечала Арина. – Мне чужого не надо. Не воровка я.
– Нет, ведь я только к тому, что ведь ты в последний раз ножницы брала, когда Андрею волосы подстригала, так чтоб как-нибудь не забыла бы.
– В лукошке они. В лучшем виде можешь зарезаться ими, когда Андрей тебя так же, как и меня, надует.
Аграфена промолчала. Арина быстро уходила.
– Что ж ты честь честью проститься не хочешь?! – крикнул ей вслед Андрей.
– С подлецами я не прощаюсь!
– Однако все-таки товарищи, хлеб вместе ели.
– Не товарищи, а мерзавцы – вот вы кто.
К демянским женщинам Арина пришла в то время, когда они поднимались после послеобеденного отдыха.
– Ела ли ты что-нибудь сегодня после переполоха-то? – спросила ее Фекла.
– К куску не прикоснулась. Дайте хлебца пожевать.
– Похлебай вон кашицы. Мы тебе кашицы оставили.
Арина присела к котелку и стала есть холодную кашу. Теперь, когда она покончила с Андреем и Аграфеной, на душе у ней сделалось легче, но она была усталая, измученная, чувствовала слабость. Поев каши, она сказала:
– Я уж, девушки, завтра начну работать, а сегодня прилечь надо да соснуть. Я ведь всю ночь не спала. Ноженьки насилу ходят. А за хлеб ваш с сегодня с меня считайте.
– Ладно, ладно. Конечно же, сосни, – заговорили женщины.
И Арина водворилась опять в среде демянских женщин, но работа шла не так успешно, как с Андреем и Аграфеной. Андрей был, что называется, работник-лом, работа в руках его так и кипела, он воодушевлял Арину и Аграфену, которые тоже были молодые и работящие, здесь же Арине пришлось работать вместе с пожилыми уже женщинами. Фекле было за сорок лет, одна демянская женщина страдала ломотою в плечах, да и сама Арина после передряги каждый день чувствовала, что ей не по себе. Она похудела, осунулась и очень уставала. Три рабочих дня показали Арине, что заработка их артели сравнительно с заработной, которую она имела, когда работала в артели с Андреем и Аграфеной, дала по пятиалтынному на человека меньше, хотя работать было удобнее: дни становились теплее, ночи светлее и не приходилось уже коченеть под утро от холодных утренников, как прежде. Прежде уходило много времени на то, пока поутру согреются от ночного холода у костра и придут в себя, но теперь можно было уже сразу приступать к работе, но все-таки дело спорилось хуже, чем раньше в артели Андрея.
Андрей и Аграфена по-прежнему работали на берегу, становище их было вблизи от демянских женщин, но Арина как-то редко видела Андрея и Аграфену. Дабы идти Андрею и Аграфене в мелочную лавочку на деревню, нужно было проходить мимо шалашей демянских женщин, но Андрей и Аграфена как-то обходили это место и делали крюк. В ту же сторону, где работал Андрей, избегала ходить Арина. Раза три пришлось ей встретиться с ним на деревне, но она юркнула в сторону и прошла мимо изб на зады. Слышно было, впрочем, что Андрей и Аграфена жили не особенно ладно. Демянские женщины разнюхали, что Андрей пил и два раза колотил Аграфену, что Аграфена ходит с синяком под глазом.
Так дело шло до половины мая. Демянские женщины и Арина ходили в праздник в больницу навещать больную Анфису и носили ей ситника в гостинец. Анфиса не поправлялась. Ноги ее, как и раньше, продолжали быть парализованы от ревматизма. Она с трудом сидела на койке, высохла, как скелет, и даже говорила невнятно. Сиделка сказала женщинам, что доктор объявил ей, что Анфисе трудно поправиться и что, по всем вероятиям, она скоро умрет.
– Написать деревенским-то твоим, что ты вот хвораешь? Написать, что ты в больнице-то, что ли? – спрашивала Анфису Фекла.
Анфиса вскинула на нее угасающий взор и прошептала:
– Напиши…
Женщины печально покачали головами, простились с ней и ушли.
LXVIII
Наступило лучшее время для северной полосы России – начались светлые, белые ночи, правда, все еще по временам прохладные, но уже дозволяющие спать спокойно. Дни были уже совсем теплые. Природа вся распустилась и благоухала. Ароматом дышали деревья с молодой светло-зеленой листвой, появилась сочная трава на лугах. Пильщики набили себе мешки травой и уже спали на хорошей подстилке. Житье под открытым небом делалось сноснее, огни в кострах на ночь уже не поддерживались, и их оставляли потухать. В одежде пильщиков появилась некоторая перемена к лучшему. То там, то сям мелькали новые ситцевые платки на головах баб, у мужиков виднелись свежие ситцевые рубахи. Лица рабочих, выдержавших крутую пору ранней холодной весны, сделались веселее, но были и такие, которых сломили весенние холода. Лихорадка и ломота дали себя знать. Хворые рабочие мазали пораженные ломотой места керосином, пили от лихорадки водку, настоянную на ивовой коре, отвар из ивовой коры, но это помогало мало. Хворь, разумеется, мешала им успешно работать. Желтые, изнуренные, они то и дело бросали пилить и колоть дрова и присаживались у костров или на солнечном припеке, дабы переждать приступы лихорадки и ломоты. Такие больные составляли, разумеется, бремя для артелей, в которых они работали, и артели от них старались отделаться, с ними ссорились. Две-три такие больные бабы, заручившись кой-каким заработком, побрели в Петербург искать работы на огородах, считая огородную работу более легкою. Одна баба поехала на пароходе тоже в Петербург прямо для того, чтобы лечь в больницу. Было бремя и в артели, где работала Арина. Расхворалась Фекла, и ее целые дни трясла лихорадка, страдала ломотой в ногах и еще одна женщина, то и дело бросавшая работу, чтобы присесть, отдохнуть, погладить болевшие ноги, а артель состояла всего из пяти женщин. Хороших работниц в артели было только три, работа не спорилась, и вследствие этого заработок, делящийся поровну, уменьшился. Артель не могла выработать уже и по полтиннику, как три здоровые женщины не надсажались на работе. Арина очень об этом горевала, плакались на свою судьбу и здоровые демянские женщины. Одна из них, Марфа, предложила Арине даже уйти от больных и работать отдельно, ее поддержала и другая демянская женщина, Устинья.
– Право, уйдем на новое место пилить. Чего тут? Их две больные есть – пусть они две больные вместе и пилят, а мы трое будем отдельно пилить. Больная с больной, а здоровые со здоровыми. А то что это такое! Мы лом ломаем, а они сидят и хохлятся, – говорила Марфа.
Арина подумала и отвечала:
– Нет, девушка, не говори этого… Не по-божески это. Да они скоро и поправятся.
– Где поправиться! Все расхварываются и расхварываются. С какой стати нам через них в работе себя обижать?!
– Да, конечно же, отделимся от них, – прибавляла к словам Марфы Устинья. – Больные тоже будут работать, а только меньше зарабатывать станут. А нам зачем же их награждать? Небось не помрут с голоду и без нас.
– Погодим, Устинька, еще денек-другой. Право, они поправятся, – стояла на своем Арина.
Марфа и Устинья подождали еще день, работали неохотно и, наконец, порешили вдвоем отделиться от артели, ежели Арина не отделится, о чем заявили и больным товаркам. Арина, убежденная доводом, что больные все-таки не умрут с голоду, ибо все-таки понемногу будут работать, тоже скрепя сердце хотела отделиться с Марфой и Устиньей, но при расчете Фекла до того горько заплакала, что Арина не вытерпела и, сама заплакав, сказала Марфе и Устинье:
– Нет, не пойду я. Уходите вы вдвоем, а я останусь с Феклушей. Она и к моей покойной Акулинушке была сердечна, когда та хворала, с ней мы и Анфисушку вместе свезли в больницу, так как же я ее-то покину?
– Да мы Феклу Степановну не покинем, мы рядом будем работать, а только отдельным кустом, и коли ежели она очень расхворается, то мы всегда около нее походить можем, – доказывала Марфа.
– Нет, нет. Я остаюсь, – решила Арина.
Фекла бросилась ее обнимать и плакала от благодарности.
Марфа и Устинья отделились вдвоем от артели.
Арина осталась работать с больными, и заработок умалился до тридцати копеек в день, хотя больные женщины надсаживались на работе даже через силу. Видя все это, они уж и сами стали уговаривать Арину, чтобы она уходила к Марфе и Устинье.
– Уходи, милушка, Бог с тобой… Довольно уж ты поработала на нас, а то, право, и нас-то совесть берет, что ты из-за нас страдаешь. Уходи, – говорили они.
– Нет, не пойду. Поправляйтесь пока, – стояла на своем Арина.
– Так уж бери от нас хоть по гривеннику за наше ослабление. По гривенничку в день мы тебе от нашей заработки отдавать будем. Все-таки у тебя будет полтина в день, ну а мы, больные, с двугривенным останемся. Чего тут! Бери! Мы и на двугривенный прокормимся. Ты больше работаешь, тебе и большая заработка.
На это предложение после долгих настаиваний со стороны больных Арина согласилась.
Так проработали они еще несколько дней. По утрам и по вечерам к ним приходили Марфа и Устинья спроведать больных и хвастались, что вырабатывают по восьми гривен. По вечерам Марфа и Устинья приходили со своим чаем и сахаром и поили больных и Арину; раз принесли два фунта баранок, другой раз ситнику. Очевидно, что они хоть и отделились от больных, но совесть их была неспокойна, и они хоть чем-нибудь старались утешить их. Однажды они пришли вечером раньше обыкновенного, были сильно взволнованы и объявили, что Анфиса в больнице умерла. Весть эту принес им мужик, зарубивший себе топором руку и ходивший в больницу к доктору и справлявшийся об Анфисе.
– Не выжила-таки, голубушка! – воскликнула Фекла, заплакала и стала креститься, говоря: – Царство небесное ее душечке, покой ей вечный, голубушке…
Крестилась набожно и Арина, крестились и другие женщины. Арина, всхлипывая, бормотала:
– Панихидку… непременно надо панихидку отслужить… Вот по Акулинушке да по Анфисушке вместе и отслужим. Тяжелый камень у меня на сердце лежит, что я по Акулинушке до сих пор панихидки не отслужила. Она, голубушка, то и дело мне по ночам снится и словно просит, чтобы я по ней панихидку отслужила.
– Отслужим, отслужим, в воскресенье же отслужим, – поддержали Арину Марфа и Устинья.
– Да, да… Сложимся по гривеннику и отслужим. Нельзя без панихидки, товарки ведь мы тоже покойнице были, – подхватила Фекла, все еще плача.
При больных расстроенных нервах – она долго плакала.
LXIX
Наутро Марфа и Устинья собрались в больницу, проститься с покойницей Анфисой. Когда они, отправляясь в путь, зашли по дороге к шалашам Феклы и Арины, к ним захотела присоединиться и Арина.
– Пойду и я с ними, Фекла Степановна, – сказала она Фекле. – Надо сходить проститься с Анфисушкой. Ведь сколько горя-то мыкали вместе!
– Да, конечно же, сходи. И мы бы пошли, да вот хворость-то меня и землячку одолела, – кивнула Фекла на желтую, испитую от лихорадки и ломоты товарку. – На вот от нас на свечку… Свечку в церкви поставишь за упокой, – прибавила она, подавая Арине три копейки.
Арина быстро накинула на голову новый ситцевый платок, приобретенный ею с неделю назад на деревне у прохожего торговца-татарина, и отправилась вместе с Марфой и Устиньей в путь.
Вышли женщины рано утром, в больницу пришли часам к одиннадцати, но там им сказали, что Анфиса уж отвезена в сельскую церковь, что сегодня ее хоронят на сельском кладбище. В церковь пришлось идти обратно. Так как было уже поздно и женщины боялись, что обедня отойдет и Анфиса будет похоронена без них, то они пустились бежать до церкви. Войдя в церковь усталые, запыхавшиеся, они все-таки застали отпеванье. Анфиса лежала в дощатом некрашеном гробу с венчиком на лбу. Когда-то широколицая, она до того осунулась, что ее узнать было трудно. Толстый ее нос луковицей заострился, выдвинулся вперед подбородок, на глазах лежали две медные монеты, очевидно остаток ее расходных денег, оставленных ей товарками. Арина заглянула ей в лицо и ужаснулась.
– Девушки, да она ли это? – с сомнением обратилась Арина к Марфе и Устинье.
– Она, она. Вон и колечко ейное медное на руке. Медное, так не сняли.
– Да ведь такие медные колечки у многих есть. Право, как будто не она, – твердила Арина и тогда только перестала сомневаться, когда священник отпел Анфису.
Отпевание кончилось, женщины простились с покойницей, крышка гроба забита двумя гвоздями, и два мужика потащили гроб на кладбище. Женщины бросились помогать им.
– Вы знакомые ейные, землячки? – спрашивали женщин мужики.
– Землячки, землячки, голубчик.
– Ну, так с вас на вино надо, на поминовение души. И так уж от больницы даром хоронят.
– Дадим, дадим вам по пятачку, – отвечали женщины.
Вот и могила. В нее опустили гроб. Женщины бросили на крышку его по комку мокрой земли. Марфа расчувствовалась, завыла и начала причитать. Ей вторила Устинья.
– Ох, болезная! Ох, сердечная! На чужой стороне скончалась без сродственничков, и чужие люди глазоньки тебе твои закрыли… Ох, бесталанная! Некому будет и на могилку-то твою в родительскую субботку прийти… – слышались их голоса.
Плакала вместе с ними навзрыд и Арина.
Похоронив Анфису, женщины только часам к шести вечера вернулись к своим шалашам на Тосну.
– Ну что, простились с Анфисушкой? Когда хоронить-то ее будут? – встретила их Фекла.
– Да уж похоронили, сегодня похоронили. К самым похоронам мы и пришли. Еще бы чуточку промедлили, так, пожалуй бы, и не застали, а тут все честь честью, – как следует и попрощались с ней, и поголосили над ней, и землицы на гробик бросили, – отвечала Марфа.
– Скажи на милость, как вы ловко потрафили. Хорошо, что так привел Господь… Ну, а теперь помянуть покойницу надо. Бегите-ка за овсяной мукой в лавку на деревню, а я к ужину кисель заквашу – вот и помянем, – вызвалась Фекла, ковыляя на больных ногах около костра, на котором уже кипятилось в котелке какое-то хлебово.
Но ходившие на похороны женщины были до того уставши, что стали просить сходить за овсяной мукой одну из соседок по шалашам, а сами растянулись на земле и лежали.
– Хотела в ночь работать, колоть дрова, чтобы наверстать прогул-то свой сегодняшний, а кажется, уж будет невмоготу, – проговорила Арина, потягиваясь и позевывая.
– Какая уж сегодня работа! – отвечала Марфа. – Только бы похлебать, да и на бок. Ноги-то словно колоды у меня. А насчет наверстки – в воскресенье на работу поналечь можем.
– В воскресенье, девушки, ведь мы хотели панихидку по Акулинушке и Анфисушке в здешней деревенской церкви отслужить, – сказала Арина.
– Ну, так что ж из этого? После обедни отслужим, а потом, отдохнув, и понавалимся на пилы…
Из принесенной овсяной муки Фекла сделала нечто вроде киселя. Разумеется, месиво закиснуть не могло, но Фекла все-таки сварила его, и женщины ели. Помянуть киселем Фекла пригласила и соседей, знавших Анфису. Кроме киселя, у Феклы была и бутылка водки, за которой она распорядилась послать вместе с овсяной мукой. Водку делили, наливая по половине чайной чашки. Ее пили все женщины, не исключая и Арины. Принимая в руки чашку, каждая крестилась, говорила: «Упокой, Боже, рабу Твою Анфису», выпивала водку, морщилась и закусывала ложкой овсяного киселя.
Таким образом по Анфисе были справлены и поминки. Фекла была очень довольна этим и, укладываясь спать под шалаш, сегодня как-то меньше кряхтела и охала и говорила Арине:
– Все-таки, девушка, честь честью все по Анфисушке справили. Вот и помянули как следует, а через это и душеньке-то ейной на том свете будет легче.
– Само собой, – отвечала ей Арина, натягивая на голову свой армяк и собираясь ложиться тоже на покой.
LXX
В первое же воскресенье Арина и демянские женщины служили вскладчину в местной деревенской церкви панихиду по Акулине и Анфисе. На панихиду приплелись и больные – Фекла и Гликерия. Гликерия еле передвигала ноги, опираясь на палку. Лихорадочная Фекла пришла в полушубке, хотя день был теплый и солнце светило вовсю. Идя в церковь, больные женщины останавливались раза два отдыхать и садились. То же было и на возвратном пути. Феклу, кроме лихорадки, одолевала и одышка.
– Нет уж, видно, нам не поправиться с тобой, Гликерьюшка, – говорила она своей больной товарке. – Протянем и мы ноги. Придется и по нас Арише с Марфуткой панихиду служить.
– Эко мелево! Мели, Емеля, твоя неделя, – утешала ее Арина. – То есть так-то еще поправишься, что в лучшем виде. Теперь пошли дни теплые.
– Однако вот не поправляемся, а все хуже и хуже, – кряхтела Гликерия. – Я так даже прямо из кулька в рогожку: сначала у меня ноженьки ныли только до колена, а уж теперь и вверх пошло. Вот тебе и теплые дни! Нет, уж нам коли есть какая поправка, то поклониться заработкам и ехать к себе в деревню, а там ложиться на печь и околевать с голоду.
– Уж и с голоду околевать! – опять возражала Арина. – Шесть рублей у тебя есть принакоплено, семь рублей своим в деревню послала, платьишко ситцевое здесь себе справила, рубль с лишним послезавтра от приказчика получишь…
– Эх, милая! Большие деньги – шесть рублей, что говорить, коли бы я могла в деревню-то пешком идти, а то ведь вон я какая – еле до церкви доковыляла. А ведь до деревни-то ехать, так из шести-то рублей надо больше половины на чугунку издержать.
– Поеду, Аришенька, и я в деревню на поправку – мочи моей нет, – решила Фекла. – Должно быть, уж мы не в час в Питер пришли, что ли!
– Какое «не в час»! – возразила Марфа. – Просто тебя и Гликерию кто-нибудь сглазил здесь. Все говорили про вас: «Вот ломовые бабы, вот работящие!» Вот тебе и работящие! Право слово, сглазили.
– Да кому сглазить, Марфуша? Ведь это надо, чтобы по злобе.
– А хоть бы тот же Андрей. Чего парень к нам тогда привязался?
– Не к нам он, милая, привязался, а девка ему понравилась. Из-за Ариши он.
– А коли ежели ему Арина так нравилась, то не променял бы он ее на Аграфену.
При упоминании об Андрее Арина вспыхнула и сказала:
– Да полноте вам об этом разговаривать. Бросьте!
– Просто ему артель захотелось расстроить, этому Андрюшке, – вот он и расстроил, – продолжала Марфа. – Мы врознь, вы отдельно, Аграфена в сторону, две из наших на огород пошли, а ему этого только и надо было, чтобы артель повредить. Злой человек видит согласие – его и мутит. У него глаза воровские.
Арина поднялась с земли.
– Ну, отдохнули, и будет, – проговорила она, чтобы прервать разговор об Андрее. – Пойдемте к шалашам. Обедать надо.
Кряхтя и охая, стали подниматься Фекла и Гликерия и стали продолжать путь, но идти было им трудно, до того трудно, что когда они выбрались на берег Тосны, – а до шалашей было еще более версты, – то они попросили у стоявших у берега на барке рабочих лодку, дабы доехать до места своей стоянки.
После незамысловатого обеда из хлебова с картошкой и куском солонины ради праздника больные женщины окончательно решили ехать домой в деревню и назначили даже день отъезда послезавтра, о чем объявили и Арине.
– А ты, милушка, от больных освободишься и приставай к здоровым, ступай работать с Марфушей и Устей, – сказала ей Фекла.
– Нет, я без вас здесь не останусь. Я уйду в Питер и буду на огороде места искать, – отвечала Арина.
– Что так?
– Надоело мне здешнее место. Глаза бы не глядели… И давно бы я отсюда ушла, да из-за Анфисушки, да из-за тебя, Фекла Степановна, оставалась, а Анфисушка померла, ты уходишь – ну, и я ухожу. Провались эти места, опостылели они мне.
– Из-за Андрюшки? – полюбопытствовала Фекла.
– Да что все из-за Андрюшки да из-за Андрюшки! Плевать мне на Андрюшку! Из-за себя опостылели… Сама была глупа. Не будь сама глупа – и Андрюшка бы ничего не поделал! – воскликнула Арина, стала кусать губы и расплакалась.
– Полно, девушка, плакать. Не ты одна глупа, а все девки на чужой стороне глупы. На чужой стороне уберечься трудно, – утешала Арину Фекла.
Потолковав еще немного, Фекла и Гликерия вытащили из шалашей свои мешки с травой и легли отдыхать на солнышке, а Арина присела на чурку и стала смотреть на воду. На воде играла рыба, делая широкие круги, вдали кто-то наигрывал на гармонии и тянул какую-то грустную ноту. Грустная нота задела Арину за сердце, и она опять всплакнула, но, наконец, утерла слезы, полезла в карман платья, нашла там горсточку подсолнухов и принялась их грызть. Когда подсолнухи были съедены, Арина запела какую-то песню, но песня не пелась. Арине вспомнилась родная деревня, отец, мать, братишка маленький, сестренка.
«Что-то они теперь поделывают? Как-то они? Поправились ли?» – мелькало у ней в голове – и к горлу опять стали подступать слезы.
Вдруг Арина за собой услыхала шаги, и чей-то мужской голос говорил:
– Вот тут спроси… Вот тут демянские пилят и промеж их есть одна боровичская.
Арина быстро обернулась и вздрогнула. Перед ней стоял мужик в розовой ситцевой рубахе, без картуза, без опояски и указывал на нее, Арину, а за мужиком стояла бледная, исхудалая Акулина с сапогами перекинутыми через плечо и опиравшаяся на палку. Вздрогнув, Арина тотчас же оправилась и стала вглядываться в Акулину – она, Акулина. В довершение всего Акулина заговорила:
– Аришенька, душечка, наконец-то…
Услыша голос Акулины, Арина взвизгнула и закрыла лицо руками.
– Да что ты, ангелка? Чего ты?.. – продолжала Акулина.
– Не подходи, не подходи! Свят! Свят! Наше место свято! – пронзительно кричала Арина, вскочив с чурки и прижимаясь к поленнице дров.
– Да чего ты, глупая! Здравствуй!
– Феклуша! Фекла Степановна! Гликерьюшка! Помогите!
Фекла и Гликерия, спавшие тут же, проснулись от крику, сидели на подстилках, заспанными глазами вглядывались в Акулину и недоумевали.
Гликерия крестилась.
– Здравствуйте, Фекла Степановна, здравствуй, голубушка… – говорила Акулина.
Фекла первая пришла в себя.
– Господи Иисусе! Да неужели это ты, Акулинушка? Ведь ты умерла…
– Умирала, милая, совсем умирала, сама не чаяла, что жива буду, лежала без памяти, да вот поправилась и уж с неделю как вышла из больницы. Аришенька! Да подойди ж ты ко мне. Чего ты боишься? – обратилась Акулина опять к Арине.