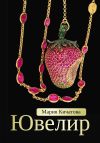Текст книги "На заработках. Роман из жизни чернорабочих женщин"

Автор книги: Николай Лейкин
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
– Да просись вон у демянских-то баб, чтобы с собой они тебя завтра к тряпичнику взяли, – сказала Акулина.
– А с какой стати мне проситься, коли я в лучшем виде знаю, где этот тряпичный двор! Я даже сама их поведу на двор. Пойдемте и вы, там работы про всех хватит. Дешево уж только платят, ох как дешево! Вот оттого-то я и не шла туда.
Спускались сумерки. Темнело. Ожидавшие найма женщины стали собираться на ночлег. Со всех сторон слышались разговоры, кто куда пойдет.
– Мы вчера на Лиговке, на постоялом ночевали, – говорили демянские женщины, – да больно уж далеко туда идти. Сегодня утром оттуда шли, шли сюда – и конца нет.
– Так самое лучшее в ночлежный дом, у кого пятачок есть. За эти деньги даже покормят и чаем попоят, – предложила женщина с синяком под глазом. – Вот и отправимся. Иногда там местов не бывает, но ежели пораньше прийти, то про всех места хватит.
– А далече, милая, отсюда этот ночлежный дом? – спрашивали демянские женщины.
– Да уж куда ближе, чем на Лиговку-то переть.
– Ну так пойдемте, бабоньки?..
– Да, конечно, пойдемте. Она знает, она бывалая.
– Еще бы! Все ночлежные дома произошла, – похвасталась женщина с синяком под глазом. – В одном доме для всех ночлега не найдем, так в другой сведу. Не везде только кормят, чаем-то поят на ночлеге, а уж переночевать где – найдем. Коли ежели без еды да без чаю, то и за три копейки ночлег вам сыщу.
Все тронулись в путь под предводительством женщины с синяком под глазом. По улице шла целая толпа женщин с котомками и мешками за плечами. К этой толпе примыкали и Акулина с Ариной.
XXIV
Женщина с синяком под глазом была предводительшей толпы баб по дороге в ночлежный дом. Она шла впереди всех, поминутно оглядывалась и торопила товарок. Сначала они шли по тротуару, но первый же городовой согнал их на мостовую, сказав, что по тротуару с ношей ходить не велено. Пришлось идти по мостовой. Деревенские женщины, непривычные к булыжному камню, торопясь, то и дело спотыкались и поправляли съезжавшие с плеч мешки и котомки. Проходя мимо церквей и часовен, они останавливались и крестились. Женщина с синяком под глазом и здесь торопила их.
– Скорей, скорей, а то опоздаете! Поторапливаться надо. В ночлежный дом, где за пятак и чаем поят, очень многие льстятся, а потому места надо захватывать пораньше, – говорила она, крестясь на ходу.
Извозчики, видя толпу женщин, подшучивали над ними и кричали:
– Эй, бабье войско! Пушку потеряли!
Женщины смеялись и шли далее. Когда они пришли, ночлежный дом еще был заперт для ночлежников, но у входа на лестницу уже стояла толпа человек в пятнадцать, большей частью мужчин. Женщин всего было только две или три.
– В самый раз попали… Еще не пускают в нутро-то. Здесь с восьми часов пускают. Теперь попадем. Все будем в одном месте ночевать, – сказала женщина с синяком под глазом. – Становитесь только ближе ко входу и не пускайте никого из чужих вперед.
Женщины навалились на двери. Две-три из них сняли с себя котомки, положили их на землю и приготовились было садиться на них, но женщина с синяком под глазом запретила это делать.
– Нет, так нельзя. Надо плечо в плечо сомкнуться, а то живо кто-нибудь забежит вперед, и тогда некоторые из наших могут не попасть сюда на ночлег! – кричала она. – Здесь впускают по счету, здесь женских местов немного.
Около ночлежного дома бродил разносчик с корзинкой и продавал желающим хлеб и куски вареного соленого судака. Двое мужчин из числа ожидающих закусывали, отщипывая крохотными кусочками купленную рыбу и отправляя ее в рот, остальные курили, накуриваясь на всю ночь, так как в ночлежном доме курить открыто не дозволяется. В большинстве случаев одна папироска ходила по трем-четырем ртам. И каких-каких только одежд не было у этих чающих ночлега мужчин! Тут были и рваные сермяги, и пестрядинные штаны, заправленные в худые стоптанные сапожонки, были опорки, одетые на босую ногу, были дырявые валенки и даже туфли, сплетенные из суконных покромок и подшитые кожей от чайных цибиков. У некоторых сквозь прорехи ветхой одежды сквозило голое тело. В особенности это выделялось у двух ночлежников, одетых в городские костюмы. Один был в легком, когда-то гороховом, пальто, опоясанном мочальной веревкой, так как оно не имело ни одной пуговицы. Около горла, по воротнику, оно было стянуто какой-то грязной тряпицей, но все-таки настолько плохо стянуто, что сквозила голая мохнатая грудь. Владелец этого пальто имел на голове детскую жокейскую, когда-то светло-синюю фуражку, которая еле-еле держалась у него на макушке. Другой был в мятом плюшевом цилиндре на голове и в женской ситцевой ватной кацавейке, подпоясанной ремнем, из коротких рукавов которой выглядывали красные жилистые руки.
Мужчины все прибывали и прибывали. Пришел какой-то пьяный усатый человек в рваной кожаной куртке и в валенках и хриплым голосам стал балагурить.
– Три двугривенных, братцы, удалось сегодня с гробовщика содрать. Человеком с фонарем впереди ходил… Сорок копеек от гробовщика да двадцать копеек со сродственников покойника очистилось, а вот теперь всего только пятак на ночлег остался да три папироски. Яко благ, яко наг, яко нет ничего. Все спустил за упокой господина покойничка! – говорил он.
– Куда ты пьяный-то лезешь! Ведь не впустят. Здесь строго, – замечали ему другие мужчины.
– Да будто я пьян? О!
– Конечно же, пьян. А то нет, что ли?
– Ну, коли по-вашему пьян, то притворюсь трезвым – вот и не заметят.
– Как же не заметят-то, коли ты шатаешься.
– Я шатаюсь? А хочешь, я сейчас по одной половице пройду?
– Иди, иди прочь с Богом.
– Как «иди»? А где же мне ночевать?
– Да в участке. Самое для тебя лучшее место будет.
– Ну, веди меня в участок, коли так. Предоставь. Пусть возьмут.
– Очень мне нужно с пьяным возиться. День-то деньской по городу слонялся я, слонялся, так только бы на нары приткнуться.
– Ну, то-то! – прищелкнул языком пьяный. – Не возьмут меня, а то я в лучшем бы виде на даровую квартиру пошел. В участок берут только тех, кто на ногах не стоит, на тротуаре валяется. А я… Хочешь, я сейчас пред тобой трепака спляшу?..
– Тьфу, пропасть! Вот навязался! Да отойди ты от меня, Христа ради! А то и меня могут за твою пьяную компанию счесть и не пустят. Ну, уйди. Честью тебя просят. Ведь сейчас дверь отворят, а ты тут около меня мотаешься.
– О?! А нешто пропить этот последний пятак?..
В это время щелкнул замок, и отворилась дверь на лестницу.
– Протискивайтесь, бабы! Протискивайтесь скорей вперед! – командовала женщина с синяком под глазом, стоявшая около самых дверей и влетевшая на лестницу первая.
Деревенские бабы и девки толпой хлынули за ней. В толпе проскользнули на лестницу и Акулина с Ариной.
XXV
Ночлежный дом, в который попали Акулина и Арина с товарками, был один из тех, которыми заведывало общество ночлежных домов. Дома эти устроены с благотворительной целью, и хотя общество берет за ночлег пять копеек с человека, но каждый ночлежник обходится обществу гораздо дороже. За пять копеек общество, кроме ночлега, выдает ночлежнику перед сном небольшую чашку щей с куском хлеба или каши, а утром, перед выходом с ночлега, кружку чаю с куском сахару.
– Не напирай, не напирай! Стол опрокинете! Куда все сразу лезете! Бабы! Осади назад! Осади, говорят вам, назад! Которая будет напирать – вон вышвырну! – раздался с площадки, у которой кончалась лестница, мужской голос.
На площадке стоял стол в виде стойки, он загораживал вход в ночлежные комнаты, и около стола сидел смотритель дома, он же и кассир, человек торгового типа в потертом пальто-пиджаке и шапке. Человек этот пропускал мимо себя ночлежников, принимал пятаки и выдавал билеты, вырывая их из книжки.
Женщины, оповещенные предводительшей – женщиной с синяком под глазом, что в ночлежный дом можно и не попасть, ежели местов не будет, в особенности напирали на стол, стараясь протискаться к нему. Стоял говор визгливых женских голосов. Кто-то кричал в толпе:
– Бабоньки! Что же это такое! Я башмак с ноги потеряла! Дайте же нагнуться. Ведь пропадет башмак. Как же мне об одном башмаке!..
– Вам же сказано, чтобы вы не тискались, бабье племя! Что это такое! Я, ей-ей, перестану билеты выдавать! – возглашал смотритель.
Арина получила уже билет, проскользнула мимо стола и кликала Акулину:
– Акулинушка! Где ты! Иди скорей! А то разрознимся.
– Я здесь, здесь, милая. Погоди немножко… Сейчас… Видишь, пускают по очереди, – отвечала Акулина, стоя в толпе сзади женщины с синяком под глазом.
Женщина с синяком под глазом рылась в кармане, шаря денег. У ней оказалось в наличности только три копейки, но смотритель за три копейки билета не выдавал.
– Как же ты лезешь, мать, не сосчитав деньги? Ведь знаешь, что сюда за три копейки не пускают, а надо пять, – говорил смотритель. – Ну, ступай назад. Нечего тебе тут толкаться…
– Да у меня, голубчик, было пять копеек, три и две копейки, да карман-то дырявый… Сама считала, что пять. Ах ты господи! Да неужто же я две-то копейки потеряла?
– А потеряла, так и уходи. Зачем же ты других задерживаешь!
– Постой, я в юбке пошарю. Там тоже карман.
– Отстраняйся, отстраняйся! Пропускай других. Некогда тут шарить да вчерашнего дня искать.
Место женщины с синяком под глазом заступила Акулина, и ей тотчас же был выдан билет.
– Бабоньки! Дайте две копейки! Ей-ей, я куда-нибудь эти две копейки засунула, – обратилась женщина с синяком под глазом к товаркам, но те молчали и отвертывались. – Акулинушка! Мать родная, снабди двумя копейками, Христа ради! Я тебе какую-нибудь вещь в залог дам. Сама же я вас сюда привела, и вдруг сама же должна вон идти. Я ведь отдам. Право слово, отдам.
Акулина вопросительно взглянула на Арину. Та отвечала:
– Да дай, Акулинушка. Жалко ее, бедную.
Акулина вынула две копейки и положила на стол. Женщина с синяком под глазом была пропущена мимо стола и, держа в руке билет, говорила:
– Спасибо, голубушка, спасибо. Я вот завтра какую-нибудь вещь продам, так сейчас же отдам тебе две копейки. И как только я эти две копейки потерять могла – и ума не приложу! Ведь и в юбочном кармане нет.
– Да, потеряла! Чего ты врешь-то! Ты и третьего дня так же две копейки теряла, как и сегодня. Ведь третьего-то дня я ночлежничала с тобой у Измайловского моста, так помню, – говорил в толпе женский голос. – Просто на чужие две копейки хочешь ночлежничать. Маклачка известная!
Женщина с синяком под глазом не возражала и юркнула вместе с Акулиной и Ариной в женскую ночлежную.
Женская ночлежная была сравнительно небольшая комната о трех окнах с нарами в два яруса посредине и около двух стен. Нары были окрашены темно-красной масляной краской и были разделены в виде стойл невысокими перегородками с возвышением для изголовья, которое вместе с тем служило и ящиком. Верхняя доска поднималась, и туда можно было прятать одежду и котомки. Подстилок и подушек не было. У третьей стены топился маленьким огнем большой камин и вентилировал комнату.
– Залезай, девоньки, на нары! Захватывай хорошие места, пока нижние нары не заняты! На верхних-то жарко и душно бывает! – командовала женщина с синяком под глазом. – Бери, Акулинушка, голубушка, уголок у стенки. У стенки уголки всегда лучше.
И она даже пихнула Акулину к угловому стойлу на нижних нарах, находящемуся около стены, а сама залезла в стойло рядом и также указывала на стойло Арине.
Через пять минут женщины все проскользнули в ночлежную и, разместившись на нарах, сидели в отдельных стойлах и разувались. Запахло прелью, потом, какой-то кислятиной, и воздух начал становиться спертым.
– Девушки! Кто хочет чулки посушить, так идите к печке. На это здесь запрету нет, – обращалась к товаркам по ночлегу женщина с синяком под глазом, как бывалая.
– Знаем. Без тебя знаем. Не учи, – откликнулась какая-то деревенская баба, все еще относящаяся к женщине с синяком под глазом недружелюбно за то, что она взяла у Акулины две копейки, и прибавила: – Подлая тварь! Второй раз такую штуку проделывает с двумя копейками. Третьего дня тоже какую-то дуру облапошила и вымолила у ней две копейки. А вот не приплати за нее две копейки – и у самой бы у ней эти две копейки нашлись бы. Об заклад побьюсь, что нашлись бы.
А женщина с синяком под глазом уже вертелась около камина и, подняв подол ушлепанной в грязи юбки, сушила ее около огня.
Вскоре в соседней комнате раздался звонок.
– К ужину звонят! Пойдемте к ужину, товарки! – крикнула женщина с синяком под глазом и бросилась в соседнюю комнату, из которой уже распахнули дверь в ночлежную.
Остальные ночлежницы также повскакали с нар и направились в столовую, из которой выбивался запах горячих кислых щей и свежеиспеченного хлеба.
XXVI
Комната, где кормили ночлежниц, была в то же время и кухней. Поданы им были немудрые щи со снетками, впрочем, в отдельных маленьких глиняных чашках. Ели они кто сидя, кто стоя и наскоро. Большинство женщин успели уже позаправиться едой под навесом у Никольского рынка, а потому особенно голодных не было. С жадностью набросилась на еду только женщина с синяком под глазом. Акулина и Арина, съевшие пред отправлением на ночлег по доброй краюшке хлеба, хлебали щи только потому, что щи были предложены им, а Арина даже отдала свой кусок хлеба, полагающийся к щам, женщине с синяком под глазом.
Когда женщины поели, их попросили опростать кухню, дабы после них кормить мужчин, – и вот Акулина и Арина вновь на нарах ночлежной, Арина лежит в стойлице у стенки, рядом с ней в стойлице помещается Акулина, а рядом с Акулиной – женщина с синяком под глазом. Все они зевают и при свете неярко светящей с потолка лампы разговаривают. Акулина смотрит по сторонам и умиляется на удобства ночлежного дома.
– Скажи на милость, как здесь хорошо, девушка! – говорит она женщине с синяком под глазом. – Ведь вот не приведи ты нас сюда, так мы бы и не знали, что такой хороший ночлег за пятачок есть. Большое тебе спасибо, родная. Как тебя звать-то, я все не спрошу…
– Лукерьей меня звать, Лукерьей. А насчет двух копеек, которые мне дала, ты не беспокойся. В лучшем виде я тебе завтра из заработки на тряпичном дворе отдам, а не будет заработки, так вот чулки продам, что ли, а две копейки все-таки отдам. Не беспокойся.
– Да что за беспокойство! Я и не беспокоюсь. Рада, что помогла. Мало с кем какой грех может случиться! А потерять деньги долго ли?..
– Ну вот… А тут иные бабы не верят, что у меня было пять копеек, когда я сюда шла, сомневаются, – оправдывалась Лукерья, – главная статья, что у меня карман с прорехой! Надо бы вот его зашить, да нитки-то с иголкой нет. Ты посмотри, какой у меня карман…
– Да верю, верю я тебе, Лукерьюшка, – перебила ее Акулина.
– Еще милостив Бог, что я все пять копеек не потеряла. Только потому и не потеряла, что дырочка-то маленькая в кармане, а будь большая – и трехкопеечник бы провалился. Деньги были у меня такие, что один трехкопеечник и две монетки по копейке. Копейки-то маленькие, так провалились в прорешку, а трехкопеечник-то застрял.
– Да полно, брось. Ну что об этом говорить!
– Как «что»! Две копейки – тебе фунт хлеба. Конечно, я отдам их тебе, но все-таки ты меня не знаешь и можешь сомневаться.
– Ты сама-то из каких мест? Какой губернии? – спросила Лукерью Акулина, чтобы замять разговор о двух копейках.
– Я, Акулинушка, тульская, но девочкой маленькой оттуда из деревни привезена и с тех пор там уже не бывала. Теперь я в мещанки приписана… Шлиссельбургская мещанка я. Жила и в Москве, жила и в Нижнем на ярмарке, ну а теперь годов вот уж шесть в Петербурге живу.
– Больше по прислугам жила? – интересовалась Акулина.
– Жила и по прислугам. Всяко жила. А привезена-то я была из деревни в Москву в ученье в цветочницы. Я, Акулинушка, когда-то хорошо жила. У меня не только конфеты или там сладости разные со стола не сходили, а я пивом и вином обливаться могла, да и вином-то дорогим, хорошим.
– Тс… скажи на милость… Замужняя, что ли?
– Нет, я девушка. Купец тут один был, который мне большие благодеяния делал. И очень меня любил этот самый купец, даже, можно сказать, обожал, но вдруг всех своих капиталов лишился, запил и помер. Одно только, что он женатый был. Ну да что об этом говорить! А жила хорошо за ним, так хорошо, что даже в каретах подчас ездила. Я не только кому-нибудь две копейки в долг давала, а может быть, по двадцати рублей давала, да и назад забывала требовать, а вот теперь пришлось горе горевать. О-о-ох!
Лукерья начала зевать вслух и умолкла. Умолкла и Акулина.
– Ариша! Ты спишь уже? – спросила она Арину.
Ответа не последовало.
– Умаялась у меня девушка-то на поломойничанье сегодня. Уж спит, – сказала Акулина Лукерье и сама громко зевнула.
Лукерья тоже ничего не ответила. Она уже засыпала, посвистывая носом. Акулина повернулась на бок, поджала под себя ноги и сама начала засыпать.
Когда Акулина наутро проснулась, солнце уже бросало свои косые лучи в окно ночлежной комнаты. За стеной громко разговаривали мужские голоса и кто-то громыхал сапогами. Несколько женщин были уже также проснувшись. Они сидели на нарах и почесывались, позевывая.
– Пятый час… – говорила одна из женщин. – Пора вставать да будить своих.
Лукерья и Арина еще спали. Акулина полежала еще немного, потянулась и принялась их расталкивать. Они поднялись, сели на нары и принялись обуваться.
– Хорошо, что разбудила пораньше, Акулинушка. Надо вставать да идти на тряпичный двор, уж ежели мы насчет этого двора порешили, – сказала Лукерья. – Дорога отсюда неблизкая, а он, тряпичник-то этот самый, не любит, кто поздно приходит, и даже иногда за полдня за работу считает, которые ежели опаздывают, а то так пятачок недодает. Хозяин очень вороватый. Вставайте, товарки, вставайте! Пора, кто хочет на тряпичный двор идти! – кричала она деревенским женщинам.
Через четверть часа все ночлежницы были уже на ногах. Акулина вытаскивала уже из ящика из-под изголовья свою котомку.
– Погоди котомку-то брать! Еще ведь чаем будут поить за пятак-то, – остановила ее Лукерья.
– Чаем? Ах, милая! Да как здесь хорошо-то! С вечера щи, каждому свое отдельное место, чтобы спать; да еще поутру чаем поят. Ведь это просто рай красный! Арина, слышишь? Еще чаем поить нас будут.
– Ну что ж, попьем, – отвечала та.
– Пойдемте, товарки, чай пить, пойдемте, – приглашала Лукерья других деревенских женщин.
– А коли чай пить, то надо, стало быть, и помолиться пред вкушанием, – сказала Акулина, осмотрела углы комнаты, нашла образ и стала креститься.
Крестилась и Арина. Другие деревенские женщины, глядя на них, тоже крестились. Троекратно наскоро перекрестилась и Лукерья.
Через пять минут все ночлежницы пили чай в кухне из глиняных кружек. На этот раз в кухне вместе с женщинами были и мужчины. Чай пили также кто сидя, а кто стоя, так как про всех места для сидения не было. Акулина опять начала умиляться на порядки ночлежного дома.
– Ах, милые, как здесь чудесно-то! Да кабы всегда так жить, так и умирать не надо! – говорила она. – Главное, что каждому своя коечка на ночлег. А мы вон на огороде работали день, так ночевка-то на полу вповалку, да пол-то сырой, холодный. Вчера тоже спали на полу у хозяйки, так мужики чуть нас не задавили, по нам ногами ступавши. Арише на руку наступили, так у ней весь день вчера рука ныла. Хорошо, очень чудесно здесь.
– Ну а уж у тряпичника работать будем, так такого ночлега не будет, – сказала Лукерья и опять заторопила товарок: – Сбирайтесь, бабы, сбирайтесь скорей на тряпичный-то двор. Нельзя прохлаждаться.
Демянские женщины, а также Акулина и Арина потянулись в ночлежную надевать на себя котомки. Спустя несколько минут они гурьбой выходили на улицу.
– Подай, Боже, чтобы всех нас взяли там на работу. А то как будет обидно, ежели ни с чем-то с этого тряпичного двора уйти придется, – говорила какая-то баба.
– Будет работа, будет. Там только дешево уж очень платят, а работа всегда про всех найдется, – утешала ее Лукерья.
XXVII
Толпа деревенских женщин под предводительством Лукерьи двигалась на тряпичный двор, на Петербургскую сторону, направляясь к Троицкому мосту. Уличное движение только еще начиналось. Попадались плотники с топорами за поясом и с пилами на плечах, идущие на работу, штукатуры в картузах и сапогах, забрызганных раствором извести, каменщики-кладчики и другие мастеровые. Утро было теплое, ясное, обещающее хороший день. Пройдя версты с три, женщины стали осведомляться у Лукерьи, далеко ли еще идти.
– Что вы, матери! И половины дороги еще не прошли, – отвечала та. – До Троицкого моста столько еще идти, сколько шли, да от Троицкого-то моста нужно колесить да колесить.
– В таком разе чего ж нам зря сапоги-то топтать! Лучше разуться и идти босиком, – раздалось среди демянских женщин.
– Конечно же, лучше разуться. Сапоги-то еще пригодятся, а сегодня и без них тепло, – поддержали другие голоса, и несколько женщин, присев на возвышенный тротуар и спустив ноги на мостовую, стали разуваться.
Разулись и Акулина с Ариной. Лукерья не разувалась. Она посмотрела на свои рваные сапоги и с усмешкой сказала:
– Ну а у меня таковские, что их жалеть нечего. Скоро и сами с ног свалятся.
Женщины перекинули сапоги и чулки через плечи и опять отправились в путь.
Близь Невского проспекта у некоторых женщин явилось сомнение относительно тряпичного двора, и они стали шушукаться, не идти ли им лучше к Никольскому рынку.
– На Никольском-то рынке на поломойство вон по два двугривенных в день нанимают, а на тряпичном дворе нужно за двугривенный работать, так лучше же на Никольский и идти.
– А как не наймут, да без найма просидишь, так что тогда? – возражала Лукерья. – Наймы-то нынче ой-ой-ой в каком умалении. Я вон несколько дней на Никольском просидела, и хоть бы кто плюнул, а на тряпичный-то двор иду, так уж знаю, что там наверное два гривенника заполучу.
Сомневались и Акулина с Ариной, но Акулина спросила Лукерью:
– А ты мне вот что, милушка, скажи. Как там, на тряпичном-то: только на один день в работу возьмут или можно и назавтра остаться?
– Да хоть вплоть до Пасхи работай. Тряпок и разного хлама горы за зиму накопили и все теперь разбирают. Одно только – заработка двугривенный мала, а насчет работы не сомневайся.
– Ну так мы с тобой на тряпичный – и будем там работать до Пасхи, а после Пасхи уж что Бог даст, на огород… – решила Акулина. – Идем, Арина, нечего тут думать.
Пять демянских баб, однако, попрощались с товарками и свернули с дороги, отправляясь к Никольскому рынку.
– Эй, не променяйте, землячки, синицу на ястреба! – кричали им вслед товарки. – Лучше вернитесь и пойдемте с нами.
– Ну, будь что будет! Попытаем счастья, благо сегодня на харчи и на ночлег денег хватит, – отвечали те, махнув руками.
Толпа женщин поредела. Вот и Троицкий мост. Оставшиеся в толпе женщины хоть и шли за Лукерьей на тряпичный двор, но также, видимо, сомневались, хорошо ли они делают, что идут туда.
– А уж больше двугривенного в день там не дадут? – спросила наконец Лукерью скуластая тощая женщина.
– Нет, уж у тамошнего хозяина положение – двугривенный. Он так и рассчитывает на таких, которым деться некуда. Да чего ты сомневаешься-то! По нынешнему времени, когда работы нигде нет, и двугривенный – Божий дар.
– Так-то оно так, но все-таки…
– А ночлег, умница, дают? Ты это наверное знаешь? – допытывалась у Лукерьи женщина с широким лицом. – Летось я работала, так давали.
– Дают, дают, и теперь дают. Сколько же раз я там в начале поста работала. У него сараев много. Спи сколько хочешь.
– А уж меньше двугривенного в день ряды не бывает?
– Не любит он вот, когда опаздывают, и опоздавшим иногда по пятиалтынному вместо двугривенного предлагает – это точно, ну да мы сегодня, кажись, не опоздали.
– Ну, вот видишь, все-таки бывает ряда и по пятиалтынному, а за пятиалтынный-то как же работать, коли ежели на своих харчах?
– Да полноте вам плакатъся-то! Бог милостив.
Перешли Троицкий мост и пошли по улицам Петербургской стороны. Вот и церковь, обнесенная оградой, за которой высились еще голые, но уже с надувшимися почками деревья и кустарники. На колокольне заунывно звонили к заутрене. Женщины остановились перед церковью и стали креститься. Взор Акулины упал на часовенку, помещающуюся около церкви на углу ограды. Часовенка была открыта, и в отворенную дверь виднелся подсвечник с несколькими горящими свечами перед старым потем-нелым образом.
– Голубушки, сложимтесь на свечку от усердия и поставимте вон в часовенке, – предложила товаркам Акулина. – Нам за это Бог подаст, что уж нас всех до единой на тряпичный двор в работу возьмут. Умницы, кто усердствует?
Мгновенно опустились руки в карманы, начались развязываться узелки кончиков головных платков, где были у некоторых женщин спрятаны деньги, и Акулине стали подавать копейки. Подавая монеты, женщины набожно крестились.
– Положи уж и за меня копеечку, Акулинушка, ежели милость твоя будет, – шепнула Акулине Лукерья. – Две копейки я тебе должна, ну а теперь уж три должна буду. Я, ей-ей, отдам. Ты не сомневайся.
– Ладно, ладно, – отвечала Акулина, сосчитала деньги и пошла в часовню купить свечку.
Через минуту мирская свечка теплилась уже перед образом. Толпа женщин стояла перед входом в часовню и опять набожно крестилась.
– Ну, поторапливайтесь теперь, товарушки, поторапливайтесь, а то как бы не опоздать, да не привязался бы хозяин-то, что поздно пришли, – торопила Лукерья женщин.
– Нет, уж теперь не привяжется, теперь нам Бог поможет, потому хорошее дело мы сделали по своему усердию, не попустит Царица Небесная, чтобы он привязался, – весело и уверенно сказала Акулина и быстро зашагала, стараясь опередить Лукерью.
– Далеко еще идти? – спрашивала Лукерью демянская женщина с широким лицом. – Ведь вот и работала я здесь летом, а дорогу, хоть убей, не помню.
– А вот эту большую улицу пройдем, свернем в первый переулок, потом во второй – в этом, во втором переулке, и будет.
Попадались деревянные домики, выкрашенные желтой или серой краской, весело смотрящие, но наконец начались заборы, которыми были обнесены пустыри. Свернули в последний переулок, прошли далеко уже не весело смотрящий ветхий дом с деревянной, начинающей гнить крышей, местами на которой виднелся мох. Дом этот совсем врос в землю, нижняя часть его окон, с заплатками на стеклах, почти касалась земли. За домом пошел покачнувшийся забор, сколоченный из барочного леса.
– Вот это тряпичный двор и есть. Сейчас ворота будут. Надо в ворота входить, – сказала Лукерья, указывая на забор.
– Вот, вот, теперь и я вспомнила! – воскликнула женщина с широким лицом.
– Ну, слава богу! Пришли наконец. Коли было бы хорошо, кабы нам всем сюда без жеребьевки на работу попасть! – послышалось в толпе.
XXVIII
Предводительствуемые Лукерьей женщины свернули в ворота, сделанные в заборе, и глазам их представился огромный грязный двор, на котором то там, то сям стояли покачнувшиеся ветхие деревянные навесы и сараи. Под навесами виднелся разный хлам, опрокинутые койки телег, старые ящики, старые колеса, оси, дышла, наполовину поломанные кузовы городских экипажей, виднелся даже опрокинутый на бок омнибус без колес. Между навесами, прямо на земле, также были навалены груды разного хлама. Груды эти равнялись чуть не с крышами навесов. При ближайшем рассмотрении в грудах можно было видеть и обручное железо, и ржавые гвозди, и кости, и стеклянный бой, пробки, катушки, жестяные коробки и банки из-под консервов. На одной из груд лежала даже портретная, когда-то вызолоченная рама с обрывками темного закрашенного полотна, оставшегося уже только в одном углу рамы. Три женщины, буквально в рубище, стояли, наклонившись около одной из куч, и, раскапывая палками, выбирали что-то такое из нее и складывали в грязные корзинки. Когда толпа вошедших на двор женщин подошла к роющимся в куче женщинам, последние обернулись и выпрямились. Одна была старуха и две средних лет.
– Бог на помочь, – сказала им Лукерья.
– Спасибо, – отвечала старуха, исподлобья посматривая на пришедших, и прибавила: – Вишь, вас сколько навалило! Работать, что ли, пришли?
– Да, загнала нужда. А где приказчик? Приказчика бы нам повидать.
– Емельяна Алексеича? В трактир чай пить ушел. Скоро вернется.
– Будем ждать, – пробормотала Лукерья и, подмигнув пришедшим с ней женщинам, сказала: – Опоздали ведь, милые.
Демянские бабы и Акулина с Ариной мгновенно переглянулись и испуганно покачали головой.
– Стало быть, уж теперь и по двугривенному не заполучишь? – спросила Лукерью Акулина.
– Приказчик-то еще ничего, а вот хозяин… А все-таки и приказчик любит, чтобы пораньше являлись. Вот уж он в трактир чай пить ушел. Вы внове, милые, или уже давно работаете на здешнем дворе? – отнеслась Лукерья к работающим женщинам.
– Я с неделю, а вон они, кажется, третий день, – дала ответ старуха.
– По двугривенному?
– По двугривенному. Здесь уж положение известное.
– Хозяин-то сам еще не выходил?
– Да ведь он никогда так рано не выходит.
– Нет, тут я как-то в начале поста работала, так он, бывало, спозаранку уж бродил по двору. Даже сам и в работу принимал, которая ежели… Ух, какой жох!
– Да ведь в начале поста рабочее утро-то когда начиналось? Часу с восьмого, потому раньше-то еще темно. Ну а теперь иной расчет, теперь с шести часов… Спит еще хозяин. Он часов в восемь выходит. Вон он в том доме живет.
И старуха указала на ветхий деревянный дом, отгороженный, впрочем, от двора покосившейся невысокой решеткой.
– Знаю, знаю я. Что ты мне рассказываешь-то! Я бывалая.
Старуха и две ее товарки снова принялись за работу. Старуха выбирала из кучи пробки, две другие женщины вытаскивали стекло и жестяные коробки и сортировали их по корзинкам. Пришедшие с Лукерьей женщины присели на бревна, лежавшие около запертого сарая. Из сарая пробивалась сильная вонь.
– Фу, как смердит оттуда, девушки! – заметила Акулина.
– Тряпки там лежат. Всегда пахнет. Ужас какая вонь. Тряпки тоже всякие есть. А сложены они в кучу, так преют, – спокойно сказала Лукерья. – Вот ежели их разбирать заставят, так ино просто с души прет.
Вскоре в воротах показался приказчик. Это был вертлявый человек с рыженькой клинистой, очень редкой бородкой, в картузе и синем армяке. Шел он, торопясь и размахивая руками. Лукерья и пришедшие с ней женщины поднялись с бревен. Подойдя к женщинам, он улыбнулся и произнес:
– А! Бабья команда! Эк вас скольких проняло прийти! То все не было никого, а тут как словно волки вас на двор загнали. Раз, два, три, четыре… Одиннадцать душ, – сосчитал он. – Поработать хотите?
– Возьми, милостивец, – поклонилась Акулина.
– Да много мне одиннадцать-то душ. Куда мне столько!