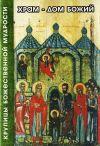Текст книги "Храм"
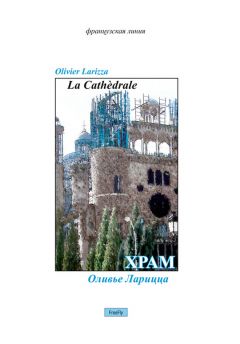
Автор книги: Оливье Ларицца
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
V
Упорство мечты
Этим утром я проснулся со странным чувством тревоги, которое сжимало грудь. Вышел из дома непривычно рано – около восьми часов – и вскоре очутился в квартале Саламанка, где расположен отель «Веллингтон» – прежнее место моего проживания. Апельсиновый сок в кафе «Небраска». Затем пешком по авеню Веласкеса в сопровождении приятного бриза. Мимо величественного отеля из латуни и зеркального стекла – портье приветствует, меня не узнавая, – белесой церкви, бесконечного парка Ретиро. Я шагаю вдоль внешней ограды, рассматриваю, задрав нос, архитектурные фасады зданий и вдыхаю запах газона, который собираются стричь муниципальные служащие. Этот запах перемешивается с запахом гренок, что жарят неподалеку, – Страстная неделя обязывает. Местное братство готовится к парадному шествию под бой барабанов и в сопровождении женщин, одетых в мантильи. У меня побежали мурашки по коже: я снова очутился в этих особенных местах, где не раз хаживал, они стали частью моего внутреннего пейзажа. Всматриваюсь в ту дорогу, по которой бродил, начиная с первого января, много раз оборачиваюсь, чтобы лучше запомнить очертания, цвета, запахи. Хоть знаю наперед, что при каждой попытке все это вспомнить память будет ослабевать в пользу пронзительно голубого неба – короля зари, повелителя дня – того единственного, что меня заполняет. «Небо Мадрида необычайно ясное, – писал Эрнест Хемигуэй, – рядом с ним итальянское небо кажется сентиментальным…»
Слева от меня – оранжевый полукруг вокзала, где укрылся тропический сад с ползающими повсюду черепахами из Флориды. Я шагал через этот сад между жительницами Флориды, словно по кораблю во время качки. Мостовые Куэста-де-Мояно, букинистические киоски серовато-жемчужного цвета, ботанический сад – здесь я оплакивал свое превращение во взрослого человека, ибо не знал, что делать с этой обременительной свободой. Короткие сообщения Нади и то, как важно добиться блеска женских глаз. Несколько недель назад моя жизнь походила на «Гернику» Пикассо. Сегодня предстоит увидеть эту картину наяву, дабы понять, действительно ли я повзрослел. Через час перед музеем Королевы Софии состоится встреча с моей королевой, она так прекрасна на фоне неба…
Интересно, что придает здесь больше решительности: стеклянный лифт больницы, превращенной в музей, или живописный ад Пикассо? Или священный гнев, что стал пульсировать в моих венах, когда я увидел «Гернику» в натуральную величину и слипшихся вокруг нее, словно пчелы на прогорклом варенье, туристов. Непреклонная служительница музея с каменным выражением лица препятствовала любому щелчку фотоаппарата – фотографировать запрещено. «Герника» – чудовищная, анархическая фреска, где конвульсивно бьется мировая слава художника. Перевернутый вверх дном мир, который вопреки всему продолжает жить, грубые линии, беспорядочные и мощные эмоции – разве этого нет у никому не известного Фернандо? Но Пикассо писал картину для Всемирной выставки 1937 года, он был уверен, что ее увидит весь мир. И это уже в порядке вещей.
– Тебя что-то беспокоит? – спросила Надя.
– Как ты думаешь, чем отличается произведение Пикассо от произведения Фернандо, кроме того, что первое – холст, а второе – монумент?
– Талантом? – иронически заметила она.
– Скорее репутацией. И замыслом, а еще – идеологическим обязательством. Пикассо восстает против смертельного насилия, которое организовали Франко и нацистская авиация; Фернандо прославляет любовь Бога. Художник обладает преимуществом смело выражать политическую точку зрения, и тогда его творение становится символом.
– Ты прямо-таки преклоняешься перед своим Фернандо. Что же тебя так привлекает в этом старике?
– Он трогательный и стойкий, но вернемся к «Гернике» и собору. Я не вижу между ними художественного различия, я их ставлю на один уровень, причем у старика, как ты его величаешь, больше размах. Оба они создают как ерунду, так и шедевры. Пикассо меня часто разочаровывает, особенно своими эскизами. Вот если взять Дали, то в каждом его полотне звучит вопрос, каждое полотно держит в напряжении несколько долгих минут как разноцветная молния, которая остается в мыслях надолго. Ему свойственны такие утонченность, разнообразие, виртуозное чувство тревожности… потрясающе! Даже его скульптура «Бюст Жоэль» меня надолго очаровала…
Надя уничтожила мою атаку одной фразой:
– Все это субъективно.
О, эта женская способность сразу добраться до самой сути, пока самец изворачивается. У Нади красивый глубокомысленный профиль. Ее пленила мощь холста. Собственные видения сплелись с видением Пикассо и овладели ею. Стоит ли ревновать к мертвому художнику? Может ли духовность по сути своей быть чем-то чувственным? И вдруг я этого возжелал как революционер.
– У меня такое впечатление, что «Герника» и гражданская война – это определенные клише вашей самобытности. Словно перед туристами прокручивают кинопленку под песню тридцатых годов, запись устарела, голос трещит…
Она прошептала:
– Ты думаешь, если мы вместе смотрим картину, значит, надо обязательно все комментировать?
– Но ведь хочется поделиться впечатлением.
– Поделиться… или нарушить тишину?
– Чем тебе не нравятся мои комментарии?
– Ничем. Глядя на эту картину, я думаю о Фернандо и его отце. О том, как эта политика-шлюха и никудышные идеалы разорвали их семью. Отец боролся против Франко, представляя себя солдатом Христа. Но принадлежать одновременно Богу и свободе невозможно. Это же шизофрения. Ты представляешь состояние маленького Фернандо и его матери?
– Его мать была набожной как просфора, и он пошел по ее пути, последовал ее примеру. Поэтому отношения с отцом у него осложнились…
Надины глаза заблестели.
– Ну, а где же ты?
– В эту минуту я здесь.
– Но Фернандо – не твой отец, и ты – не его сын. И вы не наверстаете вместе того, что утеряно для него, а ты, если не позвонишь, рискуешь потерять…
– Надя, оставь моего отца в покое! Я не нуждаюсь в твоем психоанализе, если только не хочешь заставить меня сбежать.
– Ты уже бежишь.
– Я бегу?!
– Да, ты бежишь от своего отца. Ты бежишь от меня.
– Я бегу от тебя?!
– Ты что-то скрываешь от меня, чего-то не договариваешь.
– Но в отсутствии тайны пара долго не продержится.
– Ты считаешь, что наша история продолжается? – произнесла она иронично. – Как воспринимать эту новость, как хорошую или плохую?
Я умолк. Молчание – мой щит, моя броня. Напротив нас – новое скопление туристов. Напрасно они старались быть иными, все равно оставались одинаково банальными. Англичанин походил на англичанина, который ему предшествовал, японец – на японца. Те же шорты, те же сандалии. Те же шумные дети. То же глупое механическое желание нарушить запрет и сфотографировать «Гернику», то же экзогенное чувство – стоя перед гениальной картиной, возомнить себя невесть кем. Желая ускользнуть от этой монотонности, я решил стать писателем.
– У меня с отцом никогда не было доверительных отношений, – прервал я молчание. – Он был слишком властным. Мать меня лелеяла, а он… со своими длинными черными усами… был всегда чересчур суровым. Но главное…
– Что же главное?
– Он никогда не верил в мои мечты.
Она слушала меня внимательно, ее глаза еще сильнее заискрились.
– Ну и что? Это тебе надо верить в свои мечты, а не кому-то другому.
– Да, конечно. Но ведь любящий отец всегда поддерживает свое дитя, верно? Однажды я подготовил рукопись – сборник стихов. Стихи посредственные, сегодня я это охотно признаю. Но тогда я пытался их опубликовать. Это случилось накануне моего тайного бегства в Америку. Я учился в Страсбургском университете и приехал на выходные к родителям. За свои деньги я напечатал тридцать экземпляров и намеревался их разослать такому же количеству издателей вместе с сопроводительным письмом. Подготовленные к рассылке письма я положил на столе в столовой, и отец тут же на них отреагировал: «Слушай, тебе еще рано публиковаться!» Почему он насмехался надо мной? Разве я хоть раз упрекнул его за серую, рутинную жизнь бухгалтера? За чрезмерную осторожность, которая заставила его отказаться от своей мечты в пользу семейной жизни, которую он считал надежной и спокойной, а она рухнула в один миг, как только не стало матери? Я не собирался бросать учебу ради того, чтобы стремглав заняться литературной карьерой! Скорее бросил бы бутылку в море к сверкающему горизонту… По какому праву он решил уничтожить магию моего будущего? Направить меня на рациональный выгодный путь, который меня не интересовал?
– Так ты хочешь стать писателем? – вопросом на вопрос ответила Надя.
– Да. Сильнее, чем прежде.
– Ну, тогда начни с того, что напиши отцу.
Я уже не просто мечтал стать писателем, моя мечта приобрела конкретную форму. Впрочем, когда тебе за тридцать, мечты вдруг исчезают. Они разрушаются одна за другой, как опоры пусковой установки в ту минуту, когда ракета взлетает. Жизнь сама очищает стол от героических фантазий, иногда по умолчанию, но время сладостного ожидания определяет некоторые, решительно невозможные вещи. И это успокаивает, ведь скорбь по несостоявшейся мечте гораздо сильнее, нежели скорбь по ушедшей из жизни матери. Вроде без особой боли привыкаешь к мысли о безвозвратности сделанного или несделанного выбора. Уже можешь смириться с собственной неудовлетворенностью – это называется зрелостью. От мечты остаются лишь сожаления или воспоминания, но она продолжает жить в твоих помыслах. Мечта стать писателем, настоящим писателем, позолотила поблекший фамильный герб на моем замке из слез. Что может быть легче, чем траурно описывать воспоминания и сожаления? Достаточно долго я думал, что умение писать – это природный дар. Я ошибался. Это – компромисс.
Случается, что компромисс литературы достигает высоты жизни, хотя бывает так, особенно когда происходящие события накалены до предела и непомерно жестоки, что жизнь не позволяет заключить себя в рамки. В это утро двенадцать муниципальных полицейских окружили собор. Разъяренный Фернандо метался на паперти.
– Что происходит? – спросил я у него.
Он что-то невнятно пробормотал в ответ.
Вход в боковой неф охраняли четверо полицейских. Пластмассовая люминесцентная лента с табличкой о запрете перекрывала вход.
– Вы можете объяснить, в чем дело? – настаивал я.
И тогда мужчина в униформе, с суровым выражением лица сухо мне представился.
– Вход в это помещение запрещен, синьор, – отчеканил он.
– Почему?
– Решение муниципального совета.
У меня перехватило горло.
– Извините, не понял.
– С кем имею честь говорить?
– Я французский друг синьора Алиага. Через несколько дней у нас состоится встреча с мэром, чтобы обсудить условия… Вас прислали из мэрии?
– Я руковожу в мэрии службой городского строительства. Мне ничего не известно о вашей встрече. Вот постановление муниципалитета о закрытии стройки в целях безопасности.
Он протянул мне помятый лист бумаги и сказал извиняющимся тоном:
– К сожалению, у документа очень плохой вид… Но в этом вина вашего друга. Он скомкал лист, хотел использовать его в качестве туалетной бумаги. У неграмотных людей горячая кровь, как видите!
Я схватил документ и разорвал его, выдержав тяжелый взгляд строгого служащего.
– У этой бумаги слишком неприглядный вид, – заключил я.
Так, значит, городской голова бесстыдно водил нас за нос. Мы кипели от ярости. Спустя несколько минут мы уже были в маленьком офисе маленькой мэрии, расположенной на маленькой площади Мехорада, где торговцы и обслуживающий персонал кафе чувствуют себя, как на курорте. И Фернандо воочию убедился в том, что наставление Иисуса: «Стучите и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и идущий находит, и стучащему отворят»[14]14
Матф., 7:7; Лук., 11:9.
[Закрыть] – не всегда правомерно. Иисус никогда не имел дело с секретарем мэра Мехорада. И кто знает, не воспользовался ли Моисей дубинкой во время плавания по Красному морю? Фернандо прихватил свою дубинку на всякий случай. Увидев дубинку в его руках, ошеломленные муниципальные служащие, что блокировали проход, тотчас выстроились в два ряда и предоставили нам королевский путь к кабинету главного чиновника городского управления, который, по их словам, находился «в отъезде».
А тот аж подскочил в своем кресле, приняв вызывающий вид, как петух. Его подбородок от удивления торчал поверх жабо из галстуков, завязанных большим бантом. Точь-в-точь персонаж с гравюры или литографии «Усатый щеголь в манишке тореро». Судя по развешанным на стенах фотографиям в рамках под стеклом, на которых красовались дарственные надписи, искусство боя быков было его особенной страстью. В обычной обстановке я бы сказал просто: «Ему нравится тавромахия», – но сейчас во мне кипела животная злоба. Я видел узость его интересов, все то, что указывает на человека, желающего представлять собой нечто большее, чем он есть на самом деле. Пропитанный зловонием сигары кабинет не был достаточно просторным для той громоздкой мебели, которая его переполняла, как, например, деревянный стол на изогнутых ножках, покрытый золотистым лаком. Да и сам мэр казался спрессованным в своих одеждах: купорос отвислых щек свисал над воротником, и сюртук с крупными петлицами был затянут на устаревший мещанский лад XIX века.
– Дон Алиага, как вы смеете! – выкрикнул мэр.
Фернандо наблюдал за ним, не моргнув глазом. Бурный обмен мнениями начался между народным избранником и мной. Я выразил горькое разочарование по поводу его предательства; он мне возразил административными требованиями. Язык сердца, казалось, не пробудил его разум. Очень скоро проявилась и личность мэра: он ненавидел католиков. Для него – коммуниста без концессии – эта религия символизировала черные годы франкизма. Чиновник гордился тем, что создал Комитет защиты общественных прав и свобод, предназначенный удовлетворять растущие требования сограждан на вероотступничество. Он вспылил:
– Религия – это наше бедствие. Католицизм всячески препятствует модернизации общества. Во время последних национальных выборов священники пугали нас провалом! И вы хотите, чтобы я предоставил им полную свободу? Мне пришлось привлечь на помощь двух адвокатов, потому что Церковь умножает свои крючкотворные козни, желая удержать заблудших овец. Я больше не поддерживаю кюре, я не поддерживаю их реакционное сектантство, они цепляются за изжившие себя ценности!
Он бичевал собор Фернандо. За спиной Фернандо в сжатом кулаке дрожала дубинка. Каких усилий стоило ему заставить себя дружелюбно улыбаться! Я кипел. Слепая горячность городского головы заставила меня взять себя в руки, дабы подобрать веские аргументы. На ум пришла одна-единственная линия поведения моего друга: вне официального периметра Церкви и под носом у епископа он проявлял свое нетерпение орнаментным завитком на капители. Меня не миновала поучительность такой духовности, которая восхитит равно и профанов, и верующих, покуда те будут путешествовать. В споре с чиновником я отстаивал идею, что собор Мехорада-дель-Кампо ждет известность, а вместе с ней – колоссальная прибыль для городской казны. Воодушевленно приводил доводы, к которым в глубине души был абсолютно безразличен. Пышные усы мэра больше не тряслись, они выражали презрение.
– Дон Алиага, закрытие строительного объекта не освобождает вас от уплаты земельных налогов. Иначе мы будем вынуждены безотлагательно приступить к сносу вашего сооружения. Прохожим грозит опасность обвала.
– Это абсурд! – запротестовал я. – Вы даже не провели экспертизу.
– Заблуждаетесь! Вот отчет экспертов. Они недоумевают, как все это еще держится…
Я отказался брать в руки протянутые мне бумаги. Я думал о Гауди, о тех никчемных экспертах, что выносили приговор его произведениям.
– Ни у кого еще не было ни ушибов, ни увечий, будь то внутри или снаружи собора – ни у господина Алиага, ни у меня, ни у кого-либо еще.
– Ну, конечно же, вас оберегает Дева Пилар, – подтрунивал чиновник. – Ведь соборы выстроены благодаря Богу, так можно дойти до того, что он на самом деле существует!..
И мэр конвульсивно захохотал, отчего затряслись его телеса непомерных размеров.
Затем напыщенно произнес:
– Меня избрали для того, чтобы изменить положение дел в городе. Перемены – вот мое кредо.
– Это лозунг всех политиков, – возразил я. – В каждой избирательной кампании они затягивают один и тот же назойливый припев, твердят, что перемены – это их важнейшее обязательство, которые они якобы хотят осуществить. А мир на самом деле меняется очень быстро. Но разве люди стали счастливее? Мехорада-дель-Кампо – поселок улучшенного типа. Так помогите сделать его лучше. За счет углубления, а не изменений, конечно, это не так популярно, зато, уверяю вас, намного эффективнее. Современное общество стремительно развивается, и в погоне за деньгами, новизной и последним писком моды, за немедленным удовлетворением потребностей оно трещит по швам. Тогда как последовательность и самоотверженность – намного важнее. А еще – память. И все это символизирует собор Фернандо. Вы могли бы стать первым гарантом этого собора.
Городской голова встал, зацепив брюхом стол.
– Так! – пропыхтел он. – Я вас долго слушал. Я понял ваши требования, но и вы поймите: у меня в подчинении целый район, и на первом месте – общественная польза. Рассчитываю на ваше понимание, господин Алиага, будьте благоразумны. И надеюсь, молодой человек, вы ему это втолкуете. До свидания!
– Общественная польза?! – возмутился я.
– Прошу вас. Вы же не хотите, чтобы вас выставили отсюда силой…
Он указал нам на выход, прежде чем опустился в кожаное кресло малинового цвета. Больше нечего было добавить. И все же, вытащив из-за спины дубинку, Фернандо медленно подошел к столу и наклонился к уху чиновника.
– Видите ли, – прошептал Фернандо, – меня оберегает не только Дева Пилар…
– Что же еще? – пропищал мэр, и его одутловатое лицо позеленело.
– Мое безумие.
В Вудстоке, что расположен на востоке штата Нью-Йорк, в 1968 году при загадочных обстоятельствах сгорел огромный зеркальный дом Кларенса Шмидта, в котором покрытые фольгой деревья окружали сотни старых окон: надо ли подозревать в этом враждебно настроенных соседей? Украшение нескольких гектаров земли – сад-словарь из жестяных табличек с оригинальными надписями от руки – в имении Арманда Шультесса в швейцарском Тессине, сожгли наследники после смерти творца, устыдившись такого наследства. Подобная судьба была уготована статуям, созданным Г. Смитом в Матчинг-Грин, деревушке графства Эссекс. Мэрия города Ньюарк, штат Нью-Джерси, сумела разрушить арку Кеа Тавана в 1988 году, несмотря на мощные протесты ее защитников. Недавно муниципалитет Детройта сделал нечто подобное с проектом «Хайдельберг» Тайри Гайтона. Никому не ведомо, сколько живописных мест и строений так и не нашли защиты от невежественных властей или семей наследников, оказавшихся в затруднительном положении.
Я повторял последнюю фразу: «Никому не ведомо, сколько живописных мест и строений так и не нашли защиты от невежественных властей». В энциклопедии «Мир фантазий в архитектуре» – моей библии – часто упоминаются неизвестные места, значит, надо вывести собор в Мехорада, я в этом убежден, из состояния «инкогнито», что, разумеется, противоречит идее моего Фернандо.
С книгой под мышкой я отправился на встречу с Надей и ее друзьями: близнецами Мартой и Марией, Алисией и австралийцем Каделем, который обосновался в Мадриде два года назад. Мы договорились встретиться перед входом в Метрополь, что расположен в начале улицы Гран Виа – местным Бродвеем с пост-нью-йоркским ритмом, кричащим освещением клубов, вереницей кино и театров, кафе быстрого питания, банками, не умолкающими клаксонами автомобилей… Мы бродили в этом вечернем буйстве огней и звуков, разговаривая то на испанском, то на английском и даже на французском – с Марией. Оказывается, Мария учила французский язык в Аркашоне, а теперь преподает его взрослым людям в системе непрерывного образования. «Мир похож на устрицу», – поется в песне «Фрэнки едет в Голливуд». Мне казалось, будто я нахожусь в раковине этой трепещущей устрицы, в соленой ванне студенческих лет на Мальте, в Америке или в любом другом месте, в веселой обстановке Эразма со вкусом вечной юности. Впрочем, выставленные напоказ кольца прекрасной Алисии не символизировали ни помолвку, ни супружеские узы – всего того, чем гордится тридцатилетняя женщина, – это был лишь материал для брекетов.
И все-таки между мной и моими сверстниками из Мадрида чувствовалось различие: многие из них охотно живут с родителями, а если и покидают родное гнездо, родители помогают им оплачивать аренду жилья. Виной тому очень низкая зарплата и непомерно высокая плата за аренду жилья в нашем глобальном обществе, которое больше не вознаграждает человеческий труд, отдавая предпочтение ренте, и сдерживает, таким образом, желание производить, созидать. В том возрасте, когда у меня за плечами уже был первый профессиональный опыт, Алисия только готовилась к конкурсу на должность криминолога, надеясь на некоторую стабильность в исправительном государственном учреждении, а все остальные зарабатывали меньше тысячи евро в месяц. И все же я им кое в чем завидовал: они умеют обманывать ущемление в денежных средствах своей беззаботностью, добротным оптимизмом, находя возможность развлекаться и путешествовать по низким ценам, тратить деньги в сети магазинов «Зара» и в барах. Мы были одинаково проницательными, но они еще умели посмеяться над всем происходящим. Траур подавил во мне эту способность.
Шум, гам подтолкнули нас двигаться дальше, вплоть до торгового центра «Эль Кортэ Инглес». Все пешеходы были черного цвета, как в цветном кино. Улица Пресьядос напоминала дезорганизованный муравейник. Конголезец и пакистанец разложили там свои товары (видео– и аудиодиски, часы, футболки), волынщик очаровывал голубую музу, которая жонглировала хрустальными шарами, а еще там стояли гитарист и накрытый газетной бумагой человек-статуя; девушки фотографировались на гигантском вентиляционным люке, чтобы воздушный поток поднимал им юбку, как у Мерилин Монро…
Еще дальше и еще позже – модная улица Хуэрта, переполненная полуночниками или «гато» – ночными кошками, скорее пьяными, чем серыми. В каждом втором баре, то есть на каждом шагу, нам вручали рекламные листки с призывом «при покупке одного мохито, второй – бесплатно». Подходящий случай уговорить, завлечь. Толпа бушевала в кафе, потом вываливалась оттуда и продолжала горланить на тротуаре, словно в Африке под баобабами. «Мир фантазий» – название интригующей энциклопедии, которую я таскал с собой под мышкой, – очень подходит к бурлящей здесь жизни! Все это напоминало возбужденную устрицу, где бары сверкают словно жемчужины.
Один из нас наконец-то «разошелся не на шутку». Стал хлопать в ладоши, задираться и прочее. Наши девушки вчетвером заказали модный напиток «Тинто де верано»: смесь красного вина и самогонки Касера с лимонадом – что шокировало симпатичного Каделя, как всякого добропорядочного австралийца. На его взгляд, эта смесь не уступает «Калимочо» – смесь дешевого вина и кока-колы, после которой приходят в ярость подростки со стадным чувством. Сидя на ступеньках площадей или возле памятников, они вливают ее в себя литрами и упиваются бездельем, как Фернандо работой и как я – голубым небом.
– Надя сказала, что ты хотел со мной поговорить о Мехорада! – воскликнула Марта, перекрикивая гремевшую в баре музыку.
Марта работала журналисткой в крупной ежедневной газете «Эль Мундо». По крайней мере, так она говорила своим приятелям. На самом деле Марта была помощницей одного из заместителей главного редактора, а с главным у нее был роман. Блестяще окончив школу журналистики и защитив диссертацию на тему коммуникаций, она не сумела найти ничего лучше. К счастью, Марта была столь же красива, как и умна, умела искусно поддержать разговор и не лезла за словом в карман. Она готовила главному редактору кофе, добиваясь иногда для себя некоторых привилегий… В этом не было цинизма, только прагматизм. Возможно, она мне поможет спасти собор.
Я описал моего шутливого гнома, наделенного силой титана, и его лазурный замок. Пока речь не зашла о соборе, я с трудом находил подходящие слова. Самое большее, что удавалось, так это ходить вокруг да около, как Уильям Гольденг в романе «Неф» или герой средневекового бестселлера «Опоры земли» Кена Фолитта, которого Марта обожала. Но роман здесь ни при чем. Да и что представляет собой роман против монументального произведения искусства, ну разве что какой-то шлакоблок этого хохочущего мира, который потешается над тщеславием писателя. Собор не поддавался описанию. Сила веры, проявление воли, энергия любви, энтузиазм ребенка, что потешается над старостью, – вот все, что я мог сформулировать. И об этом я вдохновенно рассказывал Марте и всем остальным. И они меня поняли и приняли мою сторону. Мы были ровесниками и принадлежали тому поколению, которое лишено коллективной утопии, но от этого у него не стало меньше потребности в надежде. Хотя вряд ли наше поколение признает актуальность романтизма.
Итак, история Фернандо ошеломила Надиных друзей: «У нас под носом происходят такие события, а мы не в курсе дел! Неужели для того, чтобы вызвать у нас интерес к этой фантастической истории, нашей истории, нельзя обойтись без иностранца?» Но обсуждаемый иностранец недавно потерял мать, и он умеет читать по глазам. А еще он читает вслух Библию этому необычному человеку, который не знает грамоты и объясняет все словами Иисуса: «Несть пророка в отечестве своем».[15]15
Матф., 13:57.
[Закрыть] Этот иностранец говорит о нашем отечестве самое лучшее, хоть мы ничего не знаем о нем и его стране. И не ценим его, пусть даже он отзывается так хорошо о нашей стране, раскрывает историю наших граждан, стало быть, нас самих, наше сердце. Но кто же будет терпеть взгляд постороннего на своем распахнутом сердце? Кто позволит чужестранцам раскрывать темную сторону своей истории, да и светлую тоже?
– Я поговорю об этом с главным редактором, – заверила меня Марта. – Разумеется, подготовим статью.
Мне повезло, так как «Эль Мундо» славилась дерзостью и поиском сенсационных новостей, даже скандала. Я надеялся, что газета разрубит пополам угрозу муниципалитета.
Пока я раскладывал на столике в кафе фотографии фантастических мест, уничтоженных невежественными властями, Надя передала подруге флэшку, на которой было несколько фотографий, сделанных в разных местах. Я читал вслух заметку (составленную на английском языке), сопровождая свое чтение демонстрацией фотографий Горы Спасения – памятника, построенного во славу Бога неким Леонардом Найтом на самом высоком холме пустыни Мохаве. Раскрашенная во все цвета радуги гора из кирпича-сырца простиралась на территории в несколько гектар, она была испещрена мирными посланиями. В 1994 году местные власти посчитали место загрязненным и приняли постановление об уничтожении этой горы. Рыцарь Найт отправился в «крестовый поход» в сопровождении ожесточенных друзей и поклонников и победил. Гора продолжает расти с каждым днем, принимая посетителей со всего света, и оправдывает свое название.
– Но они также говорят, – прервал Кадель, проводя пальцем по странице, – что сначала гору разрушили, а потом вновь отстроили.
– В этом она существенно отличается от собора Фернандо, – отчеканил я. – Если собор разрушат, то никто уже не сможет его восстановить! Это будет полный крах и конец всему. The end!
* * *
Кажется, заре предшествует наиболее темная часть ночи. Темнота царапает сердце, и это пагубно сказывается на мне. Сердце истекает черными чернилами, окрас ворон, и только пачкает страницу. Патетические каракули. Я отмечал у себя разные состояния души, выходившие наружу по каналам бессознательного; меня больше не ласкала мать. Ее теплая беспокойная рука никогда уже не прикоснется к моему лбу, не будет больше ее веселой белозубой улыбки и сверкающего океана глаз, радужные оболочки которых казались спасательными кругами. Отсутствие матери привело к тому, что мое психическое переживание перешло в соматическое изменение: бедственное положение онемевших конечностей, мурашки по телу, непроизвольные сокращения правого века – фасикуляция или миокомия, так это называется (хороший вкус не обсуждается!). Иногда эти признаки приписывают болезни Шарко, знаменитой САБ, хотя другой симптом опровергал панический диагноз: холод глубоко внутри. Такой сильный холод необычен даже для тундры, где суровый и очень скудный пейзаж, где никто больше не ждет того ребенка, который упорно держится в тебе, как лишайник.
* * *
Мысленно я пребывал в Кастилии – так сложились обстоятельства. Не в силах четко понимать, просто формулировать то, что происходило со мной, я говорил запинаясь. Даже птенец на краю гнезда меньше боится пустого пространства вокруг; думает ли он о том, что перья ему нужны, чтобы летать? Я же ощутил такую пустоту внутри! О чем я должен рассказать? Все это пустяки, самые важные фразы застряли где-то между Лотарингией и Мадридом. Конечно же, я думал об отце. Возможно, его тоже мучает бессонница по ночам; возможно, он тоже принимает пилюли с магнием. Возможно, как и я, бродит по комнате с ручкой в руке, напишет мое имя в начале письма, а потом зачеркивает. Неистовство раскаяния и жажда любви – словно тиски.
И тут до меня вдруг дошло: отец не знает, где я сейчас живу. По радио Стинг пел об изгнаннике, который был похож на меня:
Oh oh! I'm an alien,
I'm a legal alien,
I'm an Englishman in New York…
(О, о! Я – иностранец,
Я – легальный иностранец,
Я – англичанин в Нью-Йорке…)
Я – француз в Мадриде, почти сирота в Испании. Странник, сбитый с толку. Капитан дальнего плавания, пират. Жених на луне. Писатель без книги или, скорее, без читателей. Артист из воска, маргинал, оплакивающий…
Мне тридцать три года. У меня есть будущее и железное здоровье под плечами баскетболиста. Меня обожает молодая женщина, и на меня возлагает свои надежды старик. Собор, который надо сохранить, как свою вторую душу. И внезапно вновь забрезжила тайна розового горошка: горошек показывал кончик своего носа, когда я, будучи ребенком, боролся со сном. «Подумай о розовом горошке», – входя в комнату, шептала мать. Но этот раздражающий горох оказывал прямо противоположное действие, и каждый раз я забывал ее спросить, что этот горошек означает и где она его берет. При воспоминании о горошке снова запершило в горле, безобидно, как после того припева, что я горланил изо всех сил. И вместе с этим возникал вопрос, который задал Никодим Мессии (Иоанн 3:4):
«Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?»
* * *
– Добрый день, Джильда!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.