Текст книги "Мост через бездну. Великие мастера"
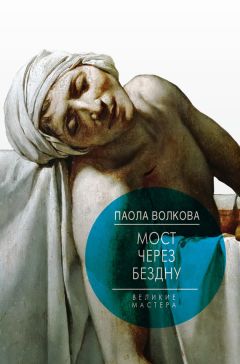
Автор книги: Паола Волкова
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
Рассмотрим теперь проекцию этой же самой темы у русских художников XIX века. И в первую очередь у такого художника, как Перов в его картинах «Проводы покойника» и «Тройка». Трудно бывает представить, что Перов и Виже-Лебрен принадлежат почти одному времени, разница между ними всего 30–40 лет. Надо иметь в виду, что за это время очень много произошло с точки зрения внешней, социальной, но с точки зрения развития детской темы в искусстве ничего нового не происходит. Весь XIX век посвящен именно тому, о чем шла речь выше: изображение ребенка с точки зрения наполненности его собственным миром, собственной мыслью, объемом, который отличается от взрослого.
Почему именно картину Перова «Проводы покойника» мы рассматриваем как продолжение картин Виже-Лебрен? Виже-Лебрен пишет портрет, но мы понимаем, какая среда стоит за этим портретом: не только мир образования или мир интеллекта, но какой стоит за этим мир предметов и вещей. Точно так же, когда мы смотрим картины Перова, мы тоже очень хорошо представляем себе, какой мир стоит за этим: не только мир образования, не только мир природы, но и мир предметов и вещей. Поэтому интересно проанализировать контраст между тем, что изображено у Виже-Лебрен и тем, что изображено у Перова.
Виже-Лебрен – ученица Давида, французская аристократка, а Перов – художник, который решил сразу страдать всеми страданиями мира. Надо сказать, что художник сознательно страдать за человечество не может. Если он страдает, как страдал за это Шекспир, то это одно дело. А если как русские передвижники, то это совсем другое, потому что они искренни, искренни настолько, что для них это кончилось весьма трагически. Они искренне заблуждались, искренне стояли на ложных позициях. Это была искренняя ложность, потому что им пришла в голову мысль, которая потом необычайно упрочилась и укрепилась: что кто-то за кого-то может решать, что для него будет хорошо. Они взяли на себя ответственность за все человечество сразу. Они так видели свою миссию. А мы почему-то должны встать по этому поводу перед ними на колени и провозгласить их самыми великими живописцами, потому что они, как поет Высоцкий, «всей скорбью скорбят мировою». Это опасная была ситуация, но она была искренняя. А наказанием за ложь (и это было очень страшное наказание) стал отказ от таланта. Перов был человек фантастически талантливый. Его портрет Достоевского поражает глубиной, мыслью, эмоцией. Но Перов и другие передвижники специально отказались от цвета, они специально отказались от целого ряда проблем в жизни. Им на живопись было наплевать, им нужно, чтобы просто все стояли и плакали. Им надо было выжать слезу, коленкой наступить и выдавить.
Это весьма опасная позиция, которая и искусство-то завела в тупик. Мы до сих пор и думаем, что в искусстве главное – что изображено, а не как оно изображено.
С передвижников и начинается проблема функции искусства. Раньше художник писал-писал и не знал, какую мировую функцию он выполняет, в каком смысле он отвечает за мир. Веласкес писал и писал, по заказу Филиппа IV, и даже не знал, что он что-то для мира делает. Ему бы сказать, он глаза бы вытаращил. А оказалось, что делает. А передвижники думали, что делают, а оказалось, что нет. Так что тут решить этот вопрос трудно.
Так или иначе, передвижничество есть явление очень интересное и в русском, и в мировом искусстве. Это становление новой определенной художественной системы, которую надо рассматривать не прямолинейно, люблю – не люблю, классика – не классика, а в сложной проекции, в которой она выступает и в которой она приносит благие и бедовые плоды.
Но детская тема здесь решается так же, как и у Виже-Лебрен, а не с той точки, с которой подходит Перов. Она решается как объединение детей со взрослыми через эмоционально-социальное состояние.
Художники полагали, что у русского интеллигента (причем не просто русского интеллигента, а русского интеллигента, принадлежащего к той же самой среде, что и приятели и приятельницы Виже-Лебрен), стоящего перед этой картиной, вот-вот пробудится совесть. А кто, собственно, видел эти картины? Представьте себе, какое количество людей в то время видело эти картины. Перов писал, Третьяков покупал, а сколько человек смотрело? Столько же, сколько и Виже-Лебрен. И даже меньшее количество их смотрело, потому что когда выставлялись Давид и его школа, то во Франции уже были приняты художественные салоны с посещением, а в России такого не было. Эрмитаж был не государственным собранием, а императорским, Третьяков основывает свою галерею в 1850-х годах. Надо понимать, что это сейчас много народу ходит и смотрит на эти картины, а когда они писались, то не были достоянием всех. Они были достоянием таких же людей, как сам Перов.
В картинах Гейнсборо дети изображены как духовно самостоятельные существа с собственным духовным миром. И вторая тенденция – изображение эмоциональных отношений в семье. Вот то же самое мы видим и у Перова. Это рассмотрение семьи через общую судьбу, через общие эмоциональные связи, через общность. Поэтому на картине «Проводы покойника» мы видим мать и рядом с ней двух детей у гроба. Это, конечно, ведет к очень раннему обретению духовного опыта. Однако же надо сказать, что мальчик, который сидит в санях, маленький, с надвинутой шапкой, участвует в этом и одновременно не участвует. Посмотрите внимательнее на его лицо. В нем есть, с одной стороны, участие в происходящем, но это участие чисто физическое – страх, холод, а до сознания это еще не очень доходит.
Самая страшная в этом смысле картина Перова – «Тройка». Здесь снова возникает тема, о которой мы говорили: дети как предмет, сильно воздействующий на зрителя, эксплуатация детского образа как инструмент социального давления. Если мы видим, как три взрослых человека везут кадку, то это одно. А как ее возить-то было? Так и возили. А если дети везут, то это совсем другое. Поэтому три ребенка впряжены в эту кадку, впряжены в нее не случайно, специально, и по морозу везут воду. И здесь мы видим систему эмоциональных форм описания детей и участия их в определенном образе жизни.
В паре с «Тройкой» интересно рассмотреть картину Делакруа «Свобода на баррикадах», потому что там ребенок полностью участвует в происходящем, как бы подменяя собой взрослого. Но это ребенок, который становится национальным героем Франции, Гаврош. И если говорить о том, насколько детей используют как элемент уже социальной иерархии и психологической социальной адаптации, то тут надо сказать, что это делает не Россия, а Франция. Франция делает это через литературу, чрезвычайно активно, особенно через такого художника, как Гюго. Франция создает национальный образ подростка, придает ему психический объем и эмоциональную зрелость, которая делает его членом общества, хотя и в качестве ребенка.
В XVI веке и ранее детей в основном изображают как взрослых, то есть игнорируя их возрастные особенности. Когда искусство приобщает ребенка к миру взрослого человека, оно начинает учитывать его возраст, и делает это различными путями. Основная линия – это эмоционально-психическое становление личности. А ракурсы могут быть различными: как у Шардена, или как у Гейнсборо, или как у Делакруа.
XIX век идет по тому же пути: он изображает внутренний мир ребенка как полноценной личности, только имеющей определенную возрастную ступень.
Для второй половины XIX века очень характерна одна новая краска, один новый оттенок, появляющийся в этой проблеме. Этот оттенок сводится к тому, что подчас эмоциональный, или психический, или внутренний мир ребенка значительней, нежели внутренний мир взрослого человека. Это эпизод в искусстве единственный, уникальный, почти неповторимый. XIX век идет по пути освоения внутреннего мира ребенка – самостоятельного, эмоционально наполненного, очень чувствительного, очень открытого. Он вдруг берет и дает такой крен в какой-то момент, когда этот эмоциональный мир ребенка становится более полноценным, более существенным и более открытым. Ибо человек живет в мире социально предопределенном, а потому несколько ложном и закрытом. А вот полная открытость свойственна только детям. И здесь прежде всего надо вспомнить знаменитый портрет Мики Морозова.
Изображение Мики Морозова, Михаила Морозова, сделанное Серовым, как раз одна из тех работ, которая подтверждает мысль, высказанную выше. Это не просто эмоциональное или духовно полное изображение, это переполненный мир. Причем ребенок в нем существует самостоятельно. И для нас это несколько загадочная самостоятельность.
Очень жаль, что эта тема не развивалась в искусстве. Художники – народ серьезный. Со второй половины XIX века они начинают заниматься только спасением мира. Дети не нужны им больше. Они уже настолько заняты спасением мира, что дети совсем выпадают из их поля зрения. Это самая высокая тема, самая высокая нота, до которой дошло изображение ребенка, и очень быстро обрывающаяся. Но в то же время она самая глубокая, самая плодотворная.
Мне довелось побывать на юбилее Шекспира в Доме ученых. Там выступал некий человек с докладом о Шекспире. Наверное, он что-то совершенно замечательное говорил, но главное – он был необыкновенно похож на кого-то, только вот на кого? И оказалось, что лекцию читал тот самый Мика Морозов, только будучи уже стариком. Он был шекспироведом. И он не изменился, он просто стал очень взрослым человеком. У него появилось брюшко, но щечки у него остались такими же, и носик такой же, и ротик такой же. И вообще все его отношение к жизни не изменилось.
Серов – художник особый, он обладал одним качеством. Надо сказать, что портретов психологических не бывает вообще. Это нечто другое. Мы просто их так называем. Но у Серова была одна черта – беспощадность художественного наблюдения, художественная оптика, художественное зрение: он видел в человеке неизменяемые черты. Причем он не только видел в человеке черты неизменяемые, но видел в человеке эти черты, проявленные тогда, когда они проявляются. Он этого Мику Морозова всю жизнь знал, он его мог написать тысячу раз, но он его написал в определенный момент времени. Вот этого непоседливого, порывистого, включенного всеми клеммами в жизнь человека, непрерывно реагирующего, заряженного особым азартом постижения, и при этом с какой-то внутренней духовной самодостаточностью. Здесь же есть все: экстравертность, личность, динамика, движение, включенность в среду, ежесекундная способность к изменениям. Это многослоевая, многоплановая включенность в жизнь и вместе с тем при этом какая-то система глубокого умососредоточения. Все, что есть в этом ребенке – это все есть личность, и она осталась, как автору посчастливилось в этом удостовериться, на всю жизнь.
Может быть, освоение человеком социального мира складывается намного раньше – в основных своих чертах, в основном своем психологическом абрисе, рисунке. Но искусство этот вопрос почти не фиксирует, а Серов, которому это было свойственно, – это был его дар, его талант – это фиксирует.
У него очень много детских портретов. Знаменитая «Девочка с персиками» – это портрет не совсем детский, но не упомянуть его нельзя. Это портрет знаменитой Веры Мамонтовой. А сколько было лет Вере Мамонтовой? Она не ребенок уже была, подросток. Как и Мику Морозова, Серов ее знал всю жизнь. Писал он ее всего один раз в жизни, а мог бы писать, так же, как и Мику Морозова, сколько угодно раз. Но он писал тогда, когда она была проявлена наиболее полно, когда она была как личность выявлена наиболее открытым, наиболее законченным образом, когда она несла в себе стиль, а человек – это стиль. В Мике Морозове этот стиль спроецировался в возрасте 5 лет. А в Вере Мамонтовой этот стиль спроецировался в возрасте 15 лет или 14 лет, а потом только шло чисто косметическое изменение этого стиля. Тот мир, в котором осуществляется психологический портрет человека, человека индивидуального, человека определенного общества, он спроецировался именно здесь, здесь максимальная точка. Это очень часто бывает в детях, мы только этого не замечаем, никто – ни художники, ни кинематографисты, ни родители, ни специалисты – серьезно к детям не относятся, а относятся к ним индифферентно или профессионально, экспериментально. К детям чаще всего применяется система, а система сама по себе есть одновременно результат эксперимента и безразличия.
Взглянем еще на врубелевскую девочку, изображенную на фоне турецкого ковра. Это изображение знаковой ему девочки, которая принадлежала к тому же самому кругу, что и Вера Мамонтова, и Мика Морозов. Но только мир Врубеля был иным, нежели мир Серова. Серов видел человека как характер, как стиль, а Врубель видел какую-то космически-трагическую линию в каждом человеке, он видел в нем ту глубину, душевного или духовного страдания, с которым человек рождается. И поэтому для него не существовало в этом смысле возраста: так он писал своего сына, так он писал и эту девочку. Поэтому мир этой девочки так же полон, он так же окончен, он так же завершен, как и мир детей у Серова, но только он спроецирован в идею трагической внутренней обреченности.
Но самой высшей точкой в развитии этой темы можно считать работу Нестерова «Видение отроку Варфоломею». Более высокого изображения ребенка в искусстве не существует. Это так наслаивается на то, о чем шла речь выше, – что мы безразлично относимся к детям, мы очень часто не понимаем, что в детстве происходят главные процессы, которые мы индифферентно подавляем. А ребенок так хрупок… И вот перед нами житие Сергия Радонежского. Сергий Радонежский был ребенком или нет? Существует письменное свидетельство, что Сергий Радонежский был лицом историческим. Не только он сам фиксировал момент явления ему ангела в облике инока, но и историческое свидетельство по этому поводу четкое. Варфоломей был пастухом, и откровение ему о его миссии было дано в возрасте весьма юном. В детский сад он не ходил, и поэтому некому было дать ему возможность об этом забыть.
И пишет его Нестеров очень интересно: он пишет Варфоломея очень хрупким физически, нежным, как травинку, как былинку. Это такая прозрачная, слабая, очень хилая плоть. И в этой прозрачности, слабости, в этой хилости отрока Сергия есть одновременно мышление о многих вещах. Бросается в глаза прежде всего его хрупкость, детскость, эта физическая несформированность, физическая несложенность. Сергий Радонежский был мужчина преогромного роста и весьма дюжий, но отроком он был слаб и хил. Это еще несотворенность: он как былинка, он еще только произрастает, но эта хрупкость, эта нежность, это произрастание отнюдь не свидетельствует о слабости, несовершенстве или неполноценности. Толстый ребенок – это не значит ребенок умный, хотя наше стремление к выкармливанию по весам для нас эквивалентно понятию здоровья, а понятие здоровья эквивалентно понятию ума или развития.
Нестеров тут показывает очень тонкую деталь. Здесь есть необычайная открытость, которая связана со становлением. Отрок еще становится, он еще в росте, он в движении, он открыт всему, он еще не перекрыт со всех сторон. Кроме того, в этой хрупкости Варфоломея есть очень важная для Нестерова тема. Она есть у Врубеля, есть у Серова, и у Нестерова она тоже есть. Это тема человека как личности. У Перова действует человек как социальный тип, точно так же, как и у Виже-Лебрен социальный тип. У Нестерова же человек действует как личность. И осуществление этой личности по Нестерову – это духовное подвижничество, духовное осуществление. Когда это духовное осуществление происходит? Он показал это в одной из самых ранних своих работ, в своей самой великой работе «Явление отроку Варфоломею», где у него все эти узлы связаны с изображением детского возраста, ребенка. И эта вещь – высшая точка в изображении детского возраста в искусстве, потому что здесь дитя перекрывает взрослого человека. Это система, где ребенок перетягивает на себя функцию. Прекрасное произведение Нестерова – вершина тенденции в изображении детей во второй половине XIX века. И это тенденция довольно последовательная и единая.
И наконец, последний художник, к которому надо обратиться, анализируя проблему детского портрета в искусстве, это художник ХХ века, у которого детская тема выглядит онтологически. У этого художника спроецированы все аспекты темы. Посмотрев его работы, мы можем посмотреть и все то, что говорило о детях искусство всего мира на протяжении всего своего развития. Это универсальная проекция проблемы, а художник этот – Пабло Пикассо.
Почему именно в творчестве Пабло Пикассо дети занимают такое место? Почему творчество Пабло Пикассо является онтологическим по отношению к проблеме? Почему в нем освещены все ракурсы этой проблемы?
Творчество Пабло Пикассо делят на периоды: «голубой», «розовый», «зеленый», кубистический, сюрреалистический, военный, послевоенный… Об этом много пишут. Но все творчество Пабло Пикассо посвящено двум проблемам. Это проблемы старые, как мир, это проблемы испанские, ибо он испанец: это жизнь и смерть. И никаких других проблем в его творчестве нет, от начала и до конца. Почему получилось так, что существует путаница в отношении этой личности? А что бы было тогда искусствоведам делать? Ведь сколько книг написать надо: кто-то исследует проблему «Пикассо и кубизм», кто-то – «Пикассо и сюрреализм». Ему однажды жутко надоело, что к нему все лезли, считая его сюрреалистом, и он сказал: «Да, я считаю себя сюрреалистом, потому что я женился на русской женщине, а это страсть сюрреалистов». Он любил дурачиться.
Если мы будем действительно смотреть на то, что он пишет, то увидим, что это отношение жизни и смерти, бытия и сознания – самые старые и самые глубокие проблемы. Они проецируются в его творчестве, которое можно перевести на язык ХХ века. Это проблемы войны и мира, проблема распада, и именно дети воплощают в себе проблему жизни, бытия или рождения. Вот почему у него детская тема представлена в таком огромном количестве вариантов.
Хронология в данном случае совершенно бессмысленна, поэтому пойдем просто от высшего к низшему.
У Пикассо есть рисунок, где представлена тема матери и ребенка. Это идеально классический вариант: женщина с ребенком на руках, держащая ребенка у груди. То есть это проблема Богоматери, Богородицы – проблема вечная, и он ее пишет в классическом варианте и решает ее именно как проблему вечную, решает ее как проблему природы.
Мать здесь есть не духовно активное начало, а начало физическое, начало природное. Это Гея – богиня земли, это Крестьянка, это Женщина, это мифология мира, миротворчество. Поэтому она дана не только большой, но она дана сонной, что очень важно. Она показана духовно безучастной и к этому процессу рождения, и к процессу воспитания, вскармливания. Ее дело быть Помоной. В этом заключается ее суть: она Мать земли, Гея, ее задача – давать сыновей. У нее откинута голова, полуоткрыты губы, и эта сонность, духовная спячка – здесь ничего больше нет, кроме этого.
И вторая работа Пикассо – она тоже идет в классическом направлении женщины с ребенком на руках, опять эта тема Мадонны, Богородицы, Богоматери. Но здесь эта тема женщины с ребенком на руках представлена в противоположном ракурсе, с другим знаком. Это тема глубокой связи, внутренней, духовной. Это атмосфера нежности, взаимная связь – не через физическую природу, а через природу духовную, то есть через семью, общность.
У первой женщины сейчас ребенка отними – она и не колыхнется, а просто так же во сне родит второго и так далее. Так бы глаз и не раскрывала, функция у нее такая. Там здоровье первозданности, первичности. А здесь другой аспект этой темы: здесь первична связь духовная, связь внутренняя. Еще один интересный вопрос: кто от кого зависит больше в этом союзе – мать от ребенка или ребенок от матери? У Пикассо этот вопрос решается в сторону ребенка: ребенок сильней матери. Мать от ребенка зависит больше, чем ребенок от матери, потому что мать держится за ребенка, а не ребенок за мать. Он держится за юбку матери, не будет юбки – будет ножка стола. А вот мать за ребенка держится очень, он для нее формирующее начало, он для нее якорь спасения, он избавление от одиночества. У Пикассо эта тема очень сильна.
У него в этой же композиции выполнена и другая работа. Женщина, точно так же с поднятым плечом, заведенной головой, но она внутри на ладони держит очень маленькую птичку. То есть одиночество так сильно, оно так невыносимо, что вот пусть хоть что-то будет в руках, хоть какой-то теплый комок. Пусть хоть так будет прощупываться биение сердца – это уже какая-то ниточка, связывающая ее с живой жизнью. Пикассо очень трагический мастер, у него все существует в трагическом конфликте. Нельзя сказать, что эта тема здесь главная, но она здесь есть так же, как здесь есть момент основных связей, связей духовных. Какая удивительная нежность рук, какая бережность, когда она этими руками держит ребенка! Как ребенок держит ее за щеку, как она смотрит, она вся в нем растворена, она вся поглощена им… Если у той вот сейчас отними ребенка – она и не проснется, то эта – изрезать себя даст. Весь ее духовный мир растворен в мире ребенка.
Третья тема у Пикассо представлена множеством работ. Она связана у него, как правило, с темой блуждающих музыкантов, с темой странствующих людей. И здесь дети играют роль совершенно особую. Самое большое количество детей у него изображено в работах на тему странствующих музыкантов, странствующих комедиантов.
Сама по себе тема эта, тема странствия, настолько серьезна, настолько глубока, что раскрыть ее вкратце нельзя. Это тема вечная, потому что тема дороги в искусстве существует столько же, сколько существует само искусство. Это тема поиска истины, пути, постижения. В ХХ веке она через Чаплина входит в искусство как тема одиночества и брошенности на дороге, как тема поиска счастья и, самое главное, как тема великой бездомности. Бездомность человеческой души, просто бездомность, перемещение – одна из самых серьезных тем для ХХ века.
У Пикассо эту тему можно рассматривать через чаплинский ключ, в дальнейшем она была подхвачена Феллини в его фильме «Дорога». Его героиня брошена на эту дорогу, в это одиночество. Там есть очень интересный монолог, философское поучение. Когда героиня говорит, что она лист, гонимый ветром, она никому не нужна, то герой отвечает ей: мы в этом мире нужны, и все нужно, и даже этот камень, который валяется на дороге, он нужен, он тоже не бессмысленен. И мы понимаем у Феллини одну любопытную вещь: этот силач, который подобрал Морковку (а Морковка и имени своего не знает, у нее только кличка), этот человек, который цепи разрывает, сильный, но она-то сильнее – это он от нее зависит, а не она от него.
И вот эти проблемы в комедиантах Пикассо спроецированы. Они входят в ХХ век в целом комплексе, это тема одиночества человеческой личности, поиска своих путей, поиска родины. Великое переселение народов начинается перед Первой мировой войной, а также перед Второй мировой войной и после нее. Когда начинается эмиграция из гитлеровской Германии, происходит целая большая волна перемещений. Это сложный процесс, который охватывает и XIX век, и ХХ век. И у Пикассо очень большое значение в этой проблеме имеют дети.
Здесь отчетливо выступает тема, о которой мы уже упоминали: дети, которые сильнее взрослых. Вот фрагмент картины: большой толстый клоун, один из его самых главных персонажей, и маленький мальчик, они выступают как бы в паре. Вы понимаете, что в этой паре не старый клоун, а маленький мальчик оказывается сильнее, не только потому, что номер зависит от того, но потому, что клоун жизнь свою бы потерял, если бы не ответственность за этого ребенка.
У Пикассо очень силен мотив ответственности за ребенка, которую несут взрослые люди. В детях заключено очень многое. Это не только сила, но это будущее. А для Пикассо это еще и тема мира и войны. У него тема мира и тема будущего, тема выживания, проецируются через детей. И это еще один аспект детской темы.
Глядя на этого клоуна и ребенка, мы могли бы сказать, что в его представлении ребенок принадлежит мужчине, а не женщине, если бы не те работы на тему материнства, о которых шла речь выше. Дело в том, что он рассматривал через детей все варианты связей. Он прокручивает все семейные вариации. В данном случае это не женщина, а мужчина, который отвечает за ребенка и держит его на своем плече. И вместе с тем в этих клоунах и клоунессах есть, конечно, то, о чем мы неоднократно говорили: дети разделяют социальную участь взрослых людей, они объединены в общей социальной системе. Дети несут на себе те же самые социальные нагрузки, что и взрослые люди, разделяют их участь, несут самостоятельно нагрузку духовной жизни. И в творчестве Пикассо перед нами проходит вся история детей в искусстве.
На примере Серова, о котором шла речь выше, мы видели, что в искусстве XIX века ребенок имеет свой собственный самостоятельный внутренний мир. И у Пикассо есть целая серия работ, которые связаны не только с изображением его собственного сына, но и в целом с изображением детей. Эта серия по сути восходит ко второй половине XIX века, когда ребенок стал восприниматься как законченная человеческая личность. Это то, что есть у Шардена (деловое действие), это то, что есть у Гейнсборо (дух), это то, что есть у Серова (свершение). У Шардена мальчик растет и пускает мыльные пузыри. У Пикассо это дети, очень рано приобщенные к духовному становлению личности через творческий процесс. У него есть целая серия – изображение детей в процессе творчества или детей в карнавальных костюмах. Но чаще всего это рисующие или читающие дети.
И последний аспект проблемы – это дети как спасение мира. Эта тема аналогична нестеровской теме, но представлена у Пикассо абсолютно конкретно. И здесь есть объяснение тому факту, что именно дети занимают столь важное место в творчестве Пикассо. Они у него предстают спасителями мира: только дети могут укротить великое чудовище. Его «Герника» – вещь безысходная. В ней есть понятие войны, отождествленной с понятием смерти – универсальной смерти, гибели всего. Это не только человеческая смерть, но смерть культуры, а также и распад материи. И самый страшный вид смерти – возвращение мира из хроноса, времени, памяти, истории, в хаос. «Герника» – это возвращение мира к хаосу. Гумилев пишет, что такое смерть на атомном уровне. Это закон жизни. Смерть страшна не на атомном уровне, она страшна на субатомном уровне. Вот этот субатомный уровень смерти есть распад, возвращение мира в хаос. А хронос – это свет, это время, а время – это порядок, а порядок – это история, это память. Поэтому «Герника» у Пикассо посвящена в чистом виде этой проблеме, она показывает, что мир может при известных играх больших детей, брейгелевских детей, превратиться из хроноса в хаос. И он дальше продолжает эту самую тему: силы хаоса у него олицетворены через различные образы. Хаос воплощен в древнейшем европейском классическом мифологическом образе Минотавра, пожирающего людей. Дело в том, что Минотавр – это физиологическая стихия, владеющая людьми, лишающая их разума. Минотавр – это стихийные силы, но также и сила пожирания, сила превращения логоса в хаос. Минотавр – это понятие Люцифера, бездны, распада и поглощения на субатомном уровне. И только одно существо способно это остановить – это ребенок со свечкой в руках, который является носителем света.
И вот на одной из работ Пикассо мы видим изображение девочки и Минотавра. Слева – девочка со светильником, а справа – Минотавр. Очень интересно, как он пишет эту девочку: он пишет ее как Красную шапочку. Он придает ей черты мифологического образа – Красная шапочка и Серый волк. Только здесь вместо Серого волка Минотавр. На девочке надет беретик с помпончиком. У нее беленькие волосики, она в одной руке держит букет цветов, а в другой руке – свечу. И только детская фигура ребенка противопоставляется всей системе хаоса и распада. Эта картина имеет необычайно глубокий онтологический смысл. Здесь есть еще один фрагмент – человек, который поднимается по лестнице. Это программа постижения, потому что лестница испокон веков означает постижение. Если его не будет, то не будет никакого продвижения, будет только хаос, мир вернется в черную бездну, свет будет поглощен тьмой. В распаде на атомном уровне бывает возвращение в новый круг, начало другого цикла. Но на субатомном уровне ничего не бывает. Спасение от гибели связано только с одной фигурой – с фигурой ребенка.
Не будем сейчас говорить о художественных качествах этой картины, просто постараемся увидеть, что это высшее изображение мира, ребенка, показывающее, какую великую силу он в себе несет, какими великими возможностями он заряжен. Это раскрыто в картине Нестерова «Видение отроку Варфоломею». И это же показывает нам Пикассо.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































