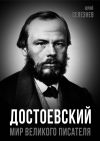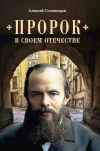Текст книги "Эффект Достоевского. Детство и игровая зависимость"
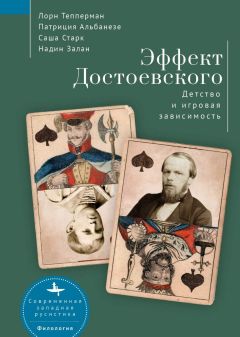
Автор книги: Патриция Альбанезе
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Достоевский выступал против «западного» взгляда на мир, сводящегося к рациональному расчету. Это противопоставление проявляется в романе «Игрок», когда Алексей говорит французу де Грие, что стремление приобрести капитал стало главной заботой и главной добродетелью в западной культуре. Русские, напротив, от природы неспособны к накоплению капитала. И чтобы подчеркнуть, что он все же предпочитает русский образ мысли, Алексей утверждает: «Неизвестно еще, что гаже: русское ли безобразие или немецкий способ накопления честным трудом» [Достоевский 1972–1990, 5: 225].
Критик Алекс де Йонге пишет: «Достоевский не может не восхищаться тем отчаянием, с которым русские отбрасывают всякую осмотрительность в погоне за остротой чувств. В этом он видит любовь к жизни и эмоциональность – лучшие качества русского характера» [De Jonge 1975: 168].
Если это действительно так, то некоторые решения Алексея Достоевский рассматривал бы как отречение от русских ценностей – особенно когда тот начал играть систематически, хладнокровно стараясь выиграть как можно больше денег. Алексей отказывается от любви, Полины и спонтанности в пользу денег, рациональности и расчета; иными словами, вместо русских ценностей он выбирает западные. Это перекликается с темой замечательной повести Пушкина «Пиковая дама», где главный герой – наполовину немец, наполовину русский. С одной стороны, он хочет следовать немецкой модели успеха, в основе которой лежат труд и расчет, но другая часть его души – русская часть – готова рискнуть и поставить все на карту.
В «Игроке» эта тема видна особенно ярко в той сцене, где Полина ждет Алексея в гостинице, чтобы признаться ему в любви. Она пришла к нему в комнату одна, и он понимает, что для нее это большой риск. Однако вместо того, чтобы принять ее, он отправляется в казино – а когда возвращается, предлагает ей деньги в обмен на любовь. Что это значит? Аполлонио пишет об этой сцене:
Отвернувшись от любви и погрузившись в мир игры, Алексей отвергает то, что для Достоевского является исконно русскими ценностями: любовь, общинность и духовность. Его домом теперь становится отель – переходное пространство, максимально удаленное от русской почвы [Аполлонио 2020: 105].
Таким образом, Полина в романе символизирует традиционные русские ценности – любовь и спонтанность. Игра в казино, напротив, символизирует ценности западные, такие как деньги, рациональность и логика. Отправляясь в западный мир казино, Алексей отказывается от принципов русскости.
Однако затем в его манере игры проявляются качества русского характера – спонтанность и иррациональность. Алексей утверждает, что играет ради денег, чтобы произвести впечатление на Полину, но при этом быстро забывает о своей любви. Он признается:
Не помню, вздумал ли я в это время хоть раз о Полине. <…>
…я уже едва вспомнил о том, что она мне давеча говорила, и зачем я пошел, и все те недавние ощущения, бывшие всего полтора часа назад, казались мне уж теперь чем-то давно прошедшим, исправленным, устаревшим [Достоевский 1972–1990, 5: 294–295].
Алексей даже не помнит, что именно заставило его пойти в казино. Едва он начинает выигрывать, любовь к Полине отступает перед лицом страсти к игре. Перебирая деньги, которые он выиграл якобы для нее, Алексей признается себе: «Огромная груда билетов и свертков золота заняла весь стол, я не мог уж отвести от нее моих глаз; минутами я совсем забывал о Полине» [Достоевский 1972–1990, 5: 295–296]. И когда Полина наконец уходит, ему как будто совершенно не хочется понять, что именно ее оттолкнуло, или вернуть ее назад. Возможно, он отправился в казино из любви к ней, но его страсть к игре быстро перерастает то чувство, которое он испытывал к Полине.
Розеншильд утверждает, что «Игрока» лучше всего рассматривать как ответ на классическую повесть Пушкина «Пиковая дама». Достоевский предлагает собственную трактовку того, как любовь соотносится со страстью к игре. В следующем отрывке Розеншильд возражает против тех интерпретаций, которые мы приводили выше:
Героя пожирает любовь к женщине или страсть к игре – или некая комбинация этих сил. Я склоняюсь к тому, что это любовь. Однако автор, намеренно или нет, вводит в роман еще больше неоднозначности, что влияет на истолкование концовки. Алексей рассуждает о русском национальном характере, и это как будто подтверждает идею о том, что русский человек – это архетипический игрок, который обречен, стоит лишь ему заразиться страстью к игре. Взаимосвязь русскости с игроманией стала общим местом в работах, посвященных этому роману. Но Алексей сам признается, что иногда сгущает краски, чтобы ярче показать свою точку зрения – или просто шокировать слушателей [Rosenshield 2011:225].
С точки зрения Розеншильда, «Игрок» – это, прежде всего, история обреченной любви, а такие темы, как национальный характер и игра, занимают в книге второстепенное место. С этой точки зрения роман можно считать либо итогом неудачных отношений с «реальной Полиной», либо отсылкой к повести Пушкина, но не глубоким исследованием природы игромании. Как утверждает Розеншильд, Достоевский превращает азартную игру в объект страсти, выражая таким образом отчаяние от неудачи в любви – или даже в жизни [Rosenshield 2011: 226].
Алексей теряет интерес не только к любви и к Полине, но и к деньгам: он не сопротивляется, когда мадемуазель Бланш тратит его деньги направо и налево. К этому моменту он играет не ради выигрыша и не для того, чтобы впечатлить Полину. У него уже выработалась полноценная игровая зависимость, когда в игре важен сам процесс. Алексея больше не интересуют любовь, общественное положение или даже деньги. Он теряет все былые привязанности и все планы на будущее.
Его полностью поглощает тяга к игре. Такого взгляда на игровую зависимость придерживались Фрейд и Анна Достоевская. Итак, Алексею больше не нужна рациональная причина: он наслаждается иррациональностью игры, где все зависит от удачи. Таким образом, Достоевский выражает свое убеждение в том, что человек испытывает глубокую потребность сражаться против доводов рассудка и выходить за пределы дозволенного. И хотя подобные действия могут быть опасны, в них выражается достойное желание обрести независимость от собственной судьбы [Wasiolek 1972: xv].
Как утверждает критик Эдвард Васиолек, Алексея завораживает, что в игре все зависит от воли случая [Wasiolek 1972]. Ему не хочется пробиться в высшее общество или защитить свою честь. Игра обретает самостоятельную ценность, становится единственным источником наслаждения в пустом и бессмысленном мире. Сначала Алексей играет, чтобы изменить свою судьбу или взять ее под контроль, но под конец он наслаждается ее иррациональностью. Игра становится воплощением случайности и полностью вырывается из-под человеческого контроля. Где еще можно выказать столько храбрости и уверенности в себе или обрести такую свободу!
Однако концовку можно трактовать иначе. Роберт Джексон в своей книге «Искусство Достоевского: безумие и ночные кошмары» («The Art of Dostoevsky: Deliriums and Nocturnes») утверждает, что «сама игра становится сознательным или бессознательным утверждением бессмысленности вселенной и любого человеческого решения» [Jackson 1981: 210]. У Дж. Лезербарроу придерживается того же мнения, но описывает свою позицию более красочно:
В его великих романах периода зрелости знаки [демонического начала] играют значительную структурную роль, а также помогают определить тот идеологический ландшафт, в котором развивается сюжет. В частности, их задача – проявить и выставить в наиболее неприглядном свете мотивы интеллектуального отчуждения, духовного бунта и потери веры в русского Христа [Leatherbarrow 2005: 599].
При таком прочтении можно предположить, что казино – или даже весь вымышленный Рулетенбург – служит демоническим воплощением отчуждения, бунта и даже потери веры у самого Достоевского. Несколько десятилетий спустя норвежский художник Эдвард Мунк в коротком письме (1891) описал казино, в котором он побывал, как «заколдованный замок, где дьявол устраивает празднество, – азартный ад Монако»[8]8
Цит. по: [Stang 1977: 86].
[Закрыть].
Позднее в романе Алексей хочет переломить судьбу: он надеется, что Полина увидит, что он «выше всех этих нелепых толчков судьбы» [Достоевский 1972–1990,5: 312]. Он объясняет, что не мог уйти из казино, потому что у него «родилось какое-то странное ощущение, какой-то вызов судьбе, какое-то желание дать ей щелчок, выставить ей язык» [Достоевский 1972–1990, 5: 224]. Однако к концу романа Алексей уже не считает, что игра – это способ бросить вызов судьбе. Вместо этого он принимает иррациональную природу судьбы, которая и придает игре ее случайный, непредсказуемый характер [Там же].
В конце книги Алексей осознает, что потребность человека понимать, контролировать и предсказывать судьбу сама по себе иррациональна. Единственный способ играть – это признать иррациональную и случайную природу игры. Достоевский утверждает, что попытка высчитать и предсказать удачу смешна и парадоксальна; тем самым он бросает вызов популярному мнению, что любители коммерческих игр обладают каким-то особым мастерством. Если игра требует мастерства, то это не игра. Когда победа зависит от удачи, мастерство не поможет.
Поскольку в «Игроке» отрицается множество социальных условностей, норм и популярных убеждений, некоторые исследователи видят в нем карнавальную природу. Карнавальная литература обращается к юмору и хаосу, разрушая иерархические социальные отношения. Малькольм Джонс, автор предисловия к «Игроку» (издание 2008 года), пишет:
Средневековый карнавал <…> предоставлял узаконенную возможность временно перевернуть все нормальные иерархические отношения в обществе. Короли становились нищими, а нищие королями, на мезальянсы смотрели сквозь пальцы, и можно было безнаказанно нарушать правила благопристойности – при условии что после завершения карнавала все возвратится на свои места. Бахтин рассматривает «Игрока» как ярчайший пример карнавализации в мире Достоевского, потому что за рулеточным столом все социальные отношения меняются, хоть и временно [Jones 2008:xviii].
Карнавальная природа игры в романе проявляется в том, что один из персонажей (Алексей) становится богат, а другой (бабушка) теряет все деньги. Кроме того, карнавальный характер прослеживается в отношениях Алексея с мадемуазель Бланш. Она не обращает на него внимания, пока он не выигрывает целое состояние. Алексей охотно – можно сказать, безучастно – принимает такое положение вещей. Таким образом, герои Достоевского свободно перемещаются между социальными классами в зависимости от капризов удачи. Случай снова и снова вмешивается в социальное устройство, что и делает «Игрока» карнавальным романом.
В других романах Достоевского тоже прослеживается его отношение к игре. Например, в «Записках из Мертвого дома», где автор рассказывает о собственном опыте пребывания в тюрьме, накопление денег становится формой выражения свободы. Достоевский описывает, с каким трудом каторжникам удавалось скопить крошечные суммы – которые они потом зачастую в пьяном угаре проигрывали в карты. Они копили деньги не из любви к деньгам как таковым, а ради того короткого момента свободы, который можно купить на эти деньги. Возможность потратить их так, как хочется, была глотком свободы внутри удушающей и подавляющей системы [Lantz 2004: 146].
Верил ли сам Достоевский, что деньги могут подарить чувство свободы? Или для него все финансовые аспекты были лишь грузом, проявлением низменной стороны бытия? Будучи в каком-то смысле узником издателя Стелловского и своих нахлебников, Достоевский, скорее всего, чувствовал, что крупный выигрыш позволил бы ему освободиться от финансовых обязательств.
Между писателем и его героем существуют определенные – возможно, глубокие – различия. Но в конечном итоге игра для них означает свободу, порожденную магией случайности. Именно поэтому они снова и снова возвращаются в казино, несмотря на неизбежные и болезненные проигрыши. С точки зрения исследователя игромании, эти двое настойчиво искали возможность проиграть. Но Достоевский и Алексей, вероятно, сказали бы, что они, подобно другим русским, преследовали небывалую мечту – свободу.
С другой стороны, можно сказать, что игра в романе становится противоположностью свободы: она порабощает игрока, уничтожая само представление о прогрессе и развитии. Такую точку зрения активно отстаивает Джефф Лав:
Отрицание темпоральности как линейного осмысленного движения становится подходящей нарративной эмблемой для того особого мира, в котором живут обитатели Рулетенбурга, – мира, где начало и конец то и дело меняются местами и параметры структурности понемногу растворяются. Отсюда принятие неизбежной скуки, постоянной невозможности разрешить конфликт, что одновременно и ограничивает, и освобождает [Love 2004: 361].
Как пишут Мартин, Садло и Стью, Достоевский, как и многие писатели-классики XIX века, очень интересовался темой скуки [Martin et al. 2006]. Лав ставит знак равенства между скукой, стазисом и невозможностью разрешить конфликт: герой оказался в ловушке, попал во вселенную, которую он не контролирует [Love 2004]. Возможно, именно это составляет тему «Игрока».
Короче говоря, этот небольшой и обманчиво простой роман оставляет пространство для множества интерпретаций и множества теорий относительно мотивов, стоящих за игровой зависимостью. Следовательно, мы не можем расценивать его как однозначное объяснение игромании и потому должны рассмотреть ряд научных (и гуманистических) теорий.
Глава 4
Традиционные подходы к проблеме игромании у Достоевского
Как различные исследователи объясняли тягу Достоевского к игре? Переместимся на пятьдесят лет вперед – в эпоху, когда началось изучение навязчивых желаний и зависимостей, в том числе и игровой зависимости. Поведение Достоевского нельзя объяснить наследственностью, поскольку (предположительно) ни один из его родителей не страдал игроманией. С другой стороны, как уже было сказано, его отец злоупотреблял алкоголем. Можно предположить, что Достоевский унаследовал склонность к формированию зависимости, пусть и не алкогольной. Но вопрос по-прежнему требует ответа: почему именно игра, а не алкоголь?
Итак, давайте рассмотрим несколько альтернативных ответов на этот вопрос. Мы сосредоточимся только на тех ученых (а именно исследователях и терапевтах), которые говорили конкретно о Достоевском.
Первый подход основан на психологической интерпретации, предложенной отцом психоанализа Зигмундом Фрейдом. Как мы увидим, большинство последующих ученых были знакомы с идеями Фрейда и использовали их как отправной пункт для собственных теорий.
Психологическое объяснение ФрейдаФрейд излагает свою теорию игровой зависимости – в том числе на примере Достоевского – в эссе «Достоевский и отцеубийство», опубликованном в 1928 году. Как обычно, его мысль двигалась в нескольких направлениях, и Достоевский был всего лишь одним из них. В заглавии эссе заявлена и другая тема: отцеубийство. Фрейд пишет[9]9
Для полноты картины следует отметить, что существуют и другие подходы к прочтению «Братьев Карамазовых». Так, Мэдиган рассматривает эту книгу как притчу об отношениях между Люцифером и Богом – или, возможно, человеком и Богом, – и эта тема также была интересна Достоевскому. Мэдиган пишет: «Достоевский явно убежден, что отец [в “Братьях Карамазовых”] подталкивает сыновей к этому поступку и в каком-то смысле они делают это вместе. Подобно Люциферу, они стремились уничтожить отца, не соответствующего своему положению. Только Алеша благодаря религии защищен от мыслей об убийстве. Он единственный избегает этого яда. Остальные, хоть отец перед ними и согрешил, так или иначе несут в себе унаследованное зло, вредя всем, кто приближается, в том числе и друг другу. Едва Смердяков совершает свою месть, он, не раздумывая, кончает с собой» [Madigan 2011: 749]. Итак, мы не обязаны видеть в этом акте отцеубийства мотивы сексуальной зависти. Однако именно такова была интерпретация Фрейда. К моменту публикации его эссе в 1928 году теории Фрейда (в том числе и теория детской сексуальности) были хорошо известны в Европе и Северной Америке, а сам ученый пользовался прекрасной репутацией. В этом эссе, как и во многих других, он стремился развить свои исходные теории, выстроенные на основе изучения клинических случаев, и для этого обращался к биографиям крупных деятелей культуры, религиозным и культурным проблемам и в целом к «цивилизации».
[Закрыть]:
Вряд ли случайно, что три шедевра мировой литературы разрабатывают одну и ту же тему – тему отцеубийства: «Царь Эдип» Софокла, «Гамлет» Шекспира и «Братья Карамазовы» Достоевского. Во всех трех обнажается и мотив действия – сексуальное соперничество из-за женщины [Фрейд 1995: 291].
В этом эссе Фрейд называет Достоевского художником, равным Шекспиру, и в то же время – несчастным невротиком, страдающим от игромании [Фрейд 1995: 285–291]. Он утверждает, что и эпилепсия, и игровая зависимость были для Достоевского способами наказать себя и тем самым заглушить чувство вины. В начале эссе Фрейд заявляет, что не считает Достоевского настоящим эпилептиком. С его точки зрения, Достоевский испытывал желание убить своего отца (отсюда «отцеубийство» в заглавии эссе) и «наказывал» себя за это судорожными припадками. Кроме того, с точки зрения Фрейда, эти припадки были наказанием за проигрыши в рулетку. Достоевский играл не ради выигрыша – иначе приходится признать, что он раз за разом терпел сокрушительное поражение. На самом деле, утверждает Фрейд, он хотел проиграть – ив этом добивался успеха. После проигрыша он наказывал себя и сразу же переставал чувствовать вину за то, что хотел убить отца.
Расставим точки над «Ь>: мы предполагаем, что у Достоевского была настоящая эпилепсия, которая с возрастом становилась все более выраженной, причем его заболевание отчасти объясняет страсть к игре. Вероятно, за рулеточным столом Достоевский надеялся забыть о своих проблемах, в том числе и связанных со здоровьем. Он верил, что может хотя бы ненадолго сбежать от тягот, полностью отдавшись игре. Далее, мы полагаем, что Достоевский никогда не испытывал желания проиграть все деньги или «наказать» себя за проигрыш. К игре его подталкивали другие факторы – в том числе желание легко и быстро выиграть денег, чтобы рассчитаться с долгами. Возможно, он полагал, что разработал идеальную систему для выигрыша.
Однако Фрейд считал, что почти за каждой формой человеческого поведения – в том числе ошибкой, случайностью, оговоркой и т. д. – стоят сознательные или бессознательные мотивы. С его точки зрения, ни один человеческий поступок не является полностью случайным.
Следовательно, по Фрейду, даже самые мучительные страхи и неврозы – это результат «выбора», обусловленного некоей экзистенциальной целью. Они заставляют человека действовать или бездействовать, служат наградой или наказанием, заставляют заново пережить ситуацию стыда или стирают травмирующие воспоминанияи и т. д. Итак, с его точки зрения, у игромании была цель – проиграть деньги и почувствовать боль, а не выиграть и избежать боли. Поэтому терапевт, практикующий фрейдистскую теорию, задал бы вопрос: почему игроман хочет страдать? Что скрывается в его прошлом? Чаще всего ответ ищут в глубинах младенчества и детства.
Фрейд начинает свое эссе с описания ключевых составляющих личности Достоевского, в числе которых он выделяет «невротический» аспект. По мнению Фрейда, этот аспект проявлялся у Достоевского в виде судорог. Сам Достоевский считал свои припадки симптомами эпилепсии, однако Фрейд видит в них проявление невроза или истерии. С его точки зрения, когда у Достоевского случалось то, что сам писатель считал эпилептическим припадком, на самом деле он пытался избавиться от невротического возбуждения, с которым не справлялся его организм. Итак, судороги были всего лишь симптомом истерии – своеобразным клапаном для сброса давления, вызванного неосознанной психической проблемой.
Далее Фрейд объясняет, почему со временем судороги становились все тяжелее. Первые несколько приступов, которые Достоевский пережил в юности, были вызваны «страхом смерти» [Фрейд 1995:288]. Тогда у него еще не было судорог: он всего лишь испытывал сонливость, апатию и меланхолию. Эти чувства сопровождались летаргическим сном, «совершенно сходным с настоящей смертью» [Фрейд 1995: 288]. Фрейд утверждает, что эти ранние припадки символизировали смерть: таким образом Достоевский выражал желание умереть. С точки зрения Фрейда, подобный припадок означает отождествление с кем-то, кто уже умер, или с кем-то, кто жив, но кому пациент желает смерти.
Здесь впервые появляется мотив эдиповской ненависти, которую Достоевский предположительно испытывал к своему отцу. Эта концепция основана на знаменитой теории о детской сексуальности, которую Фрейд впервые сформулировал в 1897 году. В Европе рубежа веков она подвергалась всеобщей критике, поскольку отрицала идею детской невинности. В отличие от Фрейда, большинство европейцев XIX века считали, что дети обладают моральной и духовной чистотой и свободны от любых дурных помыслов, а уж тем более – дурных действий. Однако Фрейд не разделял подобных иллюзий; с его точки зрения, ни одно человеческое существо не свободно от дурных помыслов. Задача психоанализа и состояла в том, чтобы обнаружить эти помыслы и вытащить их на поверхность. Это естественное состояние человека – нечто вроде первородного греха, от которого можно избавиться, исповедуясь психоаналитику.
Проще говоря, Фрейд в рамках теории детской сексуальности утверждает, что каждый мальчик с раннего детства испытывает сексуальные желания и мечтает о смерти отца, чтобы занять его место в качестве любовника матери. В силу семейных отношений мальчик идентифицируется с «фигурой отца». Таким образом, он хочет занять место отца, потому что тот «вызывает восхищение; хотелось бы быть таким, как он» [Фрейд 1995: 288]. Итак, в силу этих двух причин мальчик хочет, чтобы отец умер. Но если отец что-то заподозрит, то в качестве наказания завистливого сына ожидает кастрация. Страх кастрации служит сдерживающим началом.
Таким образом, мальчик хочет защитить свою пробуждающуюся маскулинность и для этого подавляет в себе желание убить отца и стать любовником матери, вытесняя сексуальное желание в глубину, в область бессознательного. Там оно продолжает незримо воздействовать на его психику.
Всякий раз, когда желание выходит на поверхность, вместе с ним возникает чувство зависти и ненависти, а заодно – вина и стыд. Поэтому, утверждает Фрейд, вина становится неотъемлемой частью взросления в семье – и, более того, неотъемлемой частью социальной жизни и самой цивилизации. Цивилизация немыслима без семьи, без подавленных желаний и вины, поэтому все общественные отношения несут отпечаток этих чувств. В свою очередь, подавленные желания и чувство вины становятся источником неврозов, фантазий и сублимации, которая в своей высшей форме способствует созданию великих произведений искусства. Такая трансформация либидо – от подавленного желания до шедевра – означает, что при создании своей теории Фрейд во многом ориентировался на людей искусства, таких как Достоевский.
Повторимся: по Фрейду, Достоевский чувствовал вину за то, что хотел убить своего отца. С этой точки зрения эпилептические припадки, похожие на смерть, были способом наказать себя. Возможно, Фрейд пришел к этой идее, прочитав реплику Мармеладова в «Преступлении и наказании»: «Для того и пью, что в питии сем сострадания и чувства ищу. <…> Пью, ибо сугубо страдать хочу!» [Достоевский 1972–1990, 6: 15]. Возможно, Достоевский, подобно некоторым его героям, тоже испытывал чувство вины и потребность в страдании.
Кроме того, Фрейд утверждает, что Достоевский был бисексуален. По его мнению, латентная гомосексуальность у Достоевского проявлялась «в роли мужской дружбы в его жизни, в его до странности сердечном отношении к соперникам в любви и в его отличном – как показывают многочисленные примеры из его повестей – понимании ситуаций, объяснимых лишь вытесненной гомосексуальностью» [Фрейд 1995: 288].
Можно предположить, что идея о латентной гомосексуальности вытекает у Фрейда из мысли об истерической природе судорог Достоевского и их связи с чувством вины. Европейские врачи того времени считали истерию исключительно женским заболеванием. Поэтому прослеживается логическая связь: эпилептические припадки вызваны истерией; истерия – это женская болезнь; значит, в характере Достоевского есть нечто женское; отсюда следует, что он бисексуален.
В качестве доказательства, что Достоевский действительно хотел убить отца, Фрейд приводит роман «Братья Карамазовы». Описывая убийство Федора Карамазова, Достоевский воплощает мечту о смерти своего собственного отца. Фрейд утверждает, что таким образом Достоевский нашел способ раскрыть свою подсознательную тягу к отцеубийству в социально приемлемой форме. Поэтому, с точки зрения Фрейда, «Братья Карамазовы» – это признание автора в том, что он действительно испытывал вину за желание убить своего отца.
Согласно теории Фрейда, самоидентификация с отцом, а также желание убить отца и занять его место в постели матери постепенно превращаются в Сверх-Я и занимают устойчивое место в психике ребенка. Поскольку отец Достоевского был «суров, властен, жесток», то именно эти черты закрепляются в Сверх-Я писателя [Фрейд 1995: 289]. Подсознательно он считает их достоинствами. Чтобы уравновесить это «садистское» Сверх-Я, его Я – область холодного рассудка – становится пассивным и женственным. Итак, в подсознании Достоевского постоянно велась война между предположительно садистским маскулинным Сверх-Я и мазохистским феминным Я. Этот постоянный конфликт, утверждает Фрейд, был источником психического возбуждения и стресса.
С точки зрения Фрейда, глубинной причиной истерических (эпилептических) судорогу Достоевского является его самоидентификация с отцом. Отсюда чувство вины за то, что он желал отцу смерти. Под воздействием этих факторов Я Достоевского приобретает пассивные и мазохистские черты, а Сверх-Я принимает функцию наказания. Со временем припадки постепенно становились все хуже и все больше напоминали настоящие эпилептические приступы. Как видно из источников, невроз Достоевского достиг «эпилептической» формы, только когда ему исполнилось восемнадцать и он узнал об убийстве отца [Фрейд 1995: 287][10]10
В [Frank 1979] Фрэнк приводит новые данные об убийстве М. А. Достоевского. Как выяснилось, версия убийства была, вероятнее всего, не более чем сплетней, которую запустил сосед Достоевских в надежде отобрать себе их земли, если живших там крестьян сошлют в Сибирь за убийство помещика. Однако, вне зависимости от того, что на самом деле случилось с Михаилом Андреевичем, Федору сообщили, что его отец был убит, и это оказалось для него большим ударом.
[Закрыть]. Эта ужасающая новость вызвала необычайно сильный припадок.
Фрейд утверждает, что Достоевский продолжал бессознательно ненавидеть отца и желать ему смерти, хотя на протяжении всего детства подавлял в себе эти чувства. Следовательно, когда отец действительно умер, сын по-прежнему отождествлял себя с ним – или мечтал занять его место. Его припадок, похожий на смерть, стал отражением реальной смерти отца.
Кроме того, Фрейд полагает, что во время подобных припадков пациент ощущает «миг высшего блаженства» [Фрейд 1995: 290].
Возможно, известие о долгожданной смерти отца приносит радость, пускай и бессознательную. Однако за мгновением удовольствия следует еще более жестокое наказание: мало того, что ты пожелал отцу смерти, ты еще и обрадовался ей.
Если бы эта теория была верна, то во время ссылки и тюремного заключения приступы должны были бы стать менее мучительными: Достоевскому больше не требовалось наказывать себя, поскольку его наказывали другие. Однако нам известно, что на каторге ему не стало легче. Напротив, Достоевский писал, что в Сибири припадки стали еще хуже. Но Фрейд не принимает его свидетельство всерьез: «К сожалению, есть основания не доверять автобиографическим высказываниям невротиков. Опыт показывает, что их воспоминания подвержены фальсификациям…» [Фрейд 1995: 288].
Есть несколько причин, почему мы так подробно описываем отношение Фрейда к эпилептическим припадкам у Достоевского. Во-первых, это хорошо иллюстрирует общий стиль фрейдистского нарратива. Во-вторых, становится очевидно, как Фрейд игнорирует факты, которые не вписываются в его теорию, и выставляет их чем-то скорее предположительным, нежели окончательным. В-третьих, здесь прослеживается важная связь между эпилепсией и игровой зависимостью: с точки зрения Фрейда, и то и другое суть проявления чувства вины и желания быть наказанным. Фрейд полагал ошибочным мнение Достоевского относительно природы его судорог (связь с эпилепсией) – и точно так же считал, что попытки Достоевского объяснить свое игровое поведение были всего лишь отговорками и «оправданиями» [Фрейд 1995: 292].
Точку зрения Фрейда разделяли некоторые выдающиеся читатели «Игрока». Так, великий немецкий писатель Томас Манн, автор предисловия к изданию 1945 года, предлагает абсолютно фрейдистское прочтение этого романа. Интерпретируя игровую зависимость Алексея, он обращается к той же амбивалентности, которую Фрейд обнаруживает в эпилепсии Достоевского. Манн считает, что в основе произведений Достоевского лежат болезнь и страдание, что объединяет его с Ницше [Mann 1945].
Это сходство выглядит обоснованным: идеи Достоевского сильно повлияли на Ницше, который называл русского писателя своим «великим учителем». Достоевский, как мы уже видели, действительно придавал болезни большое значение и описывал свою эпилепсию как нечто практически сакральное – источник невероятного удовольствия, за которым следует сокрушительное чувство вины. Вероятно, Достоевский испытывал подобное ощущение «сакральности» во время игры: предчувствие выигрыша, отчаяние от проигрыша [Mann 1945].
Фрейд не верил, что Достоевский играл, чтобы выиграть деньги, вернуться в Россию и расплатиться по долгам. С его точки зрения, игра была наказанием за желание смерти отцу. Мы знаем, что Достоевский не уходил из казино, пока не проигрывался подчистую. По утверждению Фрейда, угроза нищеты, нависшая над его семьей, даже доставляла ему удовольствие, поскольку усугубляла чувство вины. Вина за те неприятности, которым он подвергал своих близких, тоже была частью желанного наказания. Пока его сознание было занято собственным недостойным поведением, бессознательное могло отдохнуть от гнета тяжелых воспоминаний.
Другой формой наказания было самоуничижение перед женой. Подобно другим игроманам, он постоянно ругал себя за безответственность и опрометчивость, приведшие к очередному огромному проигрышу. Таким образом ему удавалось «разгрузить» свое подсознание и на время освободиться от изнуряющего чувства вины, связанного с неразрешенным эдиповым комплексом. Однако, как полагает Фрейд, после краткого облегчения он снова испытывал необходимость наказать себя – и снова возвращался к игре.
В поиске аргументов для своей теории Фрейд обращается к воспоминаниям Анны Достоевской. Например, она отмечает, что после крупных проигрышей ее мужу было легче писать. Возможно, Достоевский старался как можно скорее получить гонорар и выплатить долги. Однако, с точки зрения Фрейда, это подтверждает, что проигрыш помогал Достоевскому избавиться от чувства вины. Но рано или поздно это чувство возвращалось, и Достоевский вновь отправлялся в казино, надеясь с помощью страдания избавиться от этого груза.
Но почему из всех путей, ведущих к страданию, Достоевский выбрал именно азартные игры? Отвечая на этот вопрос, Фрейд вновь возвращается к теме детской сексуальности и подавления сексуальных желаний. Он утверждает, что тяга к игре «эквивалентна старой тяге к онанизму» [Фрейд 1995: 293]. Иными словами, тяга к азартной игре у взрослого – это отражение тяги к мастурбации у подростка.
По словам Фрейда, у игры и мастурбации много общего. Оба вида деятельности связаны с возбуждением и наслаждением; в обоих случаях важную роль играют руки. Фрейд пишет, что «акцент на страстной деятельности рук» у игрока, играющего в карты, напоминает о движениях во время мастурбации. Кроме того, слово «игра» является эвфемизмом для мастурбации, поскольку «никаким другим словом <…> нельзя назвать манипуляции с гениталиями в детской» [Фрейд 1995: 292].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?