Текст книги "Достоевский. Перепрочтение"
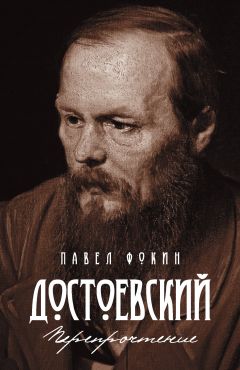
Автор книги: Павел Фокин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
Из всех повседневных забот по дому, пожалуй, только приготовление пищи может претендовать на право именоваться искусством. Даром что ли Федор Павлович называет Смердякова «артистом». В иные эпохи кулинария оказывалась чуть ли не главным видом творческой деятельности. В том же Риме «времен упадка», например, о котором здесь вполне уместно вспомнить по причине известного внешнего сходства старика Карамазова с «древним римским патрицием» (14,22). Как художник из красок создает картину, повар из имеющихся в его распоряжении продуктов готовит блюдо, соблюдая правила рецептуры и повинуясь вдохновению. Повар, несомненно, личность творческая.
И как всякий творец он чувствует себя «коллегой» Бога.
Впрочем, у кулинарного искусства есть своя специфическая особенность. В отличие от всех других художников, которые, как правило, работают с материалами неорганического происхождения или, во всяком случае, полученными в процессе длительной предварительной обработки, повар имеет дело чаще всего с тем, что еще совсем недавно было живым и даже иногда разумным. Растения, животные, рыбы, птицы – вот его исходные материалы. Художник мертвые краски наполняет жизнью, заставляет дышать мрамор и бронзу, из слов и звуков создает почти зримые образы, вызывает из небытия фантомы, наделенные духом и волей. Повар же, напротив, все растущее и дышащее, блеющее и мычащее, летающее и плавающее обращает в неподвижное, безмолвное, мертвое. Зарезать курицу, разделать свинью, выпотрошить рыбу, разбить яйцо, нарезать салат – привычное дело. Прежде чем «сочинить» что-то свое, повар должен уничтожить некое творение Божие. И в этом смысле он уже не «коллега» Бога, он Его противник – «конкурент», не останавливающийся ни перед чем ради достижения цели.
Бог вдохнул жизнь в мертвую глину, преобразив материю Духом истины.
Художник вкладывает в свои творения частицу собственной души. Мир художественных произведений вторичен по отношению к действительности, но в нем много подлинности и правды. Предметы искусства живут своей особой жизнью, их биографии и судьбы столь же драматичны и причудливы, что и людские.
Повар живую жизнь обращает в косную материю, лишенную каких-либо признаков духовности. Формы, в которые облекает свое творчество повар, условны и, как правило, лишены живого содержания. В то же время они, возникая в процессе разрушения исконных форм бытия, представляют собой пародию на Божье творение и глумление над ним. Гастрономическая эстетика – эстетика лишения образа, эстетика без-образного. Создания кулинарного гения предназначены к удовлетворению плотских потребностей. Их жизнь скоротечна и на самом деле представляет собой лишь еще одну ступень омертвления на пути к конечному уничтожению и распаду в абсолютное ничто.
Повар по сути своей – анти-Демиург.
Бог создал жизнь. Повар ежедневно посягает на жизнь.
Но ведь не из злого умысла. Без его трудов жизнь земная тоже прекратится. Человек пока еще не научился обходиться без пищи. Для продолжения жизни человеку приходится истреблять живое. Это тоже устроено так по воле Божьей. Как можно упрекать повара в его деятельности?
Да никто и не упрекает.
Его участь трагична. В основе поварской профессии заложен острейший онтологический конфликт, преодоление которого чревато духовными и моральными потерями.
Обыденность процедуры приготовления пищи притупляет чувство, порождает черствость и автоматизм. Это, пожалуй, самое очевидное и простое следствие кухонного ремесла. Такова психология человека, элементарная защитная реакция. Если повар будет казниться на суде совести при виде каждого куска мяса, он просто сойдет с ума. В большинстве случаев личностные потери повара этим профессиональным равнодушием и ограничиваются, более того, за порогом кухни повар может оказаться даже очень сентиментальным человеком.
До поры до времени.
У натур, склонных к метафизической созерцательности, к каким несомненно относится Смердяков, пребывание на кухне обостряет спекулятивные свойства мышления, открывает просторное поле для умствований и гордого вопрошания. Тут и соблазн соперничества с Творцом, и дерзкий вызов всему окружающему миру, и надменная самоуверенность. Вообще, у задумавшегося повара много есть материала для схоластических упражнений и казуистики. Повару по статусу так много позволено в действительности, что в своих фантазиях он может разрешить себе самое небывалое и найти ему обоснование и аргумент, как, например, Смердяков в рассуждениях о подвиге русского солдата Фомы Данилова. Любопытно, что на все кощунственные речи карамазовского повара его приемный отец, слуга Григорий, ничего не находит более резкого и категоричного, чем обозвать его «бульонщиком».
«– Врешь, за это тебя прямо в ад и там, как баранину, поджаривать станут, – подхватил Федор Павлович. <…>
– Насчет баранины это не так-с, да и ничего там за это не будет-с, да и не должно быть такого, если по всей справедливости, – солидно заметил Смердяков» (14, 118).
Каковы спокойствие и уверенность в рассуждениях об аде и способах приготовления грешников! Знает, что говорит. Да и как не знать. У себя на кухне он сам ежедневно устраивает и созерцает маленький ад. Как никто другой из обычных смертных, повар посвящен в тайны огня и его мистику, он знает его силу и – повелевает им. Впрочем, и другие стихии подвластны повару. То, в какие отношения он вступает с ними, покрыто тайной. Кухонное пространство наделено известного рода сакральностью. И духи, которые его населяют, не спешат показываться на свет Божий. Да и самый враг человеческий со времен «Фауста» Гёте наведывается в кухню пообщаться с ее обитателями. Похоже, совсем не случайно «русский Фауст» Иван Карамазов вступает в немой сговор с «бульонщиком» Смердяковым, да и тот заприметил его и выделил из всего семейства Карамазовых отнюдь не за красивые глаза. Их отношения устраивает лукавый посредник. Его поддержку чувствует Смердяков и во все остальное время. В его власть себя предает. Иван Федорович, изумленный рассказом Смердякова о подробностях убийства, восклицает: «Ну, тебе значит сам черт помогал!» (15, 66) Смердяков не возражает.
Кулинарное творчество на самом деле есть имитация творческого процесса. Повар в первую очередь исполнитель. Лакей. «Возьмите того-то и того-то, смешайте, влейте, доведите до кипения, отставьте, добавьте, слейте, размешайте, поставьте в холод и т. п.» Конечно, особо талантливые натуры стремятся заявить свою волю, но все-таки даже они большую часть своих произведений создают по чужим рецептам, совершенствуя и разнообразя приправы. Авторитарность — естественное качество поварского сознания. Без руководства и указки повару живется одиноко. Скучно. В то же время мышление повара индуктивно, оно направлено на развитие, реализацию воспринимаемых идей, особенно императивов. Неслучайно не только у профессиональных поваров, но и у обыкновенных любителей особый интерес вызывают новые рецепты, их хочется поскорее проверить самому, попробовать на вкус новое блюдо. Из профессионального любопытства повар готов пойти даже на известные жертвы.
Теперь, даже бегло рассмотрев человеческие и метафизические аспекты профессии Смердякова, можно вполне оценить замечание повествователя о том, что «поваром он оказался превосходным» (14,116). За молчанием и внешней убогостью героя скрывается личность отнюдь не бесцветная – пусть равнодушная и циничная, но исключительно хитроумная и расчетливая, внимательная, активная, не без творческого начала, до известной степени послушная, хотя и гордая, самоуверенная, презирающая мир и Его Творца.
Спланированное Смердяковым убийство Федора Павловича можно признать за образец киллерского искусства. Составленный им рецепт совершенен. Разработана разветвленная система участников преступления, для каждого составлена своя «легенда», тщательно структурировано пространство, определены маршруты, синхронизированы графики движения, продуманы улики и собственное алиби. Смердяков спланировал не только само преступление, но и ход следствия, и судебный процесс, и его итог. В результате его авантюра удалась самым блистательным образом. Даже некоторый сбой в психологии Мити не мог предотвратить конца старика Карамазова.
Впрочем, готовя свое криминальное блюдо, Смердяков забыл одно кулинарное правило. Никакой рецепт не может реализоваться сам собой. Без участия повара. Его роль в убийстве, и притом решающая, была предопределена технологией процесса. Уклониться было невозможно. Просто ничего бы тогда не сварилось. Конечно, Смердякову не хотелось самому проливать кровь: слишком брезглив был, чтобы пятнаться, презирал всех участников трагедии без меры, но когда возникла нештатная ситуация, он поступил так, как если бы пришлось обреченного на жаркое телка завалить. «Я тут схватил это самое пресс-папье чугунное, на столе у них, помните-с, фунта три в нем будет, размахнулся, да сзади его в самое темя углом, – рассказывал потом подробности Ивану. – Не крикнул даже. Только вниз вдруг осел, а я в другой раз и в третий. На третьем-то почувствовал, что проломил» (15, 64–65). Что и говорить, профессионал.
Смердяков – типичный представитель духовного подполья, особенно остро ощущающий свое изгойство именно благодаря постоянному пребыванию на черновой работе повара. И как все подпольные герои Достоевского, Смердяков жаждет реванша. Осознавая свою социальную ущербность и беспомощность, Смердяков ищет обходных путей. Не имея прав на власть законную, всеми признанную и открытую, он стремится заполучить пусть тайную власть, но зато непосредственную и прямую. Кухня, куда он оказался как бы сослан в услужение, становится для него плацдармом боевых действий. Здесь, похоже, открывает он для себя закон, который с такой страстью излагает Иван в своей поэме устами Великого инквизитора: «Пройдут века, и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть нет и греха, а есть лишь только голодные. „Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!“ – вот что напишут на знамени, которое воздвигнут против Тебя и которым разрушат храм Твой. <…> Ты обещал им хлеб небесный, но, повторяю опять, может ли он сравниться в глазах слабого и вечно неблагородного людского племени с земным. <…> С хлебом Тебе давалось бесспорное знамя: дашь хлеб, и человек преклонится, ибо ничего нет бесспорнее хлеба» (14,230–232).
Очень может быть, что об этом Смердяков и раньше интуитивно догадывался. Ведь была ему изначально предложена деятельность куда более возвышенная и духовная: хотел было Федор Павлович сделать его домашним библиотекарем. Более полярную поварской профессию трудно придумать. Хотя есть в них известное сходство. В книгах содержится пища духовная. Каждая книга – своеобразное интеллектуальное блюдо. Но ведь библиотекарь только обслуживающая фигура, да и то очень специфической части хозяйства. Его участие в делах дома – минимально. Если его не будет, никто и не заметит: раз в месяц пыль стряхнуть всегда найдется кому. Нет, такая участь герою Достоевского совсем не по нутру. Писатель тонко чувствует природу смердяковского характера. Смердяков по натуре прагматик. Вполне естественно, что он остается равнодушен и к Гоголю, и к Смарагдову, и к Священному Писанию. Ни вымышленные характеры, ни исторические труды, ни христианское предание в практическое применение не годятся. «Ну и убирайся к черту, лакейская ты душа» (14,115), – напутствовал мальчика Федор Павлович, не обнаружив в нем читательского рвения. «Так и закрылся опять шкаф с книгами» (14,115). А вскоре последовало назначение в кухню.
Смею предположить, что социальная убогость Смердякова не мешает ему лелеять поистине наполеоновские планы. Зря, что ли, он учит французские вокабулы? Да и деньги карамазовские нужны ему для бегства на Запад. «Была такая прежняя мысль-с, что с такими деньгами жизнь начну, в Москве али пуще того за границей, такая мечта была-с <…>» (15, 67). Там, в кипящей революционными событиями Европе, в мутной воде буржуазной демократии заваривается уха будущих диктатур и империй.
– Что горит во мгле?
Что кипит в котле?
– Фауст, ха-ха-ха,
Посмотри – уха,
Погляди – цари.
О, вари, вари!..
В едином пространстве русской литературы как не услышать в связи с нашим поваром эти пушкинские строки из «Набросков к замыслу о Фаусте»?
И как не вспомнить ленинского тезиса, о кухарке, которая будет управлять государством.
Все это отнюдь не случайное совпадение метафор.
Смердяков – оборотная сторона великого инквизитора. Точнее – его воплощение в конкретно-историческом облике. Без романтических прикрас и самообмана. Великий инквизитор – вдохновенный плод поэтической фантазии, величественный, масштабный и прекрасный, способный своим видом очаровать восторженную душу, пленить воображение. Он достоин поэмы. «Действие у меня в Испании, в Севилье, в самое страшное время инквизиции, когда во славу Божию в стране ежедневно горели костры и
В великолепных автодафе
Сжигали злых еретиков», —
расписывает Иван, переходя на стихи. На самом деле все намного скромнее: Россия второй половины XIX века, скотопригоньевский трактир, «место у окна, отгороженное ширмами», по соседству «вся обыкновенная трактирная возня», «призывные крики, откупоривание пивных бутылок, стук бильярдных шаров, гудел орган» (14, 208). Единственные мученики в уездном городе – кошки, повешенные жестоким мальчиком. Вместо спора инквизитора с Христом – «контроверза» «за коньячком». Вся реальная действительность против Ивана, и даже его собственный кошмар восстает на него: «Не требуй от меня „всего великого и прекрасного“ <…>, – издевается над Иваном черт. – Воистину ты злишься на меня за то, что я не явился тебе как-нибудь в красном сиянии, „гремя и блистая“, с опаленными крыльями, а предстал в таком скромном виде. Ты оскорблен, во-первых, в эстетических чувствах твоих, а во-вторых, в гордости: как, дескать, к такому великому человеку мог войти такой пошлый черт?» (15,81)
Смердяков – кошмар Ивана Федоровича наяву.
Великий инквизитор в переводе на язык обыденности.
В известной степени он ведь тоже – творение Ивана, который поначалу «принял было в Смердякове какое-то особенное вдруг участие, нашел его даже очень оригинальным. Сам приучил его говорить с собою, всегда однако дивясь некоторой бестолковости или лучше сказать некоторому беспокойству его ума и не понимая, что такое „этого созерцателя“ могло бы так постоянно и неотвязно беспокоить. Они говорили и о философских вопросах и даже о том, почему светил свет в первый день, когда солнце, луна и звезды устроены были лишь на четвертый день, и как это понимать следует» (14, 242–243). Но черт посмеялся над Иваном: вместо «поэмы» из Смердякова получился «скверный анекдот». «Иван Федорович скоро убедился, что дело вовсе не в солнце, луне и звездах, что солнце, луна и звезды предмет хотя и любопытный, но для Смердякова совершенно третьестепенный и что ему надо чего-то совсем другого. Так или этак, но во всяком случае начало выказываться и обличаться самолюбие необъятное и при том самолюбие оскорбленное» (14, 242–243). Ученик быстро догнал учителя. «Смердяков видимо стал считать себя Бог знает почему в чем-то наконец с Иваном Федоровичем как бы солидарным, говорил всегда в таком тоне, будто между ними вдвоем было уже что-то условленное и как бы секретное, что-то когда-то произнесенное с обеих сторон, лишь им обоим только известное, а другим около них копошившимся смертным так даже и непонятное» (14,243).
Все то время, пока Иван искушает Алешу своим «бунтом», развивая перед ним диалектику Злого Духа, лакей Смердяков «сидит» в душе Ивана. «Давеча, еще с рассказа Алеши о его встрече со Смердяковым, что-то мрачное и противное вдруг вонзилось в сердце его (Ивана. – П. Ф.) и вызвало в нем тотчас же ответную злобу. Потом, за разговором, Смердяков на время позабылся, но однако же остался в его душе, и только что Иван Федорович расстался с Алешей и пошел один к дому, как тотчас же забытое ощущение вдруг быстро стало опять выходить наружу. „Да неужели же этот дрянной негодяй до такой степени может меня беспокоить!“ подумалось ему с нестерпимою злобой» (14,242). Еще бы! Создание претендует быть творцом и предлагает соавторство. «Иван Федорович однако и тут долго не понимал этой настоящей причины своего нараставшего отвращения и наконец только лишь в самое последнее время успел догадаться в чем дело» (14,243).
Смердяков, будучи человеком практическим, равнодушным к поэзии, мысли Ивана трактует конкретно, по-деловому. Ему нужны понятные рецепты и технологии. Интеллектуальные эксперименты Ивана он воспринимает как готовые инструкции. То, что одному только мерещится, второй воспринимает как свершившийся факт. Как повар, Смердяков готов воплотить в жизнь все, что ему предложит «умный человек» Иван Федорович Карамазов. Поэму переписать в поваренную книгу.
Достоевский прекрасно понимал всю интеллектуальную и духовную мощь, созданного им образа Великого инквизитора: «Мерзавцы дразнили меня необразованною и ретроградною верою в Бога. Этим олухам и не снилось такой силы отрицания Бога, какое положено в Инквизиторе и в предшествующей главе, которому ответом служит весь роман» (27, 48). Действительно, вся художественная структура «Братьев Карамазовых» нацелена на разрушение чар «Великого инквизитора». Непосредственный адресат «поэмы» Алеша борется с ней светом неприятия, ее тайный соавтор Смердяков губит мраком согласия.
«– Инквизитор твой не верует в Бога, вот и весь его секрет!
– Хотя бы и так! Наконец-то ты догадался. И действительно так, действительно только в этом и весь секрет <…>» (14, 238).
«– Это вы вправду меня учили-с, ибо много вы мне тогда этого говорили: ибо коли Бога бесконечного нет, то и нет никакой добродетели, да и не надобно ее тогда вовсе. Это вы вправду. Так я и рассудил.
– Своим умом дошел? – криво усмехнулся Иван.
– Вашим руководством-с.
– А теперь стало быть в Бога уверовал, коли деньги назад отдаешь?
– Нет-с, не уверовал-с, – прошептал Смердяков» (15, 67).
В борьбе с поэзией зла Достоевский использует разные средства, в том числе ее перевод на язык «презренной прозы». Он знает – «некрасивость убьет». Романтические фантазии Ивана Федоровича, попав в руки «бульонщика» как кур в ощип, в итоге превратились в голый и безобразный трупик идеи, а эстетический пух и перья остались на кухне у Смердякова.
«Запомню», – воскликнул Дмитрий Федорович Карамазов, выслушав поразившую его теорию брата Ивана о вседозволенности в безбожном мире, а точнее, о необходимости зла в жизни неверующего: «чтобы не ослышаться: „Злодейство не только должно быть дозволено, но даже признано самым необходимым и самым умным выходом из положения всякого безбожника!“» – формулирует он для ясности (15,65). И не только Митя запомнил. Запомнили и читатели. Тут еще отец Паисий свое веское слово вставил: «Точно так», что в его устах на самом деле есть гражданская формула церковного «Аминь».
Достоевский виртуозно акцентировал этот сюжет в читательском сознании. Более того, по пословице, повторение – мать учения, спустя некоторое время продублировал ситуацию в реплике Ракитина, обращенной к Алеше: «слышал давеча его глупую теорию: „нет бессмертия души, так нет и добродетели, значит, все позволено“. (А братец-то Митенька кстати помнишь, как крикнул: „Запомню!“)» (14,76). После второго указания, читателю ничего уже не остается, как именно запомнить — и, заметим, – именно в лаконичной формуле «все позволено».
Там, в первый раз, когда Миусов излагает мысль Ивана, вокруг еще много различного «рамочного» словесного оформления, иронических эпитетов, вводных, скобок и всякой риторики, много логики и силлогизмов: «Не далее как дней пять тому назад, в одном здешнем, по преимуществу в дамском обществе, он торжественно заявил в споре, что на всей земле нет решительно ничего такого, что бы заставляло людей любить себе подобных, что такого закона природы: чтобы человек любил человечество – не существует вовсе, и что если есть и была до сих пор любовь на земле, то не от закона естественного, а единственно потому, что люди веровали в свое бессмертие. Иван Федорович прибавил при этом в скобках, что в этом-то и состоит весь закон естественный, так что уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того: тогда ничего уже не будет безнравственного, все будет позволено, даже антропофагия. Но и этого мало: он закончил утверждением, что для каждого частного лица, например как бы мы теперь, не верующего ни в Бога, ни в бессмертие свое, нравственный закон природы должен немедленно измениться в полную противоположность прежнему, религиозному, и что эгоизм даже до злодейства не только должен быть дозволен человеку, но даже признан необходимым, самым разумным и чуть ли не благороднейшим исходом в его положении» (14, 64–65). Путано сказано, мутно: тут тебе и «закон естественный», и какой-то небывалый «нравственный закон природы», и еще какой-то «прежний, религиозный» закон – не просто так пришлось Мите все переформулировать. Да и Достоевскому, устами Ракитина, – вслед за тем.
А потом уже и в третий раз, вернув наконец слово самому Ивану, авторизовав, так сказать, в его разговоре с Алешей после «Великого инквизитора»: «А, это ты подхватил вчерашнее словцо, которым так обиделся Миусов… и что так наивно выскочил и переговорил брат Дмитрий? – криво усмехнулся он. – Да, пожалуй: „все позволено“, если уж слово произнесено. Не отрекаюсь. Да и редакция Митенькина недурна» (14,240).
Вокруг этой формулы – «все позволено» – будут кипеть страсти: и в романе, и среди читателей. Ракитин, Алеша, Митя, Смердяков да сам черт Ивана Федоровича – все будут волноваться, что такое «все позволено». А там вдруг мадам Хохлакова возьми да и брякни в разговоре с Алешей, как замечает Достоевский, «кокетливо» улыбаясь: «Простите, что я вас называю иногда Алешей, я старуха, мне все позволено», и для полной бессмыслицы прибавила: «но это тоже потом. Главное, мне бы не забыть про главное» (15,13). Оказывается, что для мадам Хохлаковой вовсе и не «главное» то, что сводит с ума всех братьев Карамазовых, – что «все позволено». Впрочем, она готова признать свою беспомощность: «Ах, почему я знаю, что теперь главное!» (15,13)
Намеренно ли Достоевский вдруг так резко приземлил экзистенциальную формулу Ивана, или так само получилось, наверняка сказать невозможно, но, учитывая, как настойчиво он внедряет ее в читательское сознание, следует допустить, что и мадам Хохлакова произнесла ее не из одного кокетства. Тут как бы обозначается некая интерпретационная шкала, привлекающая внимание к самой сути проблемы: что, собственно говоря, позволено, кому и по какому праву? Любопытно поискать ответ на этот вопрос в пределах романного мира «Братьев Карамазовых».
Начнем прежде с уточнения семантического объема слова позволить. Современный Достоевскому словарь В. И. Даля дает такое определение: «позваливать что кому, дозволять, извалять, соизволять, разрешать, допускать, дать право или волю делать что. <…> Противопол. запретить, заречь, заказать, не велеть, отказать». Иными словами, позволение есть разрешение совершать некие действия и поступки, это коммуникативный акт, предполагающий наличие известного рода иерархии в отношениях тех, кто в нем участвует, а также некоей системы правил или законов, в пределах которой действуют участники коммуникативного акта. Позволение – действие социальное, не являющееся проявлением каких-либо врожденных качеств отдельного индивида, оно представляет собой одну из форм системы управления или регулирования установленных в обществе взаимоотношений. Позволение есть признание существования известного рода зависимости участников коммуникативного акта друг от друга и от связывающего их между собой закона, правила или обычая. Об этом как раз идет речь в первом случае актуализации концепта в романе.
Говоря о бесчинствах Федора Павловича, рассказчик прибавляет: «Как характерную черту сообщу, что слуга Григорий, мрачный, глупый и упрямый резонер, ненавидевший прежнюю барыню Аделаиду Ивановну, на этот раз взял сторону новой барыни, защищал и бранился за нее с Федором Павловичем почти непозволительным для слуги (курсив мой. – П. Ф.) образом, а однажды так даже разогнал оргию и всех наехавших безобразниц силой» (14,13).
Теперь посмотрим на текст. Наиболее распространенный случай употребления глагола позволить в романе связан с формулой речевого этикета «позвольте сказать» и ее вариантов: «позвольте сообщить», «позвольте спросить», «позвольте отрекомендовать», «позвольте досказать», «позвольте пояснить», «позвольте изложить» и просто «позвольте». При этом практически во всех случаях говорящий не сомневается в своем праве высказать свою позицию и не столько испрашивает у собеседника или аудитории разрешения на слово, сколько обозначает это свое право на высказывание и участие в разговоре. Слово, высказывание, таким образом, оказывается наименее социально регламентированным актом. У Достоевского всем позволено говорить. И говорить практически все. Даже в критических ситуациях, когда говорящий нарушает своими словами установленную норму, он практически остается безнаказанным или не получает должного наказания.
Так, Федор Павлович рассказывает, как однажды неуместно скаламбурил в одном случае: «Приезжаю лет семь назад в один городишко, были там делишки, а я кой с какими купчишками завязал было компаньишку. Идем к исправнику, потому что его надо было кой о чем попросить и откушать к нам позвать. <…> Я к нему прямо, и знаете с развязностию светского человека: „г. исправник, будьте, говорю, нашим так-сказать Направником!“ <…> „Извините, говорит, я исправник и каламбуров из звания моего строить не позволю“. Повернулся и уходит». Тот же Федор Павлович в ответ на свою провокацию в келье старца Зосимы получает от Мити лишь гневную реплику, не более: «Молчать! <…> подождите, пока я выйду, а при мне не смейте марать благороднейшую девицу… Уж одно то, что вы о ней осмеливаетесь заикнуться, позор для нее… Не позволю!» (14,38) Угроза Дмитрия Федоровича опять-таки остается только речевой формулой, но не действием.
Любопытно, что эта ситуация свободы слова вызывает протест именно у Федора Павловича, который, казалось бы, только тем и живет, что позволяет себе всевозможные речевые жесты и провокации. «Отцы святые, я вами возмущен, – разглагольствует он после выхода из кельи старца. – Исповедь есть великое таинство, пред которым и я благоговею и готов повергнуться ниц, а тут вдруг там в келье все на коленках и исповедуются вслух. Разве вслух позволено исповедываться? Святыми отцами установлено исповедание на ухо, тогда только исповедь ваша будет таинством, и это издревле. А то как я ему объясню при всех, что я, например, то и то… ну то есть то и то, понимаете? Иногда ведь и сказать неприлично. Так ведь это скандал! Нет, отцы, с вами тут пожалуй в хлыстовщину втянешься…» (14, 82) А ведь практически весь роман есть череда исповедей вслух. Устами своего героя-безобразника Достоевский ставит принципиальный для всей своей художественной системы вопрос. В рамках этой системы, как мы знаем, вопрос звучит риторически, но Достоевский проблематизирует его в «Братьях Карамазовых», так как именно в этом романе главный метафизический конфликт основан на ни чем и ни кем необузданной речевой вседозволенности героев, в конечном итоге приводящей к преступному действию. Федор Павлович точно предчувствует свою гибель оттого, что всем позволено говорить все, что им хочется. Как видим, вполне безобидная на первый взгляд формула речевого этикета в пределах композиционного строения романа играет содержательно значимую роль. Кстати, та реплика Мити в келье у старца, на которую все обратили внимание и запомнили, она ведь именно начинается с возгласа «Позвольте». И никто ему не препятствовал.
Но перейдем от слов к делам. Главная сфера действий, которая регламентируется в романе концептом позволения, связана с отношениями между мужчиной и женщиной. Митя, мы помним, не позволяет отцу касаться его отношений с Катериной Ивановной. Исповедуясь Алеше, он вспоминает: «Раз пикник всем городом был, поехали на семи тройках; в темноте, зимой, в санях, стал я жать одну соседскую девичью ручку, и принудил к поцелуям эту девочку, дочку чиновника, бедную, милую, кроткую, безответную. Позволила, многое позволила в темноте. Думала, бедняжка, что я завтра за ней приеду и предложение сделаю (меня ведь главное за жениха ценили); а я с ней после того ни слова, пять месяцев ни полслова» (14,100–101).
В другом месте, подытоживая историю с эскападой в Мокром, Митя скажет: «Ты думал достиг чего сокол-то? Даже издали не показала. Я говорю тебе: изгиб. У Грушеньки, шельмы, есть такой один изгиб тела, он и на ножке у ней отразился, даже в пальчике-мизинчике на левой ножке отозвался. Видел и целовал, но и только – клянусь! Говорит: „хочешь, выйду замуж, ведь ты нищий. Скажи, что бить не будешь и позволишь все мне делать, что я захочу, тогда может и выйду“, – смеется. И теперь смеется!» (14,109). Об этом он не только Алеше, но и всем кругом говорить будет: «Смеялись тоже у нас, в трактире особенно, над собственным откровенным и публичным тогдашним признанием Мити <…>, что от Грушеньки он за всю ту „эскападу“ только и получил, что „позволила ему свою ножку поцеловать, а более ничего не позволила“» (14,364).
Но вот совсем другой герой, битый Дмитрием Федоровичем старик Снегирев, в совсем иных обстоятельствах выражает свою почтительность больной жене: «Но теперь позвольте вас представить и моей супруге. Вот-с Арина Петровна, дама без ног-с, лет сорока трех, ноги ходят, да немножко-с. Из простых-с. Арина Петровна, разгладьте черты ваши: вот Алексей Федорович Карамазов. <…> Не тот-с Карамазов, маменька, который… гм и так далее, а брат его, блистающий смиренными добродетелями. Позвольте, Арина Петровна, позвольте, маменька, позвольте вашу ручку предварительно поцеловать» (14,183).
Лиза «позволяет» Алеше себя поцеловать.
Грушенька просится к Алеше на колени: «Нет, в самом деле, неужто позволишь мне на коленках у тебя посидеть, не осердишься?» (14,315) Она же запрещает Ракитину к себе обращаться фривольно: «Молчи, Ракитка, не понимаешь ты ничего у нас! И не смей ты мне впредь ты говорить, не хочу тебе позволять, и с чего ты такую смелость взял, вот что! Садись в угол и молчи как мой лакей» (14, 320). Позже, на суде, Ракитин ей этого не забудет: «Отвечая на известные вопросы насчет Грушеньки, он <…> позволил себе выразиться об Аграфене Александровне несколько презрительно, как о „содержанке купца Самсонова“» (15, 99-100). Калаганов же на следствии, напротив, «об Аграфене Александровне изъяснялся сдержанно и почтительно, как будто она была самого лучшего общества барыня, и даже ни разу не позволил себе назвать ее „Грушенькой“» (14,451).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































