Текст книги "Достоевский. Перепрочтение"
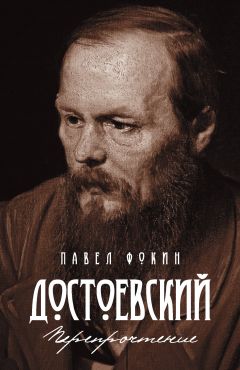
Автор книги: Павел Фокин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
Он вздрогнул. Комната была непроходная, глухая, и убежать было некуда. Он поднял еще больше свечу и вгляделся внимательно: ровно никого. Вполголоса он окликнул Кириллова, потом в другой раз громче; никто не откликнулся.
„Неужто в окно убежал?“
В самом деле, в одном окне отворена была форточка. „Нелепость, не мог он убежать через форточку“. Петр Степанович прошел через всю комнату прямо к окну: „Никак не мог“. Вдруг он быстро обернулся, и что-то необычайное сотрясло его.
У противоположной окнам стены, вправо от двери, стоял шкаф. С правой стороны этого шкафа, в углу, образованном стеною и шкафом, стоял Кириллов, и стоял ужасно странно, – неподвижно, вытянувшись, протянув руки по швам, приподняв голову и плотно прижавшись затылком к стене, в самом углу, казалось, желая весь стушеваться и спрятаться. По всем признакам, он прятался, но как-то нельзя было поверить. Петр Степанович стоял несколько наискось от угла и мог наблюдать только выдающиеся части фигуры. Он все еще не решался подвинуться влево, чтобы разглядеть всего Кириллова и понять загадку. Сердце его стало сильно биться… И вдруг им овладело совершенное бешенство: он сорвался с места, закричал и, топая ногами, яростно бросился к страшному месту» (10, 475; курсив мой. – П. Ф,).
Итак, Кириллов спрятался, хотя, по мысли Петра Степановича, «как-то нельзя было поверить». Уж очень странно он спрятался. Так не прячутся во время игры даже малые дети. Но странность эта несколько объясняется, если допустить, что Кириллов прячется не от Петра Степановича. В тот момент, когда Верховенский в первый раз открыл дверь, бесовская сила, сосредоточивавшаяся в теле Кириллова, как мы помним, рванулась ему навстречу, похоже, на то мгновение отпустив Кириллова. И несчастный самоубийца, уже осознавший, в чью власть себя предал, получивший недвусмысленный ответ на свой эксперимент, в отчаянной попытке вырваться обратно в мир человеческий забивается в угол и замирает, почти превращаясь в предмет интерьера. Отсюда и «мертвая тишина».
И в самом деле, как это не покажется удивительным, Кириллову удается на время спрятаться. Лишившаяся своего телесного воплощения злая сила, похоже, и впрямь ослепла. Но вряд ли ее можно так просто обмануть. И действительно: она вызывает себе помощника, Петра Степановича, за которого успела зацепиться. Страхом и неизбежностью заманивает она его в комнату, ведет в то самое место – к окну (и открытая форточка – несомненная приманка для логически мыслящего Верховенского), – где несколько минут назад ей уже почти удалось поселиться в теле Кириллова. В тот момент, когда Петр Степанович вступает за роковую черту, нечистая сила набрасывается на него: «что-то необычайное сотрясло его». Глазами Верховенского она отыскивает свою прежнюю жертву и устремляется к ней. «Вдруг им овладело совершенное бешенство: он сорвался с места, закричал и, топая ногами, яростно бросился к страшному месту» (10,475).
«Совершенное бешенство», то есть полное, законченное, абсолютное, – вот подлинное содержание изображаемых Достоевским событий. Этот комментарий состояния Верховенского в ситуации почти дословно повторяющей ту, что была описана в момент первой попытки Петра Степановича войти в комнату Кириллова, безусловно, характеризует и состояние Кириллова в тот момент. Сейчас они только поменялись ролями. Точнее – роль все та же, исполнители – разные.
«Но дойдя вплоть, он опять остановился как вкопанный, еще более пораженный ужасом. Его, главное, поразило то, что фигура, несмотря на крик и на бешеный наскок его, даже не двинулась, не шевельнулась ни одним своим членом – точно окаменевшая или восковая. Бледность лица ее была неестественная, черные глаза совсем неподвижны и глядели в какую-то точку в пространстве» (10,475). Куда смотрит Кириллов? Что он видит? Эту мертвенную неподвижность может породить лишь созерцание метафизических бездн. Несомненно, Кириллов видит надвигающийся на него мрак небытия и в безнадежной попытке спастись обращает свой взор к Единственному Тому, Кому это по силам.
Тут уместно вспомнить другой эпизод романа – посещение Кириллова Ставрогиным: тогда в его комнате «сиял свет», в красном углу горела лампадка. «Уж не вы ли и лампадку зажигаете?» – язвительно осведомился тогда Ставрогин. «Да, это я зажег», – признался Кириллов (10,189). Сейчас лампада потушена, но святой образ по-прежнему на своем месте. На него и устремлен взор Кириллова. Из того места, где он нашел свое убежище, именно красный угол просматривается лучше всего. Но все тщетно. Поздно. Слишком близко подступил к своей жертве дьявол. Кириллов обречен.
Свеча в руке Петра Степановича мерцает адским пламенем. Вместо лика Спасителя ему суждено созерцать лишь искривленное ужасом лицо «премудрого змия».
Следует несколько задержаться на портрете Кириллова в этой сцене. Да и не может он не привлекать внимания, слишком уж необычен как сам по себе, так и в описании Достоевского: Кириллов «стоял ужасно странно, – неподвижно, вытянувшись, протянув руки по швам, приподняв голову и плотно прижавшись затылком к стене», несмотря на крик и на бешеный наскок Верховенского, фигура «даже не двинулась, не шевельнулась ни одним своим членом – точно окаменевшая или восковая. Бледность лица ее была неестественная, черные глаза совсем неподвижны» (10,475). Странность Кириллову придает особенно голова, плотно прижатая затылком к стене. Это действительно противоестественная с точки зрения физиологии человека поза.
Однако странность ее исчезнет, если «развернуть» портрет Кириллова по горизонтали. Голова лежащего человека плотно прижата затылком к плоскости. Портрет Кириллова – это портрет лежащего человека. Точнее – мертвого, окаменевшего, с неестественной бледностью лица и неподвижными глазами. Именно так изображен мертвый Христос на картине Ганса Гольбейна. Позволю себе смелость утверждать, что это вовсе не случайное совпадение. Уязвленный гордыней Кириллов утверждал бессмысленность жертвы Христовой, противопоставляя ей подвиг собственного самопожертвования. Но никакая другая жертва не может быть соотнесена с Голгофой и прийти ей на смену. Любая попытка обречена, и каждый «новый мессия», по сути, – лишь «мертвый Христос» Гольбейна, от вида которого, «у иного вера может пропасть» (8,182), по замечанию князя Мышкина. Таков приговор Достоевского.
«Петр Степанович провел свечой сверху вниз и опять вверх, освещая со всех точек и разглядывая это лицо. Он вдруг заметил, что Кириллов хоть и смотрит куда-то пред собой, но искоса его видит и даже может быть наблюдает. Тут пришла ему мысль поднести огонь прямо к лицу „этого мерзавца“, поджечь и посмотреть, что тот сделает. Вдруг ему почудилось, что подбородок Кириллова шевельнулся и на губах как бы скользнула насмешливая улыбка – точно тот угадал его мысль. Он задрожал и, не помня себя, крепко схватил Кириллова за плечо.
Затем произошло нечто до того безобразное и быстрое, что Петр Степанович никак не мог потом уладить свои воспоминания в каком-нибудь порядке. Едва он дотронулся до Кириллова, как тот быстро нагнул голову и головой же выбил из рук его свечку; подсвечник полетел со звоном на пол, и свеча потухла. В то же мгновение он почувствовал ужасную боль в мизинце своей левой руки. Он закричал, и ему припомнилось только, что он вне себя три раза изо всей силы ударил револьвером по голове припавшего к нему и укусившего ему палец Кириллова. Наконец палец он вырвал и сломя голову бросился бежать из дому, отыскивая в темноте дорогу. Во след ему из комнаты летели страшные крики:
– Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас…
Раз десять. Но он все бежал, и уже выбежал было в сени, как вдруг послышался громкий выстрел» (10, 475–476).
Свершилось.
Петр Степанович так и остался в неведении, что же произошло на самом деле. Но в тот момент, когда он дотронулся до Кириллова, злая сила наконец опознала свою истинную жертву и в мгновение ока ворвалась в нее, и Кириллов вновь впал в «совершенное бешенство» – выбил свечку, вцепился зубами в палец и разразился диким тупым возгласом: «Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас…»
Раз десять.
Но это уже кричал не Кириллов.
Это заговорил сам дьявол, возвещая час своего торжества над душою несостоявшегося человекобога.
Обращаясь к изображению мистических сил, Достоевский избегал всякого фантазирования. Он и здесь оставался реалистом: невидимое у него невидимо, невыразимое – невыразимо. Он создает своего рода антиобразы. Потусторонние силы заявляют свое присутствие в мире Достоевского, нарушая установленную логику поведения героев, внося странность в их поступки и мысли. В момент столкновения земной реальности с потусторонними силами физические объекты претерпевают искажение и утрачивают не только свою индивидуальность, но и узнаваемость, что передается с помощью неопределенных местоимений вроде что-то, нечто, какой-то и т. п. и безличных предложений («что-то заревело и бросилось к нему», «все утихло» и др.). Достоевский представляет мистические силы как бы в отраженном свете. Даже именование представителей ирреального мира дается в косвенных формах, как, например, в данном эпизоде через междометное употребление существительного «черт» (очень распространенный в практике Достоевского прием) и прилагательного «бешеный». Эта деликатность художника позволяла ему всегда оставаться точным и правдивым, несмотря на всю невероятность и фантастичность описываемых им событий и явлений.
В своих произведениях Достоевский создал и освоил разнообразную по формам и приемам поэтику мистического. Сцена самоубийства Кириллова с этой точки зрения совершенна. Достоевский достиг в ней необычайной силы психологической убедительности, подведя читателя к самой границе мира ирреального, потустороннего.
Далее читатель волен двигаться сам. Или, смутившись, попятиться и отступить.
«Целое у меня выходит в виде героя. Так поставил ось. Я обязан поставить образ», – писал Достоевский Майкову, сообщая о ходе работы над «Идиотом» (282,241). Название романа, как, впрочем, и многочисленные записи чернового характера, ориентируют на то, что главным героем произведения является князь Лев Николаевич Мышкин. Парадокс, однако, заключается в том, что при такой очевидной композиционной и структурной декларативности (вынесение в заглавие произведения имени или наименования персонажа), роман внутри себя никак не складывается вокруг только одного героя, как, например, в «Преступлении и наказании». Да и сам Достоевский в том же письме к Майкову свидетельствовал, что у него «ДВА ГЕРОЯ!!» и «еще два характера – совершенно главных, то есть почти героев» (282, 241). Иными словами, «целое» в романе выражено не в одном герое, а в группе героев. Так, по крайней мере, виделось это Достоевскому. В состав этой группы, по мысли писателя (судя все по тому же письму к Майкову), входят Мышкин, Настасья Филипповна, Рогожин и Аглая Епанчина. Однако реально в романе единое целое составляют лишь два персонажа – Мышкин и Рогожин. В связи с чем представляется уместным, оправданным и целесообразным говорить о едином образе Мышкина-Рогожина.
В любом полноценном художественном произведении момент появления в поле зрения читателя (зрителя, слушателя) главного героя играет принципиальную роль. В романах Достоевского главный герой, как правило, обнаруживается в первом же предложении. Это касается и романа «Идиот». Мышкин и Рогожин появляются в тексте одновременно. Более того, слитно: «В одном из вагонов третьего класса, с рассвета, очутились друг против друга, у самого окна, два пассажира, – оба люди молодые, оба почти налегке, оба не щегольски одетые, оба с довольно замечательными физиономиями, и оба пожелавшие, наконец, войти друг с другом в разговор. Если б они оба знали один про другого, чем они особенно в эту минуту замечательны, то, конечно, подивились бы, что случай так странно посадил их друг против друга в третьеклассном вагоне петербургско-варшавского поезда» (8,5; курсив мой. – П. Ф.). В двух предложениях, описывающих первое появление героев в романе, Достоевский шесть раз использует собирательное местоимение оба и четырежды семантическую конструкцию друг друга (дважды «друг против друга», «друг с другом», «один про другого»), замыкающую в одно целое два различных объекта. Иными словами, двусоставный характер центрального художественного образа заявлен уже на первой странице романа.
Обозначив единство образа, Достоевский приступает к его детализации. Сложность заключается в том, что, на первый взгляд, между двумя частями образа возникают отношения контрастного типа. Сравним портреты Рогожина и Мышкина, которые писатель приводит сразу же после того, как обозначил появление своих героев в тексте:

Общему внешнему виду Рогожина, носящему ярко выраженный национальный характер, противопоставлен подчеркнуто европейский облик Мышкина (приводятся в связи с этим даже конкретные географические названия – Северная Италия, Швейцария, Эйдткунен).
В течение всей первой главы черты контраста в структуре парного образа Мышкина-Рогожина будут непрерывно накапливаться. Обозначится различие в социальном, материальном и семейном статусе героев (князь и купец, бедняк и миллионер, сирота и член семьи в составе матери и брата). Рогожин одержим любовной страстью – до лихорадки и дрожи в теле, Мышкин – по болезни своей «даже совсем женщин не знает». Завершается глава сценой на вокзале, в которой также ощущается определенная контрастность: Рогожина, несмотря на инкогнито его возвращения, тем не менее встречает целая ватага знакомых, Мышкин же остается в одиночестве в чужом городе.
Однако при более тщательном рассмотрении выясняется, что контраст не является доминантой в системе отношений между частями единого образа Мышкина-Рогожина. Он все время редуцируется, уравнивается чертами общего свойства. Оба героя примерно одинакового возраста (Рогожин – двадцати семи, Мышкин – двадцати шести или двадцати семи лет), одинаково бледны лицом (у Рогожина – «мертвая бледность» (8, 5); у Мышкина – «бесцветное» лицо (8,6)), и оба пребывают в полуболезненном состоянии (Мышкин сообщает, что едет после лечения, но его «не вылечили»; Рогожин также рассказывает, что почти месяц пробыл в горячке, да и сейчас «еще болен»; «казалось, что он до сих пор в горячке, и уж, по крайней мере, в лихорадке» (8,10), – замечает повествователь). Оба героя находятся в ситуации возвращения после продолжительной отлучки (и хотя Мышкин едет из Швейцарии, а Рогожин из Пскова, у них единый пункт прибытия – Петербург), их социальное и материальное положение выровнено путешествием в вагоне третьего класса, а вскоре выяснится, что Мышкин, как и Рогожин, тоже наследник приличного, почти миллионного состояния. Наконец, оба окажутся вовлечены в роковую страсть к Настасье Филипповне и поочередно будут сменять друг друга в роли жениха.
Таким образом, перед нами оказывается диалектически выстроенная художественная конструкция, внутри которой заложен принцип единства противоположностей. В творческой практике Достоевского такая организация системы художественных образов уже встречалась. Наиболее ярким примером может служить пара «Раскольников – Соня Мармеладова» в романе «Преступление и наказание». Однако Раскольников и Соня разведены друг относительно друга значительно сильнее, чем Мышкин и Рогожин, и представляют собой парный, но не двуединый художественный образ. Раскольников может существовать как автономный образ вне связи с образом Сони, также и Соня вполне может быть самостоятельным персонажем, организующим вокруг себя целостное сюжетно-композиционное пространство. Они и пришли из разных замыслов. Встретившись, они вступили в противоборство. В основе их отношений – противостояние. Раскольников и Соня – равносильные герои-идеологи, позиции которых носят взаимоисключающий характер. Сближение, компромисс между ними невозможны. Кто-то должен победить.
Совсем иная ситуация в «Идиоте». Мышкин и Рогожин невозможны друг без друга. Их соперничество носит мнимый характер, так как каждый из них преследует свою цель, и цели эти не перекрывают друг друга: Мышкин борется за душу Настасьи Филипповны, Рогожин жаждет завоевать ее тело. Любовь к Настасье Филипповне не разводит, а только лишь еще больше соединяет героев. Чехарда с их жениховством указывает на взаимозаменяемость героев, возможную только в ситуации абсолютной их близости и тесного родства.
С того момента, как Мышкин и Рогожин познакомились в вагоне поезда, то есть с первой страницы романа, и до трагической развязки истории, завершающейся на последней странице, они все время находятся вместе. Каждый в отсутствии другого чувствует свою ущербность, и потому, порой вопреки своей воле и собственным интересам, герои все время тянутся друг к другу. Даже тогда, когда расходятся в пространстве, они остаются в едином психологическом поле. Очевидно, что их связывает нечто большее, чем любовь к одной женщине, и эта связь возникает до знакомства Мышкина с Настасьей Филипповной, то есть до появления в романе традиционной ситуации любовного треугольника. И здесь мы подходим к главному в понимании сущности центрального художественного образа романа.
Обращает на себя внимание зеркальное расположение героев друг относительно друга практически во всех сценах с их участием. О сцене знакомства в вагоне поезда речь уже шла выше, напомним лишь, что там указание на то, что герои сидят друг против друга, дано дважды. Кроме того, зеркальность картины усилена тем, что Мышкин и Рогожин расположились возле самого окна, стекло которого в условиях рассветных сумерек также представляет собой отражающую поверхность, а плотный туман придает ей характерный серебристый оттенок.
В сцене на дне рождения у Настасьи Филипповны зеркальность не столько визуальная, сколько ситуативная: сначала Мышкин делает предложение Настасье Филипповне, а потом объявляет о своем наследстве. Присутствующий при этом Рогожин утрачивает свое положение исключительного претендента на руку Настасьи Филипповны, обретая в лице Мышкина соперника-двойника.
Во второй части романа Мышкин, вернувшись из Москвы, трижды в течение дня сталкивается с горящим взглядом Рогожина. Такое возможно только при прямом взгляде глаза в глаза, как в зеркало.
Мышкин идет к Рогожину. Прежде чем войти в дом к Рогожину, Мышкин некоторое время стоит перед стеклянной дверью, за которой расположен темный коридор. Он без сомнения видит в этот момент свое отражение, которое смотрит на него с противоположной стороны, изнутри дома Рогожина.
Поднявшись по лестнице, Мышкин постучал в одну из дверей: «Дверь отворил сам Парфен Семенович» (8,170). Зеркальность этого эпизода очевидна.
Далее, во время их беседы Парфен вдруг спрашивает: «А помнишь, как мы в вагоне, по осени, из Пскова ехали, я сюда, а ты…» (8,171–172) После довольно примечательного, с нашей точки зрения, монолога-признания, в котором, в частности, звучат такие обороты, как «Я ее собственные слова тебе повторяю», «Говорю тебе истинную правду» (как зеркало), «Своих мыслей об этом я от тебя никогда не скрывал» (8,173; курсив мой. – П. Ф.), Мышкин собирается уходить. Рогожин останавливает его словами, декларирующими принципиальную значимость зеркального расположения героев: «Посиди со мной <…> Я, как тебя нет предо мною, то тотчас же к тебе злобу и чувствую, Лев Николаевич. В эти три месяца, что я тебя не видал, каждую минуту на тебя злобился, ей-богу. Так бы тебя взял и отравил чем-нибудь! Вот как. Теперь ты четверти часа со мной не сидишь, а уж вся злоба моя проходит, и ты мне опять по-прежнему люб. Посиди со мной…» (8, 174) Князь садится. Встреча заканчивается обменом крестами, во время которого герои находятся друг против друга.
Через некоторое время после ухода от Рогожина Мышкин оказывается перед витриной магазина и вновь встречается взглядом с Рогожиным. Заметим, что витрина обладает свойством отражать, и, возможно, Мышкин увидел именно отраженный взгляд Рогожина. Кроме того, Мышкин глядит на нож и приценивается к нему, точно собираясь его купить, то есть буквально повторить покупку Рогожина.
Зеркальность сцены покушения Рогожина на жизнь Мышкина в гостинице самоочевидна. И так далее.
Мышкин и Рогожин всегда находятся лицом друг к другу.
Таким образом, в основе структуры двуединого образа Мышкина-Рогожина лежит принцип отражения, принцип зеркала. Зеркальность, отделяя героев друг от друга, тем не менее не разъединяет их, более того – связывает. Ведь в зеркале человек видит самого себя. Контраст, противопоставление и противостояние – побочные проявления этого главного типа отношений.
С темой зеркала в творчестве Достоевского связана идея двойника, двойничества. Писатель считал, что, по глубине и значимости, это одна из главных идей его творчества. С течением времени эта идея художественно и содержательно развивалась и углублялась. В «Двойнике» она еще носила несколько прямолинейный по своему художественному воплощению характер. Буквальная трактовка темы двойничества была данью романтической традиции с ее психологической условностью и символизмом. В этой ранней повести Достоевского – двойник представлен в образе самозванца, природа происхождения которого носит фантастический, инфернальный характер. Его связь с личностью Голядкина-старшего минимальна. Голядкин-младший узурпирует лишь внешний облик, наполняя его собственной индивидуальностью. Как нос майора Ковалева, Голядкин-младший существует на правах самостоятельного действующего лица.
В произведениях зрелого Достоевского тема двойничества переосмыслена психологически. Так, в «Преступлении и наказании» все окружающие главного героя персонажи в той или иной степени выполняют роль его психологических двойников. При этом каждый из них являет собой лишь одну грань личности Раскольникова, которая таким образом почти в буквальном смысле слова расколота на десятки составляющих. Столь необычный, новаторский сюжетно-композиционный прием позволил Достоевскому художественно выразительно прокомментировать сложную, внутренне противоречивую личность главного героя. Особенно занимает Достоевского возможность сосуществования в человеке добра и зла, света и тьмы, праведности и греха. Соня и Свидригайлов – два полюса личности Раскольникова – в сцене признания героя в совершенном им преступлении, кульминационной по своей сути, оказываются за одним столом. Да, они разъединены между собой перегородкой, но не глухой стеной, а – дверью, которая в любой момент может быть открыта. «Диалектика души» в «Преступлении и наказании» исследована писателем с исключительной тщательностью и воплощена в незабываемых сценах и картинах.
Принимаясь за работу над романом «Идиот», Достоевский поставил перед собой совершенно иную, в чем-то даже противоположную по своей цели задачу. Ему хотелось, как мы знаем, вывести идеального героя, «изобразить положительно прекрасного человека» (282, 251). Иными словами, представить некую заданную, условную, отчасти символическую фигуру. В «Идиоте» Достоевский хотел исследовать замысел Божий о человеке, тот идеальный образ, который лежит в основе человеческой природы.
На стадии черновиков писатель сформулировал для себя определенную антропологическую концепцию, которую и подверг испытанию в условиях конкретно-исторической действительности. «Вековечным от века» идеалом Достоевский считал Христа, поэтому, моделируя образ своего героя, он обратился к фигуре Спасителя. Избегая прямого следования евангельскому сюжету, Достоевский, тем не менее, мыслит своего героя как христоподобного, называя его «князь Христос». Эта заданность предопределила появление в романе героя-антипода, который, точно злой демон, должен был сопутствовать, преследовать и искушать христоподобного героя, как искушал Христа в пустыне Злой Дух. Этот евангельский эпизод, как мы знаем, занимал принципиальное место в мировоззренческой системе Достоевского. «Положительно прекрасный человек» не мог явиться в романе без своего темного двойника. Центральный образ романа об идеальном герое по определению должен был быть двуединым. Так, вместе с Мышкиным возник Рогожин.
Однако по мере написания романа происходят важные содержательные изменения. Обращаясь к жанру романа символического типа, Достоевский в художественном плане остается в рамках реалистического метода. Рогожин оказывается слишком человечным, чтобы сыграть роль антипода христоподобного героя. Ему не хватает демонизма, той лютой злобы к людям и Богу, которой наделен сатана. Да и Мышкин по ходу романа все более и более оживает, становится человечнее, а вместе с тем сложнее и противоречивее. Динамика развития образа князя Мышкина от начала романа к его финалу – это процесс очеловечивания, психологизации и социализации героя. Когда персонаж полностью утрачивает свою христоподобную сущность, роман из мистерии переходит в план трагедии, и происходит это в тот момент, когда писатель (в третьей части романа) резко снижает роль Рогожина в общей интриге, выводя его на периферию повествования. Без своего антипода христоподобный герой стремительно утрачивает свой метафизический масштаб, и возвращение (в четвертой части) на сцену Рогожина уже не может повлиять на общую ситуацию. Символический дуализм изначального романного образа смещается и вытесняется мелодраматической структурой любовного треугольника. Тем не менее роман не утрачивает окончательно своего метафорического содержания, полного перерождения в социально-психологическую драму не происходит. Финал романа получает трагическую окраску. Это становится возможным именно благодаря сохранению в структуре романа метафизической составляющей, которая заключена в двуедином характере центрального образа.
В четвертой части, после возвращения Рогожина в активное повествовательное пространство, происходит восстановление центрального образа романа, но уже в ином объеме и с иным содержанием. Рогожин более не антипод Мышкина. Рогожин и есть сам Мышкин, его alter ego.
В финале романа Достоевский вновь акцентирует метафору зеркального отражения, когда Рогожин и Мышкин идут параллельно друг другу по противоположным тротуарам улицы к дому, где лежит мертвая Настасья Филипповна, вместе входят в дом и оказываются бок о бок, друг против друга, лицом к лицу возле смертного ложа. Зеркало означает единство противоположностей, мнимую двойственность одного. И слезы Мышкина текут на щеки Рогожина.
Роман о христоподобном герое, «положительно прекрасном человеке» не состоялся, и в этом смысле правы современные ниспровергатели «князя Христа». Действительно, милому, доброму и невинному Мышкину не удается стать провозвестником абсолютной истины. Но творческий результат, которого достиг Достоевский своим романом, значительно превзошел все его намерения. Он действительно смог приблизиться к тайне человека, продвинуться на несколько шагов вперед в своем понимании человека и Бога. Через несколько лет в романе «Братья Карамазовы» Митя Карамазов, вглядываясь в зеркало лица своего младшего брата Алеши, произнесет свой знаменитый монолог о красоте, главной темой которого станет утверждение – «противоречия вместе живут». Но эта истина впервые открылась Достоевскому во всей своей неизбежности именно в романе «Идиот».
В мире отражений и двойников, созвучий и перекличек, в котором живут герои и читатели романов Достоевского, нет случайных совпадений, даже если это совпадения в судьбах таких, на первый взгляд, непохожих между собой персонажей, как Ставрогин и Смердяков.
Действительно, внешне они разительно отличаются друг от друга. В свои двадцать девять лет Ставрогин, по наблюдению Хроникера, «был все тот же, как и четыре года назад <…>, даже почти так же молод» (10,145). Смердяков, напротив того, уже в двадцать четыре года «как-то необычайно постарел, совсем даже несоразмерно с возрастом сморщился, пожелтел, стал походить на скопца» (14,115). У Ставрогина же, как вспоминает Хроникер, в двадцать пять лет «волосы <…> были что-то уж очень черны, <…> цвет лица что-то уж очень нежен и бел, румянец что-то уж слишком ярок и чист, зубы как жемчужины, губ как коралловые» (10, 37). А четыре года спустя он стал еще более привлекательным: «прежде хоть и считали красавцем, но лицо его действительно „походило на маску“ <…>. – признается Хроникер. – Теперь же, – теперь же, не знаю почему, он с первого же взгляда показался мне решительным, неоспоримым красавцем, так что уже никак нельзя было сказать, что лицо его походит на маску» (10,145). Кроме того, говорили о «чрезвычайной телесной силе» Ставрогина (10,37), Смердяков же, как известно, страдал падучей.
Сравнение Смердякова со скопцом, определение «скопческий» столь часто и постоянно используются Достоевским, что в конце концов возникает подозрение, уж не был ли Смердяков скопцом на самом деле. Во всяком случае, «женский пол он, кажется, так же презирал, как и мужской, держал себя с ним степенно, почти недоступно» (14,116). Федор Павлович предлагал ему было жениться, «но Смердяков на эти речи только бледнел от досады, но ничего не отвечал» (14,116). Сексуальные похождения и эксперименты Ставрогина стали легендой. В этой области он вполне под стать великому сладострастнику Федору Павловичу, только что без его жара и безумств.
«Николай Всеволодович принадлежал к тем натурам, которые страха не ведают. На дуэли он мог стоять под выстрелом противника хладнокровно, сам целить и убивать до зверства спокойно» (10,164). Ставрогин дважды дрался на дуэли. Служил в армии: в кавалерии и в пехоте. «В шестьдесят третьем году ему как-то удалось отличиться: ему дали крестик и произвели в унтер-офицеры, а затем как-то уж скоро и в офицеры» (10,36). Скитания по притонам петербургских трущоб тоже требуют известного характера. О трусости же Смердякова в «Братьях Карамазовых» говорится почти так же часто, как и о его «скопчестве». Сам Смердяков неоднократно признается в слабости духа. В примечательном разговоре с соседской девушкой Марьей Кондратьевной среди других тем, между прочим, возникают и темы воинской службы и дуэлей. Марья Кондратьевна мечтает видеть своего кавалера героем: «Когда бы вы были военным юнкерочком али гусариком молоденьким, вы бы не так говорили, а саблю бы вынули и всю Россию стали бы защищать». Ответ Смердякова малоутешителен для нее: «Я не только не желаю быть военным гусаром, Марья Кондратьевна, но желаю, напротив, уничтожения всех солдат-с» (14, 205). Девушка, однако же, не сдается: «На дуэли очень, я думаю, хорошо», – замечает она через некоторое время. «Чем же это-с?» – уточняет Смердяков. «Страшно так и храбро, особенно коли молодые офицерики с пистолетами в руках один против другого палят за которую-нибудь», – поясняет девушка (14, 205), и в ответ слышит:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































