Текст книги "Достоевский. Перепрочтение"
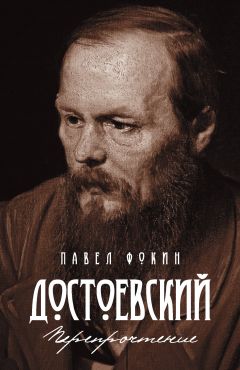
Автор книги: Павел Фокин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
Но как ни велико участие Ивана и Алеши в создании поэмы, их основная роль в этом процессе – быть проводниками тех духовных энергий, которые пронизывают дела и мысли человеческие от самого начала земной истории. Как писал В. В. Розанов, «лица перемешиваются перед нами, сквозя одно из-за другого, мы забываем говорящее лицо за Инквизитором, мы видим даже и не Инквизитора, перед нами стоит Злой Дух, с колеблющимся и туманным образом»[39]39
Розанов В. В. Легенда о Великом инквизиторе // Розанов В. В. Мысли о литературе. М.: Современник, 1989. С. 135.
[Закрыть]. Но и не только. За лицом слушающего мы видим даже и не пленника, а Лик Самого Спасителя, внимающего искусительным словам Злого Духа. Поистине здесь не просто «оригинальные русские мальчики» (14, 213) сошлись, чтобы о «вековечных вопросах» говорить, здесь происходит та самая битва, о которой толковал Митя, – здесь «дьявол с Богом борется и поле битвы сердца людей», сердца Ивана и Алеши. Сердце Достоевского. Поэма в пространстве своего метафизического бытия – за пределами скотопригоньевского трактира, вне контекста «Братьев Карамазовых», над «горнилом сомнений» великого русского писателя – в той действительности, где нет ни времени, ни пространства, – есть еще одна попытка, еще одно испытание, еще одно – четвертое? – искушение Христа. Искушение свободой, данной Христом человечеству в Евангельские дни. В делах, словах и помыслах великого инквизитора, порожденных «безбрежной фантазией» Ивана, этого исчадия гения Достоевского, Злой Дух демонстрирует Спасителю тот размах духовного беспредела, которого достигло за девятнадцать веков человечество, осмеливающееся в его «фантастическом» лице повторить – и на этот раз уже сознательно – казнь Сына Божьего. И, испытуя Христа, Злой Дух ждет от Него Слова, Которое положит всему конец. Он жаждет этого Слова, он его провоцирует всеми возможными способами, ибо знает, что это Слово положит конец не только беспределу, но и Царству Христа, ибо это Слово будет означать конец свободы веры человека. Стоит пленнику возразить инквизитору хоть однажды, как тут же инквизитор потеряет свою свободу, которую, несмотря на то что он пошел вслед за «страшным и умным духом, духом самоуничтожения и небытия», он все еще сохраняет, о чем свидетельствует открытый финал поэмы. В молчании Пленника – свобода и спасение инквизитора.
Иван обманывает сам себя, говоря, что «старик остается в прежней идее». Ничего подобного. «Прежняя идея» старика в самом кратком ее выражении звучала как приговор Пленнику: «Завтра сожгу Тебя» (14,237). Но: «Пленник уходит» (14, 239). И выпустил Его сам инквизитор. По собственной воле. Значит, в нем зародилась уже иная идея, и не только зародилась, но и осуществилась.
Иван лучше других это видит, и стоящий за ним Злой Дух понимает, что вновь посрамлен, что Воля Господня непоколебима и Любовь Его к роду человеческому, в обличий Христа явленная, сильнее любых людских прегрешений.
Сильнее бунта.
Жарче «горнила сомнений».
Поистине, «Великий инквизитор» – произведение, дающее нам основание называть Достоевского именем пророка.
«Поэма готова и создалась прежде всего, как и всегда должно быть у романиста» (22,7), – писал в январском «Дневнике писателя» за 1876 год Достоевский. Слова эти, сказанные в контексте сообщения о подготовке к работе над романом «о русских теперешних детях, ну и конечно и теперешних их отцах, в теперешнем взаимном их соотношении» (22, 7), несомненно относятся к тому грандиозному замыслу, который лишь частично был воплощен в «Братьях Карамазовых». Частично уже хотя бы потому, что сам писатель планировал продолжение, а в предисловии к роману вполне однозначно объявил: «жизнеописание-то у меня одно, а романов два. Главный роман второй – это деятельность моего героя уже в наше время, именно в наш теперешний текущий момент» (14, 6). Если учесть, что еще в апреле 1876 года Достоевский видел задачу «Дневника писателя» помимо прочего еще и в том, чтобы, «готовясь написать один очень большой роман, <…> погрузиться специально в изучение <…> подробностей текущего» (292, 78), то следует признать, что в январе 1876 года речь шла о «поэме», лежащей в основе второго, «главного» романа. Первый же роман возник, очевидно, в ходе разработки «поэмы», ибо, как признавался в предисловии Достоевский, «обойтись мне без этого первого романа невозможно, потому что многое во втором романе стало бы непонятным» (14,6).
При интерпретации содержания и проблематики «Братьев Карамазовых» важно постоянно помнить о том, что «поэма готова и создалась прежде всего», и первый роман предназначен прояснить суть второго. Иными словами, важно учитывать, что все, о чем повествуется в «Братьях Карамазовых», написано автором, знающим, что произойдет, а точнее, что произошло с главным героем и, возможно, его братьями во втором романе. Ремарки повествователя, напоминающие читателю об этом, систематически встречаются в тексте «Братьев Карамазовых», в наиболее принципиальных местах они даже выделены курсивом.
«Первый же роман произошел еще тринадцать лет назад и есть почти даже и не роман, а лишь один момент из первой юности моего героя» (14,6), – сообщает в предисловии «От автора» повествователь. Интересное замечание, особенно о том, что это «почти даже и не роман». Так сказать о произведении, которое уже в самом начале планировалось в объеме, превышавшем все, до того написанное Достоевским, а в итоге далеко превысившее и сами эти планы, можно было лишь с намерением обратить на это высказывание особое внимание читателя. И, как представляется, это ключевая фраза предисловия, в том смысле, что в ней предложен ключ к интерпретации и пониманию всех последующих событий романа.
Здесь еще раз и уже окончательно, не декларативно, а в действии, определена система художественных координат романа и дана точка отсчета: «Братья Карамазовы» – первый роман из «жизнеописания» Алексея Федоровича Карамазова, и с этой точки зрения «Братья Карамазовы» действительно «почти даже и не роман». Роль Алеши Карамазова именно как романного героя в этой части жизнеописания на самом деле не очень велика, что, впрочем, не умаляет значимости и «масштабности», по выражению Романо Гвардини[40]40
Гвардини Р. Человек и вера. Брюссель: Жизнь с Богом, 1994. С. 97.
[Закрыть], его личности и образа. В критике можно даже встретить упреки в адрес Достоевского по поводу того, как представлен в романе главный герой. Так, К. В. Мочульский писал: «Младший из братьев Карамазовых, Алеша, обрисован бледнее других. Его личная тема заглушается страстным пафосом Дмитрия и идейной диалектикой Ивана. Подобно своему духовному предшественнику князю Мышкину, Алеша сочувствует и со-переживает с другими, но действие романа им не определяется и „идея“ его только намечена»[41]41
Мочульский К. В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М.: Республика, 1996. С. 536.
[Закрыть].
Оставаясь в пределах заданной автором системы художественных координат, неизбежно задаешься вопросом, о каком же «моменте из первой юности» героя идет речь? Есть ли это трагическая гибель его отца, или, может быть, пребывание Алеши в монастыре и общение, а потом расставание со старцем Зосимой? Или встреча с братьями? Подсказка писателя, как мне кажется, все в той же ключевой фразе предисловия, именно в той ее части, в которой задается хронология событий: «тринадцать лет назад». Поскольку все действие романа привязано к жизнеописанию Алексея Федоровича, то и эти тринадцать лет связаны, таким образом, с биографией главного героя. А первое, что сообщает Достоевский о своем герое (это первое предложение персональной главы «Третий сын Алеша»): «Было ему тогда всего двадцать лет» (14,17). «Тогда» – это тринадцать лет назад. Арифметика предельно простая: во втором романе Алеше должно исполниться тридцать три года, иными словами, «Братья Карамазовы» написаны о «первой юности» героя, который главные подвиги совершит, достигнув возраста Христа.
То, что Алеша – герой христоподобный, не вызывало сомнений уже и у первых читателей романа. Тенденция Достоевского несомненна. С особой тщательностью и символизмом она представлена в финальной сцене романа. Очевидно, что жизнеописание христоподобного героя должно так или иначе соотноситься с жизненным путем Христа, быть, если можно так сказать евангелиеподобным. Тогда и ответ на вопрос, о каком «моменте из первой юности» христоподобного героя идет речь в романе, нужно искать в Евангелии, среди тех, которые условно можно отнести к событиям «из первой юности» Христа. И еще конкретнее, к событиям, произошедшим до призвания учеников, ибо именно этой сюжетной аллюзией заканчивается роман Достоевского. Таких событий совсем немного, и первое из них после Крещения – это уход в пустыню, искушение дьяволом и преодоление искушения. Вынесение этого евангельского эпизода в интеллектуальный центр романа в главе «Великий инквизитор» позволяет с уверенностью говорить, что главное событие романа следует обозначить как искушение Алеши. В пользу этого говорит и тот факт, что в самом начале романа мы находим главного героя в стенах монастыря, или, как еще было принято говорить, в пустыни, а затем, после испытаний, герой вновь возвращается в мир. Примечательно, что именно эта тема – искушение веры – акцентируется, по наблюдению В. Е. Ветловской, и другой христианской параллелью, которая последовательно проводится в романе, – Житием Алексея человека Божия[42]42
Ветловская В. Е. Литературные и фольклорные источники «Братьев Карамазовых» (Житие Алексея человека Божия и духовный стих о нем) // Достоевский и русские писатели. М.: Сов. писатель, 1971. С. 325–354.
[Закрыть].
Стремясь добиться максимальной ясности, Достоевский включает в состав своего произведения развернутое толкование евангельского эпизода. В своей удивительной поэме интеллектуал Иван Карамазов символические образы Нового Завета переводит на современный язык: три искушения Христа – это, по его пониманию и пониманию самого Достоевского, искушение чудом, тайной и авторитетом. Поэма Ивана, рассказанная им Алеше, предсказывает Алеше его путь, просвечивает читателю главную коллизию «первого» романа. Искушение чудом, тайной и авторитетом предстоит пройти и Алексею Федоровичу Карамазову. Собственно, этому и посвящена седьмая книга романа «Алеша».
Глава «Тлетворный дух», которой открывается седьмая книга романа, могла бы с полным основанием называться «Соблазн». Словом «соблазн» характеризует атмосферу дня после кончины старца Зосимы повествователь. «Давно уже не бывало и даже припомнить невозможно было из всей прошлой жизни монастыря нашего такого соблазна, грубо разнузданного, а в другом каком случае даже и невозможного, какой обнаружился тотчас же вслед за сим событием между самими даже иноками, – сокрушается он. – Потом уже, и после многих даже лет, иные разумные иноки наши, припоминая весь тот день в подробности, удивлялись и ужасались тому, каким это образом соблазн мог достигнуть тогда такой степени» (14, 298). Немудрено, что поддался соблазну и Алеша, тем более что искуситель подступил к нему еще до известия о «тлетворном духе».
Смерть старца подействовала на юного героя необычайно. В одночасье чистое сердце его омрачилось. Наутро после кончины старца Зосимы отец Паисий застает Алешу в «безгласном», но «горьком» и продолжительном рыдании, с «распухшим от слез, как у малого ребенка» лицом. Монах утешительно обнадеживает юношу: «Полно, сыне милый, полно, друг, <…> чего ты? Радуйся, а не плачь. Или не знаешь, что сей день есть величайший из дней его? Где он теперь, в минуту сию, вспомни-ка лишь о том!» (14,298) Но Алеша, «ни слова не вымолвив, отвернулся и снова закрылся обеими ладонями» (14, 297). Отец Паисий прощает ему эти слезы: «Христос тебе эти слезы послал», – говорит он, а про себя решает: «Умилительные слезы твои лишь отдых душевный и к веселию сердца твоего милого послужат» (14, 297). Но не все так просто, и утешительная мудрость отца Паисия всего лишь самообман. Слезы Алеши – свидетельство глубокого отчаяния и разочарования в тайне смерти. В этот момент старец умер для него совсем, и Алеша действительно не помнит, «где он теперь». Алеша усомнился в тайне смерти, но тем самым признал необходимость самого принципа тайны.
Известие о «тлетворном духе» толкает Алешу на еще более дерзкий шаг. Он покидает скит почти в гневе и чуть ли не с презрением. Встретивший его в этот момент простодушный отец Паисий, воплощенный авторитет покойного старца Зосимы, трижды безответно вопрошает юношу. Стремясь удержать его от роковых шагов, отец Паисий апеллирует к тем ценностям, которые проповедовал, в частности, и старец Зосима: «Куда же поспешаешь? К службе благовестят <…> Али из скита уходишь? Как же не спросясь-то, не благословясь?» (14,305) Но «Алеша вдруг криво усмехнулся, странно, очень странно вскинул на вопрошавшего отца свои очи, на того, кому вверил его, умирая, бывший руководитель его, бывший владыка сердца и ума его, возлюбленный старец его, и вдруг, все по-прежнему без ответа, махнул рукой, как бы не заботясь даже и о почтительности, и быстрыми шагами пошел к выходным воротам вон из скита» (14,305). Сколько драматизма и безысходности во всех этих жестах Алеши и сколько нигилизма в отношении к авторитету своего «бывшего учителя». Но разочарование Алеши в авторитете старца Зосимы есть, по сути, признание авторитета как принципа. Алеша совсем забыл в этот момент, что «покойный старец <…> привлек к себе многих <…> не столько чудесами, сколько любовью» (14,299). В этот момент образ любящего старца затмился в сердце Алеши из-за того, что он соблазнился ожиданием чуда. «Если же спросят прямо, – свидетельствует повествователь, – „Неужели же вся эта тоска и такая тревога могла в нем произойти лишь потому, что тело его старца, вместо того, чтобы немедленно начать производить исцеления, подверглось, напротив того, раннему тлению“, то отвечу на это не обинуясь: „Да, действительно было так“» (14, 305). Ожидая и не дождавшись чуда, Алеша поклонился и чуду как принципу.
Итак, сам того не осознавая и, конечно же, не желая, Алеша вступил на путь великого инквизитора, который поклонился тайне, чуду и авторитету, противопоставив их силе любви Христовой. И, поклонившись вместе с героем Ивановой поэмы этим трем дьяволовым искушениям, осмелился Алеша повторить вслед за Иваном: «Я против Бога моего не бунтуюсь, я только „мира Его не принимаю“» (14, 308). Замечательно, что эта реплика в разговоре с Ракитиным сопровождается той же гримасой, что и на выходе из скита: Алеша вновь вдруг «криво усмехнулся» (14,308). Следует полагать, что именно это означала и та давешняя усмешка. Только не осмелился тогда еще сказать эти богохульные слова Алеша в глаза отцу Паисию. Но не удержался при Ракитине. Соблазнил-таки Алешу брат Иван.
«Такая минутка» была.
Но та «минутка» была и последней в падении Алеши, и проморгал ее мелкий бес Ракитин. А ведь как старался, как хлопотал! «Тлетворный дух» уже почти коснулся души Алеши, и, может быть, не соблазнись дьявол атаковать Алешу откровенно и в лоб, не призови он в подручные суетливого и глупого Ракитина, его искусительные чары возымели бы результат. Но тут-то и произошло настоящее чудо. В ответ на богоборческие слова Ракитин восклицает: «Что за белиберда?» (14, 308) – и, не поняв, что произошло, продолжает: «Ну довольно о пустяках, теперь к делу: ел ты сегодня?» (14, 309) Что за дело для Ракитина, ел ли Алеша или нет? Но в контексте евангельского сюжета – это как раз первое дело для искусителя. Как сказано, Иисус, «постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сделались хлебами» (Мф 4: 2–3). Ракитин предлагает колбасу и, как бы спохватившись, замечает: «только ведь ты колбасы не станешь» (14, 309). А когда Алеша соглашается, Ракитин с той же оговоркой предлагает Алеше водки: «Водки-то небось не решишься… Аль выпьешь?» (14, 309). Все завершается приглашением посетить Грушеньку, которое Алеша также принимает. Ракитин ошеломлен, с какой легкостью он добился своего, но Алешей уже больше не руководит отчаяние и боль: поэма Ивана горит в его голове, томит его сердце. За мгновение до появления на сцене Ракитина повествователь специально напоминает: «Не захочу, однако же, умолчать при сем случае и о некотором странном явлении, хотя и мгновенно, но все же обнаружившемся в эту роковую и сбивчивую для Алеши минуту в уме его. Это новое объявившееся и мелькнувшее нетто состояло в некотором мучительном впечатлении от неустанно припоминавшегося теперь Алешей вчерашнего его разговора с братом Иваном» (14,307).
Ракитин – слепая игрушка в руках искусителя, он видит только внешнюю сторону событий, только то, что видят его глаза: рощу, тропинку, лежащего на животе Алешу. Ракитин рационален и реалистичен. Совсем иными, мистическими настроениями переполнен Алеша: Злой Дух, великий инквизитор, брат Иван и побеждающий всех их Христос стоят перед его духовными очами, и, проговорив Ракитину кощунственные слова брата Ивана, он отрезвляется. Он со всей отчетливостью осознает, кто явился перед ним в лице незадачливого семинариста-нигилиста, и обретает силу для духовного противоборства.
Не плоть, а дух Алеши искушает Ракитин, когда предлагает ему колбасу и водку. Соглашаясь, Алеша преодолевает искушение духа – искушение авторитетом. Вспомним, как на первую раздраженную реплику Алеши Ракитин замечает: «Совсем как и прочие смертные стали покрикивать. Это из ангелов-то! Ну, Алешка, удивил ты меня, знаешь ты это, искренне говорю. Давно и ничему здесь не удивляюсь. Ведь я все же тебя за образованного человека почитал…» (14, 308) Если бы в ответ на это замечание Алеша попытался бы вновь вернуться к облику «ангела» и «образованного человека», тут бы он и попался на уловку Злого Духа. Но Алеша, напротив, стал энергично разрушать этот свой образ, обыграв соблазнителя его же фигурами. Кстати, ни колбасы, ни водки, ни страстных женских ласканий Алеша не вкусил, лишь пригубил чуть-чуть шампанского у Грушеньки, ровно один глоток, и, смутясь, отставил бокал. Грушенька же и сама соскочила с колен его, как скоро прознала про смерть старца Зосимы. «Совсем не того ждал» Ракитин, «когда сводил Грушеньку с Алешей; совсем иное случилось, а не то, чего бы ему хотелось» (14,324), – констатирует в итоге повествователь.
Искушение чудом проходит Алеша в главе «Луковка». Именно так комментирует события непременный их свидетель Ракитин: «Что ж, обратил грешницу? – злобно засмеялся он Алеше. – Блудницу на путь истины обратил? Семь бесов изгнал, а? Вот они где, наши чудеса-то давешние, ожидаемые, совершились» (14, 324). Ракитин, как некоторое время до того пытался заставить Алешу признать в себе «ангела», пытается подтолкнуть его этими словами признать свою способность творить чудеса. Но Алеша уже преодолел «такую минутку», и теперь с каждым часом становится все сильнее: «Перестань, Ракитин, – со страданием в душе отозвался Алеша» (14,324). Это «Перестань, Ракитин», как евангельское «Изыди, Сатана». И действительно, Ракитин после этих слов отступается: «Да черт вас дери всех и каждого! – завопил он вдруг, – и зачем я, черт, с тобою связался! (потрясающая речевая проговорка. – П. Ф.). Знать я тебя не хочу больше отселева. Пошел один, вот твоя дорога!
И он круто повернул в другую улицу, оставив Алешу одного во мраке. Алеша вышел из города и пошел полем к монастырю» (14, 325).
Расставание Ракитина и Алеши почти буквальная ситуативная цитата финала поэмы Ивана: после Христова поцелуя «старик вздрагивает. Что-то шевельнулось в концах губ его; он идет к двери, отворяет ее и говорит Ему: „Ступай и не приходи более… не приходи вовсе… никогда, никогда!“ И выпускает Его на „темные стогны града“. Пленник уходит» (14,239).
Кстати, тема поцелуя, только иного, не Христова, а Иудиного, звучит и в сцене расставания Ракитина и Алеши. После реплики Алеши «Перестань, Ракитин» тот взрывается: «Это ты теперь за двадцать пять рублей меня давешних „презираешь“? Продал, дескать, истинного друга. Да ведь ты не Христос, а я не Иуда», и ответ Алеши, как тот самый поцелуй Христа в поэме Ивана: «Ах, Ракитин, уверяю тебя, я и забыл об этом, <…> сам ты сейчас напомнил» (14, 325). «Забыл», то есть простил. И хотя Ракитин прямо формулирует: «ты не Христос», Достоевский, сюжетно цитируя далее поэму Ивана, предлагает читателю усомниться в правоте Ракитина. Да и какая может быть вера его словам, тем более что и утверждение Ракитина «я не Иуда» вполне опровергается фактами.
Последнее искушение – тайной – ждет Алешу в главе «Кана Галилейская». С новыми силами, но еще не до конца осознав, какую битву он выстоял, Алеша возвращается в монастырь ко гробу старца Зосимы. «Душа его была переполнена, но как-то смутно, и ни одно ощущение не выделялось, слишком сказываясь, напротив, одно вытесняло другое в каком-то тихом, ровном коловращении. Но сердцу было сладко, и, странно, Алеша не удивлялся тому. Опять он видел перед собой этот гроб, этого закрытого кругом драгоценного ему мертвеца, но плачущей, ноющей, мучительной жалости не было в душе его, как давеча утром <…> Мысль о тлетворном духе, казавшаяся ему еще только давеча столь ужасною и бесславною, не подняла теперь в нем давешней тоски и давешнего негодования» (14, 325). Алеша стоит на пороге миров иных, и он уже недоступен суете и соблазну.
Евангельские события входят в жизнь Алеши уже не смутными ассоциациями и воспоминаниями, а непосредственно через текст Святого Писания, звучащий ровным, тихим голосом отца Паисия. Постепенно погружаясь в состояние мистического откровения, Алеша и сам переносится в Кану Галилейскую. Но это совсем не та Кана, о которой читает отец Паисий, двухтысячелетней давности, затерянная в долинах Ближнего Востока. Это – вечная Кана, вне времени и пространства. Она всегда есть, и потому она всегда здесь и сейчас. И потому возможно, что за праздничным столом вместе со всеми сидит и старец Зосима, вчера только еще проповедовавший в своей келье. И вечный Гость здесь: «Страшен величием перед нами, ужасен высотою своею, но милостив бесконечно, нам из любви уподобился и веселится с нами, воду в вино превращает, чтобы не пресеклась радость гостей, новых гостей ждет, новых беспрерывно зовет и уже на веки веков» (14, 327).
Сила любви и вера позволяют Алеше в мистическом прозрении проникнуть под покров тайны, и с этого момента для Алеши больше нет тайны и нет искушения. Алеша прошел через все испытания. Поначалу, как человек, как Карамазов, он дрогнул и поддался на мгновение искушению, но только так, уверен Достоевский, поддавшись и дрогнув, может человек понять и осознать, что с ним происходит, и только после этого либо вновь подняться, либо пасть окончательно. Алексей Карамазов поднялся и вступил в бой с искусителем, и победил, и был призван вместе со старцем на вечный брак в Кане Галилейской, и узрел Христа. И потому с такой убежденностью и силой звучат знаменитые слова повествователя в конце главы, завершающей книгу, посвященную Алеше: «С каждым мгновением он чувствовал явно и как бы осязательно, как что-то твердое и незыблемое, как этот свод небесный, сходило в душу его. Какая-то как бы идея воцарялась в уме его – и уже на всю жизнь и на веки веков. Пал он на землю слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом и сознал и почувствовал это вдруг, в ту же минуту своего восторга. И никогда, никогда не мог забыть Алеша во всю жизнь этой минуты. „Кто-то посетил мою душу в тот час“, – говорил он потом с твердою верой в слова свои…» (14,328)
Эти слова повествователя вновь возвращают нас ко второму, «главному» роману. «На всю жизнь и во веки веков» – это в контексте главы не просто устойчивые словосочетания, а вполне конкретные сроки – на всю земную и после, вечную, загробную жизнь. В свете этих слов и описанных событий никакое «политическое преступление», никакой «эшафот» попросту невозможны. По всей видимости, жизнеописание Алексея Федоровича Карамазова должно было стать евангелием русского Христа, о пришествии которого так мечтал писатель и к образу которого неоднократно подступал в своих произведениях. Пришествие русского Христа не состоялось. Достоевский умер, недовоплотив свой замысел. Сам этот факт достаточно символичен. Не пришли еще сроки. Но сама мечта, само ожидание русского Христа – прекрасны, и, быть может, эта мечта, это ожидание – главное создание Достоевского, дающее всем нам силу и надежду.
Среди персонажей «Братьев Карамазовых» личность Павла Григорьевича Смердякова в равной степени отвратительна и притягательна для читателей. О причинах отвращения, вызываемого этим персонажем, слишком распространяться нет необходимости. Достоевский не пожалел красок, чтобы придать своему герою самый отталкивающий и несимпатичный вид. Тут и внешность «скопца», и туповатая «созерцательность», и пошлость повадок, склонность к демагогии, банальность мышления, претенциозная витиеватость слога, само происхождение Смердякова из «банной мокроты». Наконец, его роль в убийстве Федора Павловича Карамазова. Трудно отыскать в мире Достоевского более неприятную фигуру, чем Смердяков. И в то же время это лицо – одно из ключевых в романе, как в сюжетно-композиционном, так и в идейно-философском плане.
Презираемый всеми, лишенный прав и состояния лакей оказывается, тем не менее, подлинным хозяином и распорядителем судеб всего семейства Карамазовых. Как такое могло случиться? Почему человек скромных интеллектуальных задатков и мелкой души смог подчинить своей воле таких титанов страстей и мысли, как Иван и Митя, таких опытных и проницательных людей, как старик Карамазов и слуга Григорий? Где источник той силы, которая позволяет Смердякову вводить в заблуждение даже и Алешу Карамазова, этого ангела и херувима?
Фигура Смердякова не обделена вниманием достоевистов и в целом вполне адекватно описана и истолкована исследователями творчества Достоевского, поэтому, оставляя в стороне уже установившиеся и очевидные на сегодняшний день трактовки, хочу обратить внимание на один, казалось бы частный, аспект художественной характеристики этого персонажа. А именно – на его профессию.
Согласно прихоти Федора Павловича и по некоторым свойствам характера Смердякову предназначено место на кухне. Для обучения поваренному искусству молодой человек специально на несколько лет отправлялся барином в Москву, откуда вернулся готовым специалистом и – полностью сложившейся личностью, со своими тайнами, мечтами и идеалами. Впрочем, последнее мало кого интересовало в Скотопригоньевске, разве что соседскую девушку Марью Кондратьевну.
«Поваром он оказался превосходным» (14,116).
Со службой справлялся не просто исправно, но даже замечательно, и когда бывало по болезни уступал место Марфе Игнатьевне, то весьма огорчал барина: стряпня Марфы Игнатьевны была Федору Павловичу «вовсе не на руку» (14,116). Особливо хорошо готовил Смердяков кофий. Федор Павлович, похваляясь перед гостями, именовал его не иначе как «смердяковским», прибавляя словечко «знатный». «На кофе, да на кулебяки Смердяков у меня артист, да на уху еще, правда» (14, 113), – аттестует своего повара старик Карамазов, приглашая к столу Алешу.
Впрочем, в романе мы совсем не видим Смердякова за работой: то он прохлаждается на скамейке у калитки, то с гитарой в саду балуется. Наверное, и в самом деле для художественного целого романа нет надобности изображать Смердякова в чаду и дыму кастрюль и сковород. Вполне достаточно краткого указания на его искусность, ибо все остальное читатель и сам способен дорисовать. А заглянуть на кухню к Смердякову есть все основания. Ведь кухня, при всей своей прозаичности, испокон века, с тех пор как человек научился обращаться с огнем, представляет собой энергетический центр любого жилища – будь то лачуга бедняка или блещущий великолепием Версаль. Вся домашняя экономика завязана на ней. Кухня формирует бюджет дома, диктует доходно-расходные статьи, реально контролирует движение финансов. Здесь аккумулируются продовольственные запасы и идет их распределение в соответствии с возможностями и потребностями обитателей дома. На кухне проходит утилизация отходов. Не исключение и дом Федора Павловича.
Полушутливое утверждение, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, всего лишь частный случай отношений повара с едоком: через желудок путь лежит к самой жизни человека. «Поел Борис Тимофеевич на ночь грибков с кашицей, и началась у него изжога; вдруг схватило его под ложечкой; рвоты страшные поднялись, и к утру он умер, и как раз так, как умирали у него в амбарах крысы, для которых Катерина Львовна всегда своими собственными руками приготовляла особое кушание с порученным ее хранению опасным белым порошком, – сама собой приходит здесь на ум история „Леди Макбет Мценского уезда“. – <…> Дивным делом никому и невдомек ничего стало: умер Борис Тимофеевич, да и умер, поевши грибков, как многие, поевши их, умирают»[43]43
Лесков Н. С. Леди Макбет Мценского уезда // Лесков Н. С. Собр. соч.: В 12 т. М.: Правда, 1989. Т. 5. С. 255.
[Закрыть]. Не случайно в древнерусском языке слово «живот» равно означало как часть человеческого организма, так и само понятие жизни.
Повар, и Смердяков соответственно, занимает ключевое место не только в хозяйственной, но, если можно так выразиться, и в «политической» жизни дома. В известной степени он обладает или, во всяком случае, может обладать определенным влиянием, а иногда и властью над тем, кто доверил ему свои финансы и здоровье. Если же еще имеет склонность и амбиции, то легко может превратиться хоть в домашнего «серого кардинала», хоть в тирана и деспота. Иными словами, устойчивость и прочность всего жизненного уклада в доме во многом зависит от личности того, кто стоит у кухонного стола – с ножом и поварешкой.
Впрочем, и сама личность повара формируется под воздействием его специальности. В нашем случае это, пожалуй, интереснее всего.
Ведение кухонного хозяйства требует внимания, расчета и знаний. Как известно, каждое блюдо готовится в соответствии с правилами рецепта, определяющего состав и пропорции ингредиентов, порядок их обработки, последовательность закладки, время и способ приготовления. Плюс ко всему то, что в быту называется маленькими секретами, те нюансы технологии, от которых, собственно, и зависит конечный результат. Иными словами, это сложный и трудоемкий процесс. Сложность его повышается в зависимости от характера трапезы: завтрак, обед, ужин, праздничный стол, поминки и т. д. К тому же при составлении меню повар должен учитывать особенности сезона, народные традиции, в известных случаях (например, во время поста) религиозные предписания, наконец, вкусы и пристрастия своих заказчиков. Помимо готовки текущего стола в обязанности повара входит также заготовка долгосрочных запасов. Иными словами, он постоянно находится в процессе анализа целого комплекса разнообразных обстоятельств и принужден повседневно составлять, держать в памяти и контролировать стратегию ведения сложного и многосоставного хозяйства. Его вполне можно уподобить полководцу, находящемуся в боевом походе. Мышлению повара в высшей степени присущи комбинаторностъ и плановость.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































