Текст книги "Достоевский. Перепрочтение"
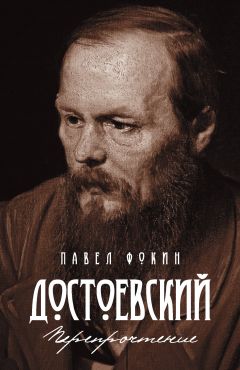
Автор книги: Павел Фокин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
«– Хорошо, коли сам наводит, а коли ему самому в самое рыло наводят, так оно тогда самое глупое чувство-с. Убежите с места, Марья Кондратьевна.
– Неужто вы побежали бы?
Но Смердяков не удостоил ответить» (14, 206).
Итак, аристократ и смерд, красавец и урод, атлет и эпилептик, секс-символ и «скопец», бесстрашный дуэлянт и трусливый «бульонщик». Короче, «волна и камень, стихи и проза, лед и пламень не столь различны меж собой». И все же слишком очевидное и откровенное сближение их судеб в финале заставляет отнестись к этой паре внимательнее.
Всматриваясь в образы этих двух персонажей, мы увидим куда больше общих черт, чем отличительных. Неслучайно, они как бы даже стремятся навстречу друг другу. Николай Всеволодович, неожиданно оборвав карьеру, «связался с каким-то отребьем петербургского населения, с какими-то бессапожными чиновниками, отставными военными, благородно просящими милостыню, пьяницами, посещает их грязные семейства, дни и ночи проводит в темных трущобах и Бог знает в каких закоулках, опустился, оборвался» (10,36). Наконец, вступил в тайный брак с полоумной Марьей Лебядкиной, героиней, отчасти родственной матери Смердякова – Лизавете Смердящей. И если Ставрогина тянет на дно, то усилия Смердякова направлены как раз в обратном направлении, он страстно желает с этого дна подняться. В Москве, по словам повествователя, в годы своего обучения, был «даже раз в театре» (14, 116). И если Бог обидел Смердякова естественной красотой, то он старается исправить этот недостаток внешности, прибегая к косметике и старательно ухаживая за одеждой. Он прибыл из Москвы «в хорошем платье, в чистом сюртуке и белье, очень тщательно вычищал сам щеткой свое платье неизменно два раза в день, а сапоги свои опойковые, щегольские, ужасно любил чистить особенною английской ваксой так, чтоб они сверкали как зеркало <…>. Жалование Смердяков употреблял чуть не в целости на платье, на помаду, на духи и проч.» (14,116). Кстати, косметика Смердякова, чем не ставрогинская маска, о которой дважды вспоминает Хроникер?
Целый ряд общих моментов мы найдем и в биографиях молодых людей. Их не так много, но они относятся к разряду тех, которым Достоевский придавал особое значение. Как ни разнится социальное происхождение Ставрогина и Смердякова, оба они – дети из случайных семейств. При всей любви генеральши Ставрогиной к своему единственному сыну, между ними никогда не было настоящей родственной близости: «Мальчик знал про свою мать, что она его очень любит, но вряд ли очень любил ее сам. Она мало с ним говорила <…>. Во всем деле обучения и нравственного развития мать вполне доверяла Степану Трофимовичу» (10, 35). Степан Трофимович фактически и стал отцом Николая Всеволодовича, тогда как «легкомысленный генерал Ставрогин, отец его, жил то время уже в разлуке с его мамашей» (10, 34–35). Так же и Смердяков, при живом отце получил в наставники и воспитатели верного слугу семейства Карамазовых Григория Васильевича.
Оба мальчика, уже в подростковом возрасте, были направлены для дальнейшего обучения в столицы: Ставрогин – в Петербург, Смердяков – в Москву. Окончательное становление их личностей проистекало на стороне, вне дома, и отличалось известной долей самостоятельности. О том, как они провели эти годы, можно отчасти судить по воспоминаниям другого отпрыска «случайного семейства» – Аркадия Долгорукова из романа «Подросток». Добавим к этому, что оба мальчика уже в раннюю пору своей биографии проявляли склонность к задумчивости и саморефлексии. Когда Николая Всеволодовича «по шестнадцатому году, повезли в лицей, он был тщедушен и бледен, странно тих и задумчив» (10, 35). Да и в Петербурге в первые годы «говорил мало и все по-прежнему был тих и застенчив» (10, 35). Смердяков рос «мальчиком диким и смотря на свет из угла» (14,114). Эта нелюдимость и молчаливость была свойственна ему и позже. В связи с ней вспомнилась даже повествователю картина Н. М. Крамского «Созерцатель». «Редко, бывало, заговорит. Если бы в то время кому-нибудь вздумалось спросить, глядя на него: чем этот парень интересуется и что всего чаще у него на уме, то, право, невозможно было бы решить, на него глядя» (14,116). Николай Всеволодович, хоть и не созерцатель, но что у него на уме, тоже для всех загадка. Оба они непредсказуемы.
Из ключевых моментов, сближающих биографии двух персонажей Достоевского, отметим еще неожиданную душевную болезнь Николая Всеволодовича, подлинность которой не до конца прояснена, убийство, лежащее на совести каждого из них, и, наконец, общий финал – в петле. Но главным, генеральным свойством, роднящим этих двух персонажей, является их безмерное одиночество и невероятная внутренняя опустошенность, проявляющаяся в исключительном презрении и равнодушии к окружающему миру, в холодной жестокости, бессердечии и абсолютном безверии. Они равнодушны до такой степени, что возникает сомнение в наличии у них души вообще. Это если и не бездушные люди, то, во всяком случае, из разряда тех, у кого душа мертва, убита, или, еще страшнее, продана дьяволу.
Достоевский, естественно, нигде не говорит ни о какой сделке Ставрогина или Смердякова с дьяволом, но на мысль о том, что без нечистого здесь не обошлось, наводит ряд обстоятельств. В первую очередь и главным образом та поразительная власть над людьми, которая дана обоим героям. О демонических чарах Ставрогина сказано достаточно. Но столь же могущественен и Смердяков. Фактически он единственный реальный хозяин в доме Карамазовых, хотя и находится в нем как бы на вторых ролях, в тени. Он вполне осознает свою власть и потому презрителен и высокомерен ко всем. Замечательно, что и все семейство Карамазовых, может быть кроме Алеши, не только чувствует, но и признает силу и право Смердякова.
Старик Федор Павлович, при всей своей сверхосторожности и подозрительности, доверяет Смердякову чуть ли не больше, чем себе самому. «Надо прибавить, – сообщает повествователь, – что не только в честности его он был уверен, но почему-то даже и любил его, хотя малый и на него глядел так же косо, как и на других, и все молчал» (14,116). Дмитрий Федорович, перед которым Смердяков якобы трепещет («Боюсь я их очень-с, и кабы не боялся еще пуще того, то заявить бы должен на них городскому начальству» (15, 207)), на самом деле пляшет под его дудку. Молчаливый и «из дому сора не выносящий» (по замечанию Федора Павловича, 14,122), Смердяков ловко использует ту информацию, которую получает от старика Карамазова, становясь осведомителем-искусителем Мити. Невероятным для себя образом подчиняется воле Смердякова и Иван, вопреки своему рассудку и чувствам принимая предложение Смердякова уехать из дому и оставить отца и брата Дмитрия с глазу на глаз. Оказывается послушной пешкой в хитроумной игре Смердякова и бдительный Григорий.
Характерно, что знаменитая встреча Алеши и Ивана в трактире происходит опять-таки по наводке Смердякова (14, 207). При этом ведь Алеша ищет брата Дмитрия, стремясь предотвратить катастрофу, которую смутно предчувствует. Однако попавшийся ему по пути Смердяков уводит его в сторону. Вместо Дмитрия Алеша встречает Великого инквизитора.
Но власть, полученная договором с дьяволом, обманчива. На самом деле, продавший свою душу человек ничего не получает, ибо власть по-прежнему остается у самого нечистого, зато человек превращается в его верного раба и орудие. И очень скоро человек начинает это понимать, а проданная, но еще не переданная в окончательное рабство душа отчаянно сопротивляется. В попытке переменить участь, человек начинает совершать поступки, смысл которых не понятен, если рассматривать их с точки зрения практических интересов. Зачем Ставрогин предупреждает Шатова о готовящемся покушении? Почему для своих записок он выбирает жанр именно исповеди? Почему Смердяков посвящает Ивана в план готовящегося преступления, а потом признается ему в содеянном? Почему в последнем разговоре с Иваном атеист Смердяков вдруг вспоминает Бога как единственного свидетеля их встречи? Конечно, при желании все это можно объяснить извращенностью натуры этих персонажей, той бездной нравственного падения, в которой они пребывают. Но можно взглянуть и иначе. Не есть ли это те самые попытки бегства из-под власти нечистого, отчаянные и бессильные. И эта их мысль об эмиграции – Ставрогин, как известно, даже принял гражданство швейцарского кантона Ури, а Смердяков после убийства начинает вдруг учить «французские вокабулы», – это тоже все из той же серии: убежать от судьбы, от нечистого, от себя. Но это оказывается невозможным, и тогда – последняя попытка одолеть беса: петля, заточающая нечистый дух в безжизненном теле, как восточного джинна в лампе.
Ставрогин и Смердяков пытаются победить своего беса безверием. Они не атеисты: их не мучает проблема бытия Божия, их мучает проблема бытия бесов. Их безверие – форма самообмана человека, продавшего душу. Чтобы освободиться от договора, нужно либо его выполнить полностью, либо расторгнуть, либо избавиться от того, с кем договор заключен. Выполнить договор с дьяволом в полном объеме – страшно; расторгнуть – невозможно; а избавиться можно, лишь признав его несуществующим, перестав в него верить. Но тогда нужно отказаться от веры вообще. «Можно ли верить в беса, не веруя в Бога?» – для Ставрогина это вопрос жизни и смерти. И, воюя с бесом, герой неизбежно приходит к отказу от Бога. Логику самообмана безверием Достоевский прекрасно передал в разглагольствованиях Смердякова: «Едва только я скажу мучителям: „Нет, я не христианин и истинного Бога моего проклинаю“, как тотчас же я самым высшим Божьим судом немедленно и специально становлюсь анафема проклят и от церкви святой отлучен совершенно как бы иноязычником <…>. А коли я уже разжалован, то каким же манером и по какой справедливости станут спрашивать с меня на том свете как с христианина за то, что я отрекся от Христа, тогда как я за помышление только одно, еще до отречения, был уже крещения моего совлечен? <…> С татарина поганого кто же станет спрашивать<…>» (14,118–119).
Здесь-то и кроется главная хитрость нечистого. Безверие – это уловка дьявола, направленная против Бога и человека: бес поселяется в душе человека на место Бога. Отказавшийся от веры человек не ускользает от дьявола, а именно выполняет его договор, хотя и может быть уверенным, что перехитрил лукавого. Безверие, как показывает Достоевский, освобождает человека от мысли об ответственности, но не делает его при этом безответным, потому что, отказываясь от веры, отказываясь от Бога, человек все равно остается в мире, созданном Богом, и подчиняется его законам и установлениям. И потому наказание неизбежно.
Достоевский шел к пониманию природы безверия долгим путем, опираясь как на личный духовный опыт, так и на мистические откровения своих предшественников и современников. Пропуская этот духовный материал «через большое горнило сомнений», писатель из произведения в произведение обращался к теме одержимости бесами.
Работа над образом Ставрогина стала кульминацией многолетних усилий Достоевского. Художественная и духовная победа писателя открыла ему новые горизонты. «Обворожительный демон не составлял для него тайны: он был разгадан и изображен – и отныне виделся не роковой личностью, а характером, доступным творческому освоению»[15]15
Сараскина Л. И. Федор Достоевский. Одоление демонов. М.: Согласие, 1996. С. 440.
[Закрыть]. И все-таки это была еще не окончательная победа. Да, сам Достоевский освободился от чар своего демона, но и заключенный в магический круг романа Ставрогин продолжал к себе притягивать, завораживая теперь уже читателей «Бесов».
В образе Смердякова Достоевский окончательно рассчитался с бесом-искусителем. Лишив его какой-либо человеческой привлекательности и обаяния, Достоевский лишил этой привлекательности и обаяния сам источник силы своего демона – самообман безверия. Безверие Ставрогина было трагично и волнующе, вызывало симпатию и сочувствие. Безверие Смердякова – пошло и отвратительно, оно не способно вызвать даже чувства сострадания к несчастному.
«Некрасивость убьет» – этим открытием, сделанным в ходе работы над «Бесами», Достоевский в полном объеме воспользовался в «Братьях Карамазовых». В «Бесах» герой погиб от своей духовной некрасивости, но сама некрасивость выжила, уцепившись за внешнюю привлекательность Ставрогина. В «Братьях Карамазовых» некрасивость духовная в образе Смердякова соединена с некрасивостью телесной и вместе с гибелью Смердякова гибнет сама. Гибнет и в глазах Ивана Федоровича, бунтующего в своем кошмаре уже не против Бога, а против беса, и в глазах читателей.
Загнав беса в облик Смердякова, Достоевский навеки приковал его к позорному столбу. Разгаданный и изображенный в «Бесах», поверженный герой-демон, тем не менее, не был изгнан из мира романов Достоевского, но, в «Братьях Карамазовых», занял в нем подлинное, подобающее ему место – в преисподней.
Достоевский – мыслитель и художник – был, в первую очередь, исследователем не столько событий, сколько процессов. События сами по себе, как анекдот или сплетня, вне их роли в динамическом развитии тех или иных явлений, Достоевского занимали мало. Точно так же и биографии его героев важны были ему, прежде всего, как формы, в которых проявляется процесс становления личности. Всех своих главных героев Достоевский показывает в динамике развития, начиная с раннего детства: Наташа Ихменева и Иван Петрович (в «Униженных и оскорбленных»), князь Мышкин и Настасья Филипповна (в «Идиоте»), Николай Ставрогин (в «Бесах»), Аркадий Долгорукий (в «Подростке»), братья Карамазовы и Смердяков (в «Братьях Карамазовых»). Детство Раскольникова представлено через его сон, а первые годы Сони Мармеладовой метонимически реконструируются в образе ее младшей сестры Полины. Детство является неотъемлемой частью художественной характеристики главного героя. В январском выпуске «Дневника писателя» 1876 года есть комментарий, разъясняющий такой интерес Достоевского к детству как базовому компоненту биографии героя: «Любопытно проследить, – пишет он, – как самые сложные понятия прививаются к ребенку совсем незаметно, и он, еще не умея связать двух мыслей, великолепно иногда понимает самые глубокие жизненные вещи. Один ученый немец сказал, что всякий ребенок, достигая первых трех лет своей жизни, уже приобретает целую треть тех идей и познаний, с которыми ляжет стариком в могилу» (22,9).
Несомненным педагогическим открытием Достоевского стала мысль о роли детских впечатлений в формировании характера и души человека. «Две-три мысли, два-три впечатления поглубже выжитые в детстве, собственным усилием (а если хотите, так и страданием), проведут ребенка гораздо глубже в жизнь, чем самая облегченная школа, из которой сплошь и рядом выходит ни то ни се, ни доброе ни злое, даже и в разврате не развратное, и в добродетели не добродетельное» (22, 9). «Дневник писателя» изобилует примерами такого воздействия детских впечатлений на личность и умственное развитие ребенка. Так, в январском «Дневнике» 1876 года, где и сформулированы эти положения, иллюстрацией тезиса служит рассказ о фельдъегере, избивающем ямщика, которого мальчик Достоевский увидел по дороге из Москвы в Петербург: «Эта отвратительная картинка осталась в воспоминаниях моих на всю жизнь. Я никогда не мог забыть фельдъегеря и многое позорное в русском народе как-то поневоле и долго потом наклонен был объяснять уж, конечно, слишком односторонне» (22, 29). Достоевский обращает внимание не только на непосредственный эффект таких впечатлений, но и на их инерционный потенциал, способность их продуцировать все новые и новые суждения, быть источником целого спектра идей, получающих свою актуализацию в разные периоды жизни человека. «В конце сороковых годов, – завершает Достоевский сюжет о фельдъегере, – в эпоху моих самых беззаветных и страстных мечтаний, мне пришла вдруг однажды в голову мысль, что если б случилось мне когда основать филантропическое общество, то я непременно дал бы вырезать эту курьерскую тройку на печати общества как эмблему и указание» (22, 29).
Еще более зримо тезис о воспитывающей роли детских воспоминаний реализован в рассказе «Мужик Марей», сюжет которого построен именно на встрече детских впечатлений рассказчика с его взрослой аналитической мыслью: «Когда я сошел с нар и огляделся кругом, помню, я вдруг почувствовал, что могу смотреть на этих несчастных совсем другим взглядом и что вдруг, каким-то чудом, исчезла совсем всякая ненависть и злоба в сердце моем. Я пошел, вглядываясь в встречные лица. Этот обритый и шельмованный мужик, с клеймом на лице и хмельной, орущий свою пьяную сиплую песню, ведь это тоже, может быть, тот же самый Марей: ведь я же не могу заглянуть в его сердце» (22, 49). Воспоминание о встрече с крепостным мужиком Мареем пробудило в душе рассказчика благодарную теплоту и нежность, которые заставили его уже иначе взглянуть на окружающих острожников и – задуматься о них как о личностях, отойти от непосредственного восприятия их нынешнего безобразия и подняться на уровень обобщения. Роль детского впечатления в этом процессе подчеркнута замечанием о последующей встрече в тот же вечер с поляком М-цким. «Несчастный! – восклицает рассказчик. – У него-то уж не могло быть воспоминаний ни об каких Мареях и никакого другого взгляда на этих людей, кроме Je hais ces brigands!» (22,49–50).
Как и в истории с фельдъегерем, в «Мужике Марее» представлено пролонгированное действие воспитывающего эффекта детского опыта. Сюжетная конструкция рассказа представляет собой двойное воспоминание – воспоминание о воспоминании. Автор «Дневника писателя» из своего зрелого возраста обращается ко дням детства и молодости: «Мне было тогда всего лишь девять лет от роду… но нет, лучше я начну с того, когда мне было двадцать девять лет от роду» (22,46). И этот зрелый автор, вслед за собой 29-летним, испытывает на себе воспитательную силу детского воспоминания. Он обращается к событиям давних лет с целью подвести художественный итог «в заключение <…> трактата о народе» (22,46), в развитие идей, высказанных в предшествующей статье «О любви к народу…» и, в частности, призыва: «Судите наш народ не по тому, чем он есть, а по тому, чем желал бы стать. А идеалы его сильны и святы, и они-то и спасли его в века мучений; они срослись с душой его искони и наградили ее навеки простодушием и честностью, искренностию и широким всеоткрытым умом, и все это в самом привлекательном гармоническом соединении» (22, 43). И действительно, весь рассказ ведется в русле этого высказывания, полностью его подтверждая. Но в самом конце, в последнем предложении, похоже, неожиданно даже для самого автора, вырывается реплика совсем иного тематического содержания: «Нет, эти поляки вынесли тогда более нашего!» (22, 50) С точки зрения идейной задачи, поставленной перед статьей-рассказом «Мужик Марей» в рамках конкретного выпуска «Дневника писателя», это замечание излишне, но такова значимость мысли, вызванной всей историей, что Достоевский не считает себя вправе ее игнорировать. Пятнадцать лет спустя духовный заряд, полученный писателем в детстве, позволил ему подняться над личными пристрастиями в отношении польской нации и проявить высшее сознание человека и христианина. Мужик Марей, открывший девятилетнему мальчику путь к преодолению сословных предрассудков, давший 29-летнему каторжанину возможность увидеть в заключенных лик человеческий, помогает 54-летнему автору «Дневника» преодолеть неприязнь и затаенную ксенофобию. Так детское воспоминание, обрастая деталями и подробностями, оказывается двигателем мыслительной деятельности человека, результатом которой становятся самые неожиданные, напрямую с детским воспоминанием не связанные выводы и умозаключения.
Наряду с житейскими впечатлениями, вынесенными ребенком из детства, Достоевский как обладающие особым воспитывающим потенциалом отмечал впечатления от художественных произведений, и в первую очередь от прочитанных книг. За несколько месяцев до смерти в письме Л. Н. Озмидову от 18 августа 1880 года Достоевский, размышляя о воспитательной роли литературы, вспоминал, в частности: «Впечатления же прекрасного именно необходимы в детстве. Десяти лет от роду я видел в Москве представление „Разбойников“ Шиллера с Мочаловым, и, уверяю Вас, это сильнейшее впечатление, которое я вынес тогда, подействовало на мою духовную сторону очень плодотворно. Двенадцати лет я в деревне, во время вакаций, прочел всего Вальтер-Скотта, и пусть я развил в себе фантазию и впечатлительность, но зато я направил ее в хорошую сторону и не направил на дурную, тем более, что захватил с собой в жизнь из этого чтения столько прекрасных и высоких впечатлений, что, конечно, они составили в душе моей большую силу для борьбы с впечатлениями соблазнительными, страстными и растлевающими» (301; 212). Герои Достоевского так же растут и развиваются, читая (как Наташа Ихменева и Иван Петрович, князь Мышкин, Коля Красоткин и др.) или отказываясь от чтения (Смердяков).
Роман «Подросток» по многим характеристикам стоит особняком в творчестве Достоевского. Достоевский пишет роман воспитания, при этом облекает его в форму записок-исповеди, что многократно усложняет художественную задачу романиста, но одновременно расширяет исследовательский потенциал жанра, дает возможность показать процесс становления личности изнутри. Выстраивая концепцию личности главного героя, Достоевский активизирует весь арсенал своих педагогических наблюдений и выводов. Стратегия поведения Аркадия Долгорукого мотивирована сложной, динамичной структурой жизненного опыта подростка, в которой эклектически соединены и драматично взаимодействуют личные переживания, фантазии, домыслы и усвоенные от старших идеи, заповеди, готовые формулы и схемы.
Среди детских впечатлений Аркадия исключительную роль играет образ Чацкого, в котором он впервые увидел и полюбил отца. Версилов играл Чацкого в домашнем спектакле в доме Александры Петровны Витовтовой. Аркадий однажды застал его во время репетиции перед зеркалом, а потом восторженно следил за игрой на сцене: «Когда вы вышли, Андрей Петрович, я был в восторге, в восторге до слез, – почему, из-за чего, сам не понимаю. <…> Я в первый раз видел сцену! В разъезде же, когда Чацкий крикнул: „Карету мне, карету!“ (а крикнули вы удивительно), я сорвался со стула и вместе со всей залой, разразившейся аплодисментом, захлопал и изо всей силы закричал „браво!“» (13, 95). О силе воздействия хорошей драматической игры Достоевский знал по собственному опыту (см. выше письмо к Озмидову), соединяя в едином впечатлении переживания ребенка от личности отца и от театрального исполнения гениальной пьесы, он заставляет читателя с особым вниманием отнестись к этому эпизоду в биографии героя. Эффект был сокрушительным. На долгие годы Чацкий в сознании Аркадия соединился с образом отца, фактически стал ему тождественным. Он выучил его наизусть. Версилов – Чацкий являлся ему во сне. «Когда я ложился в постель и закрывался одеялом, я тотчас начинал мечтать об вас, Андрей Петрович, только об вас одном; совершенно не знаю, почему это так делалось. Вы мне и во сне даже снились. Главное, я все страстно мечтал, что вы вдруг войдете, я к вам брошусь, и вы меня выведете из этого места и увезете к себе, в тот кабинет, и опять мы поедем в театр, ну и прочее. Главное, что мы не расстанемся – вот в чем было главное!» (13, 98) Его самолюбию льстило быть сыном Чацкого, это несомненно.
Вспоминая и прокручивая мысленно в голове сцены спектакля, восстанавливая эпизод за эпизодом всю пьесу Грибоедова, стремился Аркадий найти ключ к раскрытию характера Версилова, а через него – познать самого себя: «Я с замиранием следил за комедией; в ней я, конечно, понимал только то, что она ему изменила, что над ним смеются глупые и недостойные пальца на ноге его люди. Когда он декламировал на бале, я понимал, что он унижен и оскорблен, что он укоряет всех этих жалких людей, но что он – велик, велик!» (13,95) Чацкий – велик! Версилов – велик! И он, Аркадий, – должен быть велик! Сын великого человека должен быть велик! Там же, в «Горе от ума», уже все сказано: «Не надобно иного образца, когда в глазах пример отца»[16]16
Грибоедов А. С. Сочинения в стихах. Л.: Сов. писатель, 1987. С. 60.
[Закрыть]. Вот, что увидел и услышал тогда мальчик Аркадий. Этими чувствами руководствовался он, когда задумал свой первый «подвиг» – побег из пансиона Тушара.
Обольщенный силой Чацкого – Версилова («а крикнули вы удивительно»), решился он на бунт.
И – потерпел поражение.
Ему, маленькому мальчику, без поддержки, без знаний о мире, без средств невозможно было противостоять реальности: «темная-темная ночь зачернела передо мной, как бесконечная опасная неизвестность, а ветер так и рванул с меня фуражку. Я было вышел; на той стороне тротуара раздался сиплый, пьяный рев ругавшегося прохожего; я постоял, поглядел и тихо вернулся, тихо прошел наверх, тихо разделся, сложил узелок и лег ничком, без слез и без мыслей, и вот с этой-то самой минуты я и стал мыслить, Андрей Петрович! Вот с самой этой минуты, когда я сознал, что я, сверх того, что лакей, вдобавок, и трус, и началось настоящее, правильное мое развитие!» (13, 99) Мечта сшибла его с ног. Карету не подали. Разочарованный в себе, он поспешил расправиться с собой по законам собственной фантазии: раз не герой, то – подлец. Если не Чацкий, то кто? Молчалин?
Молчалин!
Презренный и презираемый герой предстает в новом свете, как и его блистательный антипод. Теперь уже грозная инвектива Чацкого «Где? Укажите нам, отечества отцы, которых мы должны принять за образцы?»[18]18
Грибоедов А. С. Указ. соч. С. 87.
[Закрыть] оказывается направленной против него самого, точнее, против исполнителя его роли. Это он, восхитительный вольнодумец, «карбонарий», отец, друг, – не подал руку, не выслал карету. Забыл. Отрекся. Предал. Унизил и оскорбил. Превратил в подлеца Молчалина. В своего противника. Именно так – противника. Это – вызов. И Аркадий решает его принять. Ничего не подозревавший реальный Версилов, раненный своими страстями и сомнениями, и не предполагал, что в далекой от него Москве, в тиши Тушаровского пансиона родился смертельный его враг и – соперник.
Аркадий учит новую роль. Ехидное замечание Чацкого «Молчалины господствуют на свете» заставляет задуматься и переосмыслить жизненные установки грибоедовского антигероя. Сарказм Чацкого не отменяет истинности высказывания, напротив, укрепляет его достоверность. Чацкий – комета, молния, гром, блеснул и исчез, а Молчалин неприметен, вездесущ и незаменим – как воздух, пусть неподвижный и затхлый, душный и спертый: «День за день, нынче, как вчера»[19]19
Грибоедов А. С. Указ. соч. С. 104.
[Закрыть]. Молчалины господствуют потому, что они есть, а Чацкий появляется лишь на час – его, в принципе, нет. Чацкого можно победить. Он и сам признал свое поражение. «Молчалины господствуют на свете» – это вдохновляет, это дает силу и уверенность. И Аркадий сочиняет свою идею.
«Моя идея – это стать Ротшильдом. Я приглашаю читателя к спокойствию и к серьезности <…>
Дело очень простое, вся тайна в двух словах: упорство и непрерывность» (13, 66).
Знакомая реплика.
Молчалин: «Свой талант у всех…» Чацкий: «У вас?» Молчалин: «Два-с: умеренность и аккуратность»[20]20
Там же.
[Закрыть].
«Упорство и непрерывность» Аркадия восходят к «умеренности и аккуратности» Молчалина, более того, на первых порах реализации его грандиозной программы умеренность и аккуратность являются главным средством и инструментом: «Несмотря на ужасные петербургские цены, я определил раз навсегда, что более пятнадцати копеек на еду не истрачу, и знал, что слово сдержу. Этот вопрос об еде я обдумывал долго и обстоятельно. <…> Затем, для житья моего мне нужен был угол, угол буквально, единственно чтоб выспаться ночью или укрыться уже в слишком ненастный день. <…> Что касается до одежи, то я положил иметь два костюма: расхожий и порядочный. Раз заведя, я был уверен, что проношу долго; я два с половиной года нарочно учился носить платье и открыл даже секрет <…>» (13,69).
И все же стать Ротшильдом – это не идея Молчалина, кредо которого, как ни крути: «Ведь надобно ж зависеть от других»[21]21
Грибоедов А. С. Указ. соч. С. 107.
[Закрыть]. Это позиция «фатера», по терминологии Аркадия. Он же жаждет «могущества» (13, 72). И это естественно. Прежде чем стать Молчалиным, Аркадий уже был Чацким. Был сыном Чацкого.
Аркадий – Чацкий, играющий роль Молчалина.
Падший Чацкий. Новый Люцифер.
И слишком сам это сознает, потому и спешит откреститься от своего неумеренного романтизма: «Мне грустно, что разочарую читателя сразу, грустно, да и весело. Пусть знают, что ровно никакого-таки чувства „мести“ нет в целях моей „идеи“, ничего байроновского – ни проклятия, ни жалоб сиротства, ни слез незаконнорожденности, ничего, ничего» (13,72).
Но игра в Молчалина не проходит без следа. От Молчалина, точнее, от его роли соперника Чацкого в борьбе за сердце и руку Софьи Аркадий усваивает амплуа конкурента по отношению к Версилову. Тогда, мальчиком, из спектакля он понял «только то, что она ему изменила» (13,95), и, думая непрестанно о нем, живом и зримом, столь же мучался и ею, неизвестной, но угаданной. Курсив в цитате – Аркадия.
И однажды он напал на ее след. Он узнал ее имя – и устремился в погоню. Из ревности и мести. Отбить Софью – Ахмакову у Чацкого – Версилова и так сразу отомстить – обоим: ей (Ахмаковой), за то, что она (Софья) ему (Чацкому) изменила; ему (Версилову) за то, что он (Чацкий) его (Аркадия) предал. Жизнь и пьеса, реальность и фантазии переплелись в сознании Аркадия и стали источником всех его несуразных поступков, слов и мечтаний. Влюбленность Аркадия в Ахмакову подготовлена коллизией «Горя от ума». Не будь она в сознании Аркадия Софьей Фамусовой, он бы смотрел на нее совсем иначе, как, например, на ту же Татьяну Павловну, роль которой, кстати, он, именно в силу своей приверженности схеме комедии, – ее у Грибоедова нет (или он ее посчитал за Лизу?), – совершенно упустил из вида.
Вообще, в голове у Аркадия слишком много театра. Кроме Грибоедова, еще ведь и пушкинский «Скупой рыцарь» не дает покоя. На театральность мышления подростка, в частности, указывает и его признание, как виделось ему «тысячу раз» его начало: «я вдруг очутываюсь, как с неба спущенный, в одной из двух столиц наших» (13, 68). «С неба спущенный» – просто театральный термин, с античных времен еще, – «бог из машины». А все эти сцены с кулисами и ширмами на квартире у Татьяны Павловны! Как они описаны. А его обличительные монологи у мамы с «выходами на авансцену».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































