Текст книги "Рабыня"
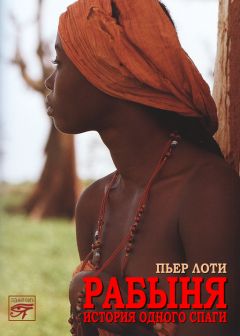
Автор книги: Пьер Лоти
Жанр: Зарубежные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Впрочем, в Судане такого рода порча встречается довольно часто: одни семейства не могут видеть льва; другие – ламантина; третьи – самые несчастные из всех – крокодила. И это поистине великая напасть, ибо тут уж никакие амулеты не помогут.
Легко представить себе меры предосторожности, на какие обрекали себя предки Фату в стране Галам: избегали прогулок на природу в излюбленные гиппопотамами часы, а главное, никогда не приближались к большим травяным болотам, где те охотнее всего предаются забавам.
Что же касается Фату, то, узнав, что в одном из домов в Сен-Луи живет молодой прирученный гиппопотам, она всегда делала огромный крюк, обходя стороной этот квартал из опасения поддаться искушению взглянуть на страшного зверя, подробного описания которого она ежедневно требовала от своих подружек: нетрудно догадаться, что причина столь жгучего любопытства крылась конечно же в колдовстве.
Дни в жарком однообразии тянулись медленно и походили один на другой. Та же исправная служба в казарме спаги, то же солнце на белых стенах, та же безмолвная тишина вокруг. Слухи о войне против Бубакара-Сегу, сына Аль-Хаджа, давали пищу разным толкам среди мужчин в красных куртках, однако ни к чему не приводили. В мертвом городе – никаких особых событий, а отголоски европейских новостей доходили медленно, потускнев от жары.
Жан многое пережил за это время, были и взлеты, и падения, но теперь он зачастую не испытывал ничего, кроме смутной скуки и усталости от всего на свете; лишь временами давала о себе знать, казалось бы, навсегда уснувшая в сердце жгучая тоска по родине.
Приближался сезон дождей: океанский прибой постепенно стихал, наступали дни, когда воздуха в груди не хватало, когда разомлевший от жары океан становился вялым и гладким, точно масло, отражая в огромном зеркале своих вод мощные потоки знойного света…
Любил ли Жан Фату-гэй?
Бедный спаги и сам этого толком не знал. Впрочем, он относился к ней, как к существу низшего порядка, вроде желтого лаобе, и не доискивался, что скрывается на дне маленькой черной души, черной-пречерной, как кожа хасонке.
Маленькая Фату была скрытной и лживой, к тому же изрядно испорченной и хитрой; Жан давно это понял. Однако прекрасно сознавал ее глубочайшую преданность ему, похожую на преданность собаки хозяину, на поклонение негра своему идолу; и хотя Жан не отдавал себе отчета, до какой степени героизма может дойти подобное чувство, оно его трогало и умиляло.
Порой просыпалась его великая гордость, восставало достоинство белого человека. Слово, данное невесте и нарушенное ради какой-то черной девчонки, тревожило его совесть; он стыдился собственной слабости.
Но Фату-гэй стала такой красивой. Когда она шла, гибкая и стройная, покачивая бедрами – привычка, которую африканские женщины позаимствовали, верно, у диких кошек своей страны, – когда она шла, набросив, словно тунику, белый муслин на круглые плечи и грудь, в ней чувствовалось совершенство античной статуи; а когда спала, закинув руки за голову, то была похожа на изящную амфору. Под высокой янтарной прической в ее тонком, с правильными чертами лице иной раз проглядывало что-то от загадочной красоты выточенного из блестящего эбенового дерева божества: ее большие, полузакрытые глаза голубой эмали, черная улыбка, медленно открывавшая белые зубы, – все дышало негритянской прелестью, чувственным очарованием, могуществом грубого соблазна, чем-то неуловимым, идущим, казалось, и от обезьяны, и от юной девственницы, и от тигрицы и наполнявшим кровь спаги неведомым восторгом.
Жана охватывал суеверный ужас при виде окружавших его амулетов; в иные минуты такое изобилие талисманов просто угнетало. Разумеется, он в них не верил; но знал, что назначение едва ли не каждой из заколдованных вещиц – удержать, опутать его. Было нестерпимо видеть их на потолке, на стенах, находить спрятанными под циновками или у себя под тарой. Притаившиеся, поражавшие странной формой и зловещим видом старые безделушки действовали ему на нервы. Порой, проснувшись утром, он обнаруживал их у себя на груди… В конце концов Жану стало казаться, будто его оплетают невидимыми, таинственными путами.
К тому же и денег не хватало. Он со всей решимостью говорил себе, что отошлет Фату. А оставшиеся два года употребит на то, чтобы заслужить золотые нашивки; кроме того, каждый месяц необходимо посылать старым родителям небольшую сумму – тогда им станет полегче. Какие-то деньги нужно собрать и на свадебные подарки Жанне Мери, и на расходы для устройства праздника по случаю их бракосочетания.
Что расстраивало эти планы: могущество амулетов, сила привычки или отсутствие воли, убаюканной здешним климатом? Бог весть. Только Фату продолжала держать молодого спаги в своих маленьких крепких руках, и он вовсе не думал ее прогонять.
Его невеста… Он часто о ней думал… Казалось, стоит ее потерять, и жизни наступит конец. В воспоминаниях она являлась Жану озаренная лучезарным сиянием. Он с восторгом пытался представить себе взрослую девушку, о которой писала мать, хорошевшую день ото дня, силился вообразить лицо юной женщины, преображая черты пятнадцатилетней девочки, которую оставил. Он связывал с ней все свои планы на счастливое будущее. Это был драгоценный клад, хранившийся где-то там, в надежном и безопасном месте, у домашнего очага. Образ Жанны сливался с прошлым, растворяясь в нем, а до будущего было еще очень далеко, и порою Жан просто терялся.
А старые родители, их он тоже очень любил!.. Отца почитал самозабвенно, испытывая к нему глубочайшую сыновнюю привязанность.
Но самое нежное чувство хранилось в его сердце по отношению к матери.
Возьмите любого матроса или спаги из числа отверженных молодых людей, которые проводят жизнь на чужбине, в далеких морях или странах изгнания, в крайне суровых и непривычных условиях; возьмите самые буйные головы, выберите самых беспечных, лихих и распутных, загляните к ним в сердце, в потаенный, сокровенный его уголок: зачастую в этом святилище вы найдете образ старой матери, какой-нибудь старухи крестьянки, уроженки Басконии в шерстяном капюшоне или же славной бретонки в белом чепце.
Глава шестая
В четвертый раз наступил сезон дождей.
Изнуряющие дни без единого дуновения ветерка. Тусклое, свинцовое небо отражается в гладких как зеркало водах океана, где резвится множество акул; унылая полоса песков, идущая вдоль всего африканского побережья, приобретает под палящими лучами солнца ослепительно белый цвет.
Это время больших рыбьих сражений.
Спокойная водная гладь без всякой видимой причины на нескольких сотнях метров покрывается внезапно рябью, потом вздымается пеной и мелкими кипящими брызгами. Судя по всему, огромный косяк, уповая на скорость миллионов плавников, удирает по самой поверхности воды от прожорливой стаи хищников.
Это излюбленное время черных гребцов на пирогах, время долгих переходов и гонок.
Представьте себе, что днем, когда духота кажется европейцам совершенно невыносимой и жизнь как бы замирает – малейшее движение становится в тягость, вам удалось вздремнуть под сенью мокрого тента на каком-нибудь речном судне; так вот ваш тяжелый полуденный сон нередко могут нарушить крики и свист гребцов, громкие всплески воды, разметаемой лихорадочными взмахами весел. Мимо проносится целая флотилия пирог, оспаривая первенство в яростном состязании под жгучим солнцем.
И все черное население, проснувшись, высыпает на берег. Зрители подбадривают соперников громкими криками, встречая победителей аплодисментами, а побежденных, как и у нас, – шиканьем и свистом.
Жан проводил в казарме ровно столько времени, сколько предписывалось службой, да и то его нередко замещали товарищи. Начальство закрывало глаза на такого рода соглашения, позволявшие Жану большую часть дня оставаться у себя дома.
Теперь он стал всеобщим любимцем; обаяние его ума и честности, очарование внешности и голоса, умение вести себя мало-помалу покорили всех. Несмотря ни на что, Жан в конце концов сумел завоевать доверие и уважение окружающих, добиться особого положения, дававшего ему почти полную свободу и независимость; он был исполнительным, усердным солдатом, оставаясь при этом почти свободным человеком.
Однажды вечером Жан, как всегда, явился на перекличку.
Старая казарма утратила свой обычный тоскливый вид. Во дворе велись шумные разговоры, некоторые спаги в порыве безумной радости стрелой носились по лестницам то вверх, то вниз. В воздухе повеяло переменами.
– Важное известие, Пейраль! – крикнул ему эльзасец Мюллер. – Завтра ты уезжаешь, повезло тебе, едешь в Алжир, счастливчик!
Двенадцать новых спаги прибыли из Франции с дакарским пароходом, двенадцать из тех, кто служил дольше всех, должны были уехать (и Жан в их числе), им была оказана особая честь: закончить срок службы в Алжире.
На другой день вечером они отбывали в Дакар.
В Дакаре им предстояло сесть на французский пароход, направлявшийся в Бордо; оттуда они доберутся до Марселя южной линией, причем время, отводившееся на дорогу, предполагало некоторую свободу передвижения, давая возможность заглянуть в родные края тем, у кого был такой край и отчий дом; в Марселе их будет ждать пароход, идущий в Алжир – сказочный город, где последние годы службы пролетят словно сон!
Жан возвращался к себе унылым берегом реки. На Сенегал опускалась звездная ночь, жаркая, тягостная, удивительно тихая и прозрачно ясная. Слышался легкий плеск воды в реке и приглушенный расстоянием звук барабана – весенний анамалис фобил; в четвертый раз на том же самом месте Жан внимал этому страстному зову, который был связан для него с воспоминаниями о первых неистовых наслаждениях в черной стране. Теперь, казалось, он посылал ему прощальный привет…
Тонкий серп луны; крупные звезды – их мерцание проникает сквозь пелену светящихся испарений; внизу, у самого Горизонта, – огни, зажженные на другом берету, в негритянской деревне Сорр, – все вместе, сливаясь, отбрасывает на теплую воду расплывчатые полосы света; жаркая неподвижность воздуха, жаркая дремота воды, и всюду – фосфоресцирующее свечение: природа насыщена жарой и мягким сиянием; на берегах Сенегала – исполненная тайн тишина и тихая грусть…
А ведь важное, неожиданное известие оказалось правдой! Жан наводил справки: его имя действительно значилось в списке тех, кто должен уехать; завтра вечером он поплывет вниз по этой реке, чтобы никогда уже сюда не вернуться…
Зато сегодня ничего не надо делать; в казарме канцелярия уже закрыта, все разошлись; готовиться к отъезду он будет завтра, а теперь остается лишь думать, собираться с мыслями, предаваться мечтаниям, прощаться с тем, что его окружало на земле изгнания.
В голове все перемешалось – мысли и неясные ощущения.
Через месяц ему, возможно, представится случай заскочить ненадолго в родную деревню, обнять на бегу горячо любимых родителей, увидеть Жанну, ставшую серьезной, взрослой девушкой, взглянуть на всех мельком, как во сне!.. Вот главное, что приводило в смятение Жана, заставляя чаще биться сердце…
А между тем спаги не был готов к встрече, которую так долго ждал, и немало тягостных раздумий примешивалось к нежданной великой радости.
Ну как по прошествии трех лет он может явиться домой, не заслужив даже скромных унтер-офицерских нашивок, ничего никому не подарив, явиться как последний бедняк, без гроша за душой, не успев обзавестись даже новой формой, чтобы покрасоваться в деревне! Да, он чувствовал себя выбитым из колеи, взбудораженным: грядущий отъезд был слишком скор, могли бы дать хоть несколько дней на сборы.
К тому же Алжир, о котором Жан ничего не знал, нисколько не привлекал его. Опять привыкать к чему-то новому! И раз уж все равно предстоит провести эти выброшенные из жизни, пропащие годы вдали от родного дома, не лучше ли остаться здесь, на берегу большой печальной реки, с которой Жан уже свыкся.
Увы! Он, несчастный, любил свой Сенегал и только теперь это понял; его связывало с ним множество таинственных, сокровенных нитей. Жан словно обезумел от выпавшей на его долю радости возвращения домой, но все-таки был привязан к стране песка, к дому Самба-Хамета и даже к ставшей привычной великой, неизбывной печали, к обилию жары и света.
Он не был готов к столь быстрому отъезду.
Видно, местные испарения постепенно всосались в его кровь; Жан чувствовал себя пленником, закабаленным колдовскими чарами черных амулетов.
Под конец голова у него пошла кругом, мысли стали путаться; неожиданное избавление внушало страх.
Под воздействием томительной, жаркой ночи, в которой ощущается приближение грозы, странные и загадочные силы вступают в противоборство, оспаривая свои права на молодого спаги: могущество сна и смерти противостоит пробуждению и жизни…
Военные выступления всегда внезапны. На другой день вечером, с уложенными наспех вещами и приведенными в порядок документами, Жан стоит у борта корабля, плывущего вниз по реке. Раскуривая сигарету, он смотрит, как удаляется Сен-Луи.
Фату-гэй примостилась возле него на палубе. Со всеми своими набедренными повязками и амулетами, наскоро уложенными в четыре больших калебаса, она собралась к назначенному часу. Жану пришлось оплатить ее проезд до Дакара из своих последних халисов. Он сделал это от чистого сердца, довольный, что сможет подольше побыть с нею. Слезы, пролитые Фату, не желавшей оставаться одной, вдовьи крики, на которые она, согласно обычаю, не поскупилась, до глубины души тронули Жана, словно забывшего, что она дрянная лгунья и к тому же черная.
Сердце его переполняла радость возвращения, и он все больше проникался не только жалостью к Фату, но даже, пожалуй, нежностью. Словом, Жан вез ее в Дакар, дав себе еще немного времени, чтобы подумать, как быть дальше.
Дакар – своеобразный колониальный город, возникший на песке и красных скалах. Место импровизированной стоянки пароходов на западной оконечности Африки, именуемой Зеленым мысом.[19]19
Зеленый мыс – на самом деле этот мыс не является западной оконечностью Африки; его географическая долгота – 17°30 к западу от Гринвича, тогда как у расположенного поблизости мыса Альмади долгота 17°32.
[Закрыть] Огромные баобабы торчат кое-где на пустынных дюнах. Стаи речных скоп и стервятников парят над здешним краем.
Фату-гэй устроилась временно в хижине мулатов, заявив, что не желает возвращаться в Сен-Луи, этим пока и ограничиваются ее планы; она не знает, что с ней станется, не знал и Жан. Сколько он ни пытался, ничего придумать или найти для нее так и не удалось; к тому же закончились последние деньги!..
Утро; пароход, который должен забрать спаги, отплывает через несколько часов. Фату-гэй сидит на корточках возле четырех жалких калебасов, составлявших все ее имущество, и ничего не говорит, даже на вопросы не отвечает, в остановившихся, застывших глазах мрачное, тупое отчаяние, настолько глубокое и неподдельное, что сердце разрывается.
Жан стоит рядом и, не зная, чем помочь, смущенно крутит ус.
Внезапно дверь с шумом распахивается, и словно ветер врывается рослый спаги, вид у него встревоженный и растерянный, в глазах – волнение.
Это Пьер Буайе, в течение двух лет бывший товарищем Жана, его сосед по казарме в Сен-Луи. Оба такие замкнутые, они не любили лишних разговоров, но друг к другу относились с уважением и, когда Буайе уезжал на остров Горе,[20]20
Горе – остров в Атлантическом океане, в полутора километрах восточнее г. Дакара; в колониальные времена – французская военная база.
[Закрыть] обменялись сердечным рукопожатием.
Сняв феску, Пьер Буайе торопливо шепчет слова извинения за столь бурное вторжение, затем, схватив Жана за руки, с жаром продолжает:
– Ах, Пейраль! Я разыскиваю тебя с раннего утра!.. Послушай, давай поговорим: мне надо попросить тебя об одной важной вещи.
Только сперва выслушай все, что я собираюсь сказать, и не спеши с ответом…
Ты едешь в Алжир!.. А я, к сожалению, вместе с другими с острова Горе отбываю завтра на пост Гадьянге в Уанкарахе. Там идет война, но зато месяца через три обещают повышение, а может, и медаль дадут.
Мы однолетки, и служить нам осталось поровну. На срок твоего возвращения это не повлияет… Пейраль, не можешь ли ты поменяться со мной местами?..
Жан с первых же слов обо всем догадался и все понял.
Взгляд его затуманился, глаза расширились, словно давая выход бушевавшим в нем чувствам. Поток беспорядочных, противоречивых мыслей закружил ему голову; в мучительном раздумье он скрестил руки и опустил глаза; Фату тоже все поняла и вскочила, едва переводя дух от волнения, в ожидании приговора Жана.
А тем временем второй спаги продолжал торопливо, словно хотел помешать Жану произнести нет, которого так страшился:
– Послушай, Пейраль, ты не прогадаешь, поверь.
– А как другие, Буайе?.. К другим ты уже обращался?
– Да, они отказались. Но я это знал заранее: у них свои резоны! А ты, Пейраль, не прогадаешь. Комендант Горе принимает во мне участие и, если ты согласишься, обещает тебе свое покровительство. Мы сразу подумали (взгляд на Фату), что ты любишь эту страну… А после возвращения из Гадьянге тебя до конца срока опять направят в Сен-Луи, комендант обещал, так и будет, клянусь.
– Да мы все равно не успеем, – попробовал возразить Жан, чувствуя, что пропал, и пытаясь ухватиться за соломинку.
– Успеем!.. – поспешил обрадоваться Пьер Буайе. – Времени хватит, Пейраль, в нашем распоряжении полдня. Тебе ничем не придется заниматься самому. С комендантом мы уже договорились, документы готовы. Требуются лишь твое согласие и подпись, тогда я сразу же поеду на Горе, а через два часа вернусь, вот и все. Послушай, Пейраль, вот мои сбережения – триста франков, бери. После возвращения в Сен-Луи они тебе понадобятся, чтобы устроиться, да мало ли для чего.
– Нет!.. Спасибо!.. – отвечал Жан. – Я не продаюсь!.. И он с презрением отвернулся, а Буайе, поняв свою оплошность, схватил его за руку со словами: «Не сердись, Пейраль!» Он не выпускал руки Жана, и оба в смятении застыли, не проронив больше ни слова…
Фату сообразила, что своим вмешательством может все испортить. Она встала на колени и, тихонько бормоча черную молитву, обвила руками ноги спаги, волочась за ним по полу.
Присутствие постороннего человека смущало Жана, и он сурово сказал ей:
– Да ну же, Фату, отпусти меня, пожалуйста. Ты что, с ума сошла?
Однако Пьеру Буайе их отношения вовсе не казались смешными, напротив, он был растроган.
Тут скользивший по желтому песку луч утреннего солнца, проникнув через открытую дверь, воспламенил красную форму двух спаги, осветил их красивые, мужественные лица, выражавшие волнение и нерешительность, заставил вспыхнуть серебряные браслеты на гибких руках Фату, обвивавших, точно ужи, колени Жана, обнажил унылую убогость африканской хижины из дерева и соломы, где трое молодых, потерянных существ решали свою судьбу…
– Пейраль, – тихонько заговорил второй спаги с мольбой в голосе, – дело в том, что я родом из Алжира. Ты должен понять: там, в Блиде, меня ждут мои славные старики, у них, кроме меня, никого нет. Сам знаешь, что значит вернуться на родину.
– Ладно! – молвил Жан, сдвинув назад красную феску и топнув от нетерпения ногой. – Пусть будет так!.. Я согласен, я меняюсь с тобой и остаюсь!..
Спаги Буайе крепко обнял его и расцеловал. А Фату, по-прежнему волочившаяся по полу, вскрикнув от восторга, уткнулась лицом в колени Жана с каким-то диким звериным воем, сменившимся сначала истерическим смехом, а потом рыданиями…
Надо было спешить. Пьер Буайе исчез, как и появился, стремглав, одержимый одной лишь мыслью: доставить на остров Горе драгоценную бумагу, на которой несчастный Жан поставил свою размашистую солдатскую подпись, четкую и ясную.
В последнюю минуту все было улажено, подписано, узаконено; один багаж выгружен, другой поднят на корабль; все произошло так быстро, что у обоих спаги не хватило времени даже подумать хорошенько.
Ровно в три часа пароход отчалил вместе с Пьером Буайе на борту.
А Жан остался.
Но когда непоправимое свершилось и он остался на песчаном берегу, провожая взглядом отплывающий корабль, сердце его сжалось в безумной тоске и тревоге; Жана охватил ужас от того, что он сделал, им овладела бешеная ярость: всему виной Фату-гэй, черная девушка вызывала у него страх, ему не терпелось прогнать ее навсегда, а душа полнилась вспыхнувшей вдруг с новой силой огромной, неизбывной любовью к родному дому, к дожидавшимся его там дорогим существам, которых он теперь не увидит…
Ему почудилось, будто подписан некий смертный договор с этой мрачной страной, погубивший его безвозвратно. И Жан бегом бросился в дюны – куда глаза глядят: хотелось перевести дух, побыть одному, а главное, как можно дольше не терять из виду убегавший корабль…
Когда Жан кинулся бежать, солнце стояло высоко и палило вовсю, расстилавшиеся вокруг пустынные равнины, залитые ярким светом, поражали своим величием. Долго шагал он вдоль дикого берега по песчаным гребням дюн и вершинам красных скал, чтобы видеть как можно дальше. Сильный ветер проносился над его головой, волнуя безбрежные просторы океана, где все еще виднелся пароход.
Голова гудела от мыслей, и Жан не ощущал обжигающих лучей солнца.
Два года оставаться прикованным к этой стране, когда можно было бы находиться сейчас там, на корабле, и плыть по океану к родным берегам!.. Боже, что за темные силы удержали его здесь, какие чары и амулеты!
Два года! Да будет ли когда-нибудь конец этому изгнанию, придет ли час избавления?..
Жан бежал на север, вслед за плывущим кораблем, стараясь не терять его из виду. Колючие растения впивались в него, на грудь градом сыпались обезумевшие кузнечики, которых он потревожил, пробираясь сквозь высокие травы…
И вот он совсем один среди суровой природы Зеленого мыса, угрюмой и молчаливой.
Впереди давно уже маячило большое одинокое дерево – больше баобаба – с густой темной листвой; такую громадину вполне можно было принять за случайно уцелевшего гиганта допотопного растительного мира.
Выбившись из сил, Жан рухнул на песок под огромным тенистым сводом листвы и, опустив голову, заплакал…
Когда он очнулся, корабль уже исчез и наступил вечер.
Пришел вечер и принес с собой тихую, холодную печаль. В сумерках большое дерево превратилось в нечто непроницаемо-черное, возвышавшееся над беспредельным африканским одиночеством.
Впереди – уходящая в бесконечную даль спокойная гладь умиротворенного океана. Внизу – скалы, идущие уступами до самого Зеленого мыса. Унылая картина окрестностей, изрезанных ровными лощинами без всякой растительности, наводила безысходную тоску.
Сзади, со стороны глубинных районов, насколько хватал глаз, – таинственные изгибы низких холмов, далекие силуэты баобабов, похожих на мадрепоровые кораллы.
И ни малейшего дуновения в застывшей атмосфере. Погасшее солнце опускается в тяжелую мглу испарений, его желтый диск, искаженный миражем, непомерно растет… Кругом на песке дурман раскрывает навстречу вечеру большие белые чашечки; их тяжкий, болезненный аромат наполняет воздух, и без того насыщенный тлетворным запахом белладонны. Ночные бабочки садятся на ядовитые цветы. Всюду в высоких травах слышится жалобный зов горлиц.
Африканская земля утопает в смертельных миазмах, горизонт стал неясен и темен.
Позади – таинственный внутренний мир, глубь Африки, заставлявшая прежде грезить Жана… Теперь же вплоть до самого Подора или Медине, вплоть до Галама или загадочного Томбукту нет ничего, что будоражило бы его воображение.
Печали и тяготы тех мест он и без того знает или угадывает. Мысль его далеко, и вся эта страна внушает только страх.
Жан мечтает лишь об одном – избавиться поскорее от всех этих кошмаров, уехать, уехать любой ценой!
Мимо бредут африканские пастухи со свирепыми, дикими лицами, они гонят в деревни тощие стада горбатых быков.
Солнечный лик, словно бледный метеор, похожий на библейское небесное знамение, медленно исчезает. Ночь… Окрестности окутывает темное клубящееся марево, и наступает полнейшая тишина… Под сенью большого дерева – точно под сводами храма.
Жан думает о родительской хижине в такой же вот вечерний летний час, о старой матери и невесте, ему кажется, что всему пришел конец, и снится, будто он умер и никогда больше их не увидит…
Судьба его была решена, оставалось лишь следовать ее предначертанию.
Через два дня Жан сел вместо своего друга на маленькое военное судно и отправился на далекий пост Гадьянге в Уанкарахе. Дабы укрепить этот затерянный пост, туда посылали небольшой отряд и снаряжение. А в округе положение осложнялось: начались распри между негритянскими племенами во главе с алчными королями-грабителями; караваны больше не появлялись. Полагали, что волнения улягутся к концу сезона дождей, и Жан надеялся, что через три-четыре месяца, согласно обещанию, данному спаги Буайе комендантом Горе, его снова направят в Сен-Луи, где он и дослужит свой срок.
На маленькое судно набилось много народа. Фату, настойчивостью и хитростью получившая разрешение, тоже пробралась на корабль, выдав себя за жену черного стрелка, и следовала вместе с другими, прихватив четыре калебаса со всем своим скарбом.
На борту находились и спаги – около десятка – из гарнизона Горе, которых направляли на один сезон стать лагерем в глухом краю. А кроме них, двадцать туземных стрелков с семьями.
Причем семейства у них, надо сказать, были прелюбопытные: по нескольку жен и детей на каждого; в качестве пропитания везли просо в калебасах; одежда и посуда тоже помещалась в калебасах; среди груза была еще груда амулетов и куча домашних животных.
При отплытии на борту поднялась ужасная суматоха, началась давка. На первый взгляд казалось, что с такой массой людей и вещей никогда не разобраться.
Однако вскоре все уладилось; через какой-нибудь час пути пассажиры превосходно разместились и успокоились. Завернувшись в набедренные повязки, негритянки мирно спали на полу на палубе, тесно прижавшись друг к другу, словно рыбки в консервной банке, а корабль плыл себе потихоньку на юг, углубляясь постепенно в еще более жаркие, голубеющие дали.
Спокойная ночь в тропических просторах океана.
В абсолютной тишине слышен даже самый легкий шелест ткани; временами на палубе стонет во сне какая-нибудь негритянка, людские голоса кажутся нестерпимо громкими.
Теплое оцепенение сковало все вокруг. В застывшей атмосфере – поразительная неподвижность уснувшего мира.
Молочного цвета фосфоресцирующий океан кажется огромным зеркалом, отражающим ночь с ее раскаленной прозрачностью.
Можно подумать, будто два зеркала глядятся друг в друга, до бесконечности повторяя свое отражение, а вокруг – пустота: горизонта не видно. Вдалеке водная гладь и небеса сливаются воедино, растворяясь в неясных, бесконечных, космических глубинах.
Луна – огромный огненно-красный шар без лучей – висит совсем низко, утопая в сероватом, светящемся тумане.
В доисторические времена, до того, как свет был отделен от тьмы, все, должно быть, пребывало в таком же точно спокойном ожидании. Минуты передышки между творениями хранили, верно, такую же невыразимую недвижность, пока миры еще не сгустились, а свет был рассеянным и неопределенным, пока нависшие тучи состояли из несотворенных в ту пору свинца и железа, а любая вечная материя сублимировалась нестерпимым жаром первобытного хаоса.
Они уже три дня в пути.
С восходом солнца все тонет в ослепительно золотом сиянии.
На четвертый день заря высветила на востоке длинную зеленую линию – сначала тоже золотисто-зеленую, но потом окрасившуюся таким невероятно изысканным и чистым зеленым цветом, что ее, казалось, начертали китайской краской, позаимствованной у мастеров, расписывающих веера.
Эта линия – гвинейский берег.
Добравшись наконец до Дьяхаллеме, корабль с отрядом спаги входит в широкое устье реки.
Здешний край оказался таким же плоским, как Сенегал, но с иной, вечнозеленой природой.
Всюду – буйная экваториальная растительность, хранящая неувядаемую молодость изумрудно-зеленая зелень: такой цвет недоступен нашим деревьям даже при сверкающем свете июньских дней.
Вокруг, насколько хватает глаз, на редкость однообразный, нескончаемый лес, отражающийся в неподвижной теплой воде, – нездоровый лес с влажной землей, кишащий пресмыкающимися.
Страна эта тоже печальна и молчалива, но после песков пустыни глаз тут отдыхал.
В деревне Пупубаль, что на реке Дьяхаллеме, корабль остановился: подняться выше он не смог.
Пассажиров высадили дожидаться лодок или пирог, которым надлежало доставить их к месту назначения.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































