Текст книги "Судьба"
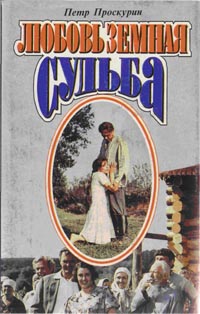
Автор книги: Петр Проскурин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 45 (всего у книги 61 страниц)
Сокольцев знал, что умирает, и боялся больше всего теперь показаться безобразным, немощным и жалким; пожалуй, он уже перешел через грань страха, страха исчезновения, ему только хотелось, чтобы это произошло быстрее, уж очень сильно мучила боль. Темные беспросветные провалы в сознании чередовались с разноцветными кусками удивительного бреда, когда он, казалось, жил в опрокинутом, ирреальном, мире. Лес рос корнями вверх, люди плавали в зеленом, пронизанном мглистым светом полумраке, в медленных водорослях шевелились невиданные красногубые существа с единственным глазом посредине тела; Сокольцев уже начинал думать, что его окружает тот мир, в который он вот-вот вступит, он должен был привыкнуть, приучить себя к нему, Ему сейчас никто не был нужен рядом, и он, открывая глаза и видя Аленку, сердился, его все время мучила мысль, что она видит его в бессознательном состоянии, она, живая, могла смотреть, чувствовать; она должна была понять и уйти, она ведь все равно не могла ему помочь. И потому он совершенно бессознательно испытывал к ней особую враждебность; он уходил, она оставалась, и между ними все больше увеличивалась полоса отчуждения и неприязни, да, да, он уходил, но зачем ей нужно видеть это? Этого нельзя было видеть и незачем, пусть бы он ушел от нее сильным. «Зачем же так сделано в жизни, что она должна видеть, как мне не подчиняется собственное тело, одни лишь руки чуть шевелятся, да еще голову можно слегка поворачивать. И потом, эта боль убивает меня, я уже не могу ее больше терпеть, это жестоко с их стороны, они же знают, что я умираю, отчего же не оборвать сразу? И она видит, как я страдаю, – подумал он об Аленке, – почему же она не догадается как-нибудь помочь? Впрочем, я, кажется, еще не сказал ей слова, но у меня и не хватит на это решимости, я почему-то боюсь ее сейчас. Если бы она поняла, что нужно помочь и уйти, попрощаться со мной и уйти, мне сразу стало бы легче». Он подумал, как ей показать это, но старое мучительное состояние, словно у него из тела вытаскивали все какими-то раскаленными щипцами, опять ударило в него; перед глазами ничего, кроме раскаленной прозелени, не осталось, его подняли громадные руки и совали в раскаленную рыжую пасть, он отбивался и кричал, затем все выключилось на время, и когда перед ним опять замелькали какие-то рваные куски, облака, возникло, укрепилось и долго держалось чувство полета. Ветки секли ему лицо, и он все пытался прикрыться от них; его быстро, безостановочно несли по лесу, и люди были чужие, ни одного знакомого, только Костя Чемарин все мелькал где-то в отдалении, его никак нельзя было надолго поймать глазами. Что-то опрокинулось над ним, мутная пелена закрывала небо из конца в конец, и он с невольным содроганием подумал о близком завершении всего, тяжко ему стало и нехорошо от этой мысли, и он очнулся совсем и увидел над собой чье-то лицо. Он глядел на него с неприязнью, не узнавая, лицо расплывалось и дробилось в глазах; уже опять расползалась по всему телу боль. Он с огромным трудом поднял руку, отчего боль в нем еще увеличилась, только предельным напряжением он удержался в сознании, и от этого боль чуть-чуть отпустила; он слепо ощупал руками лицо Аленки, по прежнему видя его недостаточно ясно, и получилось это как-то не по-мужски; и она с мучительным перебоем сердца поняла, что и руки у него уже умирают.
В это время он отчетливо позвал ее, она опустилась на колени, чтобы быть ближе; у нее уже тоже наступила примиренность с тем, что произошло и должно было еще произойти; между ними пролегла черта, за ней кончалось вмешательство и власть живого, и ей уже и самой хотелось уйти, оставить его одного, только странная уверенность, что этого нельзя делать, удерживала ее.
– Аленка, – сказал Сокольцев, и она впервые увидела его прояснившиеся глаза. – Я очень, очень люблю тебя, знай это всегда… Ты сейчас уходи… уходи, – повторил он, и она сразу поняла, что это его желание нельзя не выполнить; жалость к себе и нежность к нему заставила ее заплакать, и она взяла его руку и стала целовать горячими, мокрыми от слез губами, целовала и плакала, и он и она понимали, что это и есть последнее прощание.
– Как же, Алешка? – робко спросила она, сводя пушистые детские брови, и Сокольцев нахмурился от этого знакомого и уже ненужного напоминания.
– Не надо, – отчужденно попросил он, – ничего не надо…
Он хотел смягчить свои слова и сказать ей, чтобы она успокоилась теперь и не думала о нем много, а если посчастливится встретить хорошего человека и стать близкой с ним, как это было у них, пусть у нее обязательно родятся дети, вот только война бы окончилась, но он и этого не стал говорить. Все это случится и без его слов, и говорить об этом не стоит, и зря она плачет. Она почувствовала его враждебность, поднялась с колен, хотела выйти, но какая-то сила приковала ее к месту; его взгляд не отпускал, и она вначале не могла понять, о чем он просил и что требовал, и когда поняла, в ней, в ответ на его пристальный, глубокий и требовательный взгляд, лишь отдаленно напоминающий прежнего Алешу, которого она знала и любила, поднялась и затрепетала последняя и высшая мера любви, ей показалось, что она сейчас умрет; эту меру нельзя было переступить, но он требовал именно этого, в глазах его было то, чему нельзя было противиться. «Нет! Нет! Нет!» – немо и беспомощно запротестовала она, и все ее существо превратилось в один сплошной мучительный крик; не в силах оторваться, она следила за его что-то ощупывающими, бессильными руками, в них уже чувствовалось то безобразное и жалкое, что должно было окончательно раздавить его. «Милый, родной мой… прости», – задохнулась она, не это было ему нужно сейчас, и она, помедлив, стремительно вышла, ей показалось, что это его посветлевший взгляд подхватил ее и вынес из-под навеса. Она не разрешила себе оглянуться; зелень и солнце, мягко шелестящий в листве ветер только резче напомнили ей, подчеркнули его отрезанность от всего живого; быстрыми шагами она прошла к палатке, где хранился весь партизанский запас медикаментов; Аленка не знала, зачем она хотела увидеть врача, и, подходя к палатке, с закрытой стороны, услышав медленный, скрипучий голос Ивана Карловича, остановилась.
Разговаривали трое; Ивана Карловича и командира отряда Горбаня она узнала, но третьего так и не смогла угадать.
– Морфия у нас нет. – Голос Ивана Карловича, как всегда в трудные минуты, неприятно заскрипел. – Снять боль, дать ему хотя бы короткие передышки нечем. Мучается ужасно, что я могу, я тоже не бог, самый посредственный уездный лекарь.
– Сколько еще он может продержаться? – спросил Горбань после недолгой паузы.
– Сутки, не больше, адские для него сутки будут.
– Эк ты, доктор, каркаешь, каркаешь! – недовольно отозвался Горбань. – Все-таки сильный парень, гляди, может, у него и остался какой-нибудь запас…
– Человек, разумеется, система со многими неизвестными. – Иван Карлович помолчал. – Но на этот раз абсолютно исключено. Там возле него непрерывно девочка, Лена Дерюгина, если вы хотите с ним проститься, поспешите, Василий Антонович, он почти все время без сознания.
– Пойдем, – сказал после долгой паузы Горбань, и Аленка, слушавшая до сих пор замерев, нашла в себе силы скользнуть в молодую березовую заросль, затаиться. Услышанное не то чтобы явилось для нее новостью, она и сама знала, что Сокольцев умирает и умрет; другая мысль ее поразила. Она сколько времени сидела с ним рядом и мешала ему, он мужчина и все время старался не показать ей своего страдания, а ведь, оказывается, Алеша прав, он хочет уйти сильным, вот теперь и поставлена последняя точка, уже не будет никого и ничего. Он был и останется для нее высшей наградой в жизни, она теперь знает, что и сама умрет, без него весь мир пуст и не нужен. Она еще может кое-что сделать для него… через ее руки прошли десятки и десятки раненых, и она знает, что такое боль и что такое смерть.
Аленка зашла в палатку Ивана Карловича; она знала здесь все, ее часто посылали сюда за лекарствами и перевязочными материалами; она приподняла на топчане подушку, набитую сухим лесным мхом, и взяла небольшой пистолет; Иван Карлович вечно бросал его и никогда не носил с собой. «Эта штука не очень тяжелая, – подумала она, пряча пистолет в карман юбки, – с ней легко справиться. Я обещала это сделать, – сказала она, заставляя себя не думать ни о чем постороннем, – совершенно безразлично, что будет после, я должна…»
Какая-то черная тень мелькнула перед нею; она прикрыла глаза, постояла, удерживая в себе поднявшуюся волну, и выбралась из палатки; она еще раз должна увидеть Алешку, без этого ей нельзя. Кто-то о чем-то ее спросил, она не ответила; подождав, пока от Сокольцева выйдут командир отряда и Иван Карлович, она проскользнула к нему; Сокольцев опять лежал в бреду, и лицо у него было бледное и влажное, невероятно густо заросшее светлой щетиной. Когда он на минуту затих, она неловко поцеловала его куда-то в висок и еще раз возле носа; жилы на шее и в висках у него взбухли. Аленка в последний раз, но уже отрешенно, окинула его лицо, внутри у нее все задеревенело, еще нужно было положить пистолет, выбрать место и положить так, чтобы он сразу увидел, как только очнется и сможет дотянуться. Она и в мыслях уже не могла назвать его Алешей или Сокольцевым, она теперь называла его отвлеченным и пугающим «он», как нечто, ничему и никому больше не подвластное. Та, что действовала в Аленке вместо нее самой, расчетливо и точно выбрала такое место и замирающей рукой положила пистолет Ивана Карловича прямо перед невидящими, широко открытыми глазами Сокольцева. Он сейчас должен очнуться, сказала та, вторая, что была в ней, вот, губы дрогнули и глаза проясняются, и тебе нужно уйти, тебе уже здесь делать нечего. И она вышла из палатки на негнущихся ногах и увидела перед собой Настю Огурцову, увидела как-то далеко, в каком-то красноватом тумане.
– Не ходи туда, не надо. – Строго посмотрев на подругу, Аленка остановилась, загораживая дорогу. – Туда сейчас нельзя, Настя.
– Меня Иван Карлович послал посидеть, – сказала Настя, пугаясь совершенно неподвижного белого лица Аленки и ее незнакомого, холодного голоса. – Мне Иван Карлович говорит, сходи, будь там, товарищ Огурцова…
– Там никому нельзя быть, – повторила Аленка так же строго и отчужденно, не допускающим возражения голосом, и Настя не выдержала, оглянулась.
Хлопнул выстрел, сухой, слабый, у Аленки так велико оказалось напряжение в нестерпимом ожидании этого единственного в мире звука, что весь лес рухнул вокруг, и в совершенной черной глухоте она услышала пронзительную поющую ноту, какой-то невыносимый, сбивающий с ног свист. Настя закричала, и Аленка стиснула уши ладонями и, покачиваясь, пошла прочь, мимо старых берез с облохматившейся корой, во многих местах содранной партизанами на растопку костров. Одним ударом столбы, державшие мир, были выбиты, и все рушилось вокруг нее; Аленка шла, и оттого, что на ее лице приклеилась улыбка, казалось, что она спешит па нужному и приятному делу; и все же чьи-то сильные руки схватили ее, и она слепо стала отбиваться. Потом поняла, что все это лишь мерещится ей, и она, потирая зашибленные кисти рук, пошла дальше; зеленый сумрачный мир тянул ее. Сзади послышались тревожные голоса, вразнобой выкрикивали ее имя, звали, а ей уже некуда и незачем было возвращаться. «Зачем они меня зовут, – подумала она, – такие чудные, ведь уже ничего нет, и все куда-то летит, летит, и ничего нельзя остановить». Да ведь не лес это, а просто зеленый, зеленый, зеленый сон, вот она во сне идет, и сама не знает куда. Но и идти она больше не может, ей нужно сесть или лечь, вот как раз и мох, ноги выше щиколотки тонут, точно перина, господи, до чего же просто, лечь и закрыть глаза, ничего не видеть, ни о чем не думать, ничего не знать. Кто она? Да никто, и зачем, зачем все это, зачем ее жизнь, когда уже ничего больше нет, и ее больше нет. Несчастный маленький комочек, ну, конечно, так оно и должно было быть, это наказание. Непомерно жесток кто-то, кто придумал такую муку в расплату за каплю радости, за одну кроху счастья…
Подняв голову, она прислушалась, затем вскочила, и лицо ее загорелось безумной надеждой; это все ведь неправда, сейчас она вернется в лагерь – и Алеша живой, и никакого выстрела не было. Не было! Не было! – протестовало в ней, просто ей привиделось, приснилось или она заболела; да и как она могла такое сделать, ведь он может остаться жить, выздоровеет, вот и Горбань говорил, что у Алеши еще остался запас, что он сильный, никак нельзя было этого делать. Что она, с ума сошла?
Аленка не помнила, как ударилась о землю, и, только очнувшись, сразу почувствовала сильно болевшее плечо, и ей очень хотелось заплакать.
Над ней высилась сосна, высокая, красноватая от рассеянного по лесу солнечного света; Аленка случайно взглянула туда, вверх, и ей впервые стало невыносимо страшно, но она все равно не могла заставить себя заплакать. Когда она на другой день появилась в лагере, навстречу ей первым делом попался молодой здоровый парень и сказал, может, по простоте душевной, а может, думая этим утешить, чтобы не очень-то она убивалась, что она еще молодая… и тут же споткнулся и отступил в кусты. Если бы у нее в руках что-нибудь было, она, не раздумывая, тут же застрелила бы его; ударить или что-либо сказать у нее не было сил; увидев перед собой Игната Кузьмича, она молча ткнулась в его бороду и забылась; он увел ее от любопытных взглядов, усадил на траву и сам приютился рядом и, помолчав, вздохнул.
– Ты, Аленка, главное пойми, – сказал он со свойственной ему медлительностью. – А главное – оно в том, что человек только гость на земле, пришел и ушел, а за ним другой, третий придет. Ты о себе сейчас не думай, нехорошо о себе подряд думать, ты малая птаха, крылышками потрепещешь, воздух возмутишь, а он, гляди, тут же и затихнет. Вот ты о чем подумай. Мы все идем, идем, и каждый о себе превосходительно думает, а в мире-то все равно тишина. И до нас тихо, и после нас тихо, ты прислушайся-ка, прислушайся… а?
– Не понимаю ничего я, дед, – сказала она, глотая подступившие слезы и чувствуя боль в горле.
– Тут понимать нечего, – задумчиво сказал Свиридов. – Он ушел, а тебе еще жить намечено, вот и живи. Тебе за него немцев хорошенько отдарить надо. Уж такая у вас бумага с печатью случилась, в разные стороны.
Несколько дней после этого разговора Аленка избегала Игната Кузьмича, и он, чувствуя это, не подходил к ней; Аленка была безразлична к жизни отряда, к себе и делала свою работу больше по привычке, как машина. Она уже много раз хотела пойти к Горбаню или к комиссару и сказать им, что это она виновата в смерти Сокольцева, и рассказать им все, как было, и в такие моменты задумывалась и, уронив руки, ничего не слышала и не видела, и Ивану Карловичу приходилось повышать голос, чтобы пробудить ее; Ивану Карловичу иногда хотелось подойти к ней и по-отцовски бережно погладить по голове, так она была одинока в своем горе и отгорожена от всех, и однажды он так и сделал, и Аленка не отстранилась.
– Не надо, Лена, – сказал Иван Карлович, гладя ее мягкие волосы. – Жизнь и смерть идут рука об руку, война лишь усиливает эту трагическую нерасторжимость. Ты старайся не думать сейчас, это долго будет болеть, по себе знаю, привыкать ко всему придется заново. Я ведь, Лена, очень, очень старый, все понимаю. Одна беда, вы же знаете, говорю, мою старческую рассеянность, наверное, бросил там этот проклятый пистолет, забыл…
Аленка, немигающе глядя на него, все отодвигалась и отодвигалась; лес шумел молодо и зелено, торжествующий и вечный лес был вокруг, и это, как-то мгновенно отозвавшись и запечатлевшись в Аленке, родило нестерпимо пронзительную муку сердца; продолжая пятиться, загораживаясь от Ивана Карловича рукой, она умоляюще глядела на него. И он понял, что она просит его ничего не говорить ей больше и не подходить и что ей невыносимо не от его слов и участия, а оттого, что он по доброте душевной поспешил.
6Брюханов приехал в расположение отряда Горбаня недели через две после смерти Сокольцева, нужно было уточнить маршруты предстоящего рейда на Украину, к самым границам Польши. Брюханов только что прилетел из Москвы, с совещания секретарей подпольных и партизанских обкомов, на совещании присутствовали Сталин, Калинин, Ворошилов, Пономаренко и были намечены дальнейшие пути усиления партизанской борьбы; Брюханов вернулся посвежевший, подтянутый; он наконец получил известие от матери, эвакуированной в Ташкент, но главное, в нем словно обновилась самая сердцевина; в Москве он почувствовал не только один свой край, а усилия всей страны, простершейся так огромно, что действительно только фанатик мог решиться сделать попытку поработить и захватить ее. Одним словом, несмотря на постоянные передвижения, на массу всяческих дел, в которых, хочешь или нет, приходилось участвовать, на хроническое недосыпание, Брюханов вернулся назад в приподнятом состоянии и почти сразу же, не остыв от впечатлений, появился в отряде Горбаня, и сейчас, слушая этого подвижного и нервного белоруса, его категорические «нельзя» и «вообще немыслимо», он про себя как-то даже благодушно улыбался, сам он определенно знал, что все это можно и, самое главное, необходимо выполнить, и решение должно быть выработано еще сегодня до утра, до его встречи с более широким кругом людей. И Горбань скоро понял, что рейд отряда к границам Польши утвержден свыше; теперь, если было вообще возможно что-то определять и планировать вперед хотя бы на час войны, нужно было только отстоять более конкретный путь рейда, по его, Горбаня, мнению, более безопасный для отряда. Но еще тверже он знал другое: если сейчас полным хозяином положения является Брюханов, как секретарь обкома и представитель Главного партизанского штаба, то, уже выйдя в рейд, он, Горбань, станет свободным в случае острой необходимости принимать решения, даже противоположные тем, которые они утверждают здесь и рассчитывают. Рейд отряда намечался вначале на запад, с резким поворотом на юг, мимо Чернигова и Нежина; перерубая и выводя из строя все встречающиеся железнодорожные пути, нужно было выйти к старой границе СССР с Польшей и двинуться вдоль нее к северу и при первой необходимости уйти в белорусские леса и болота.
В разговоре принимал участие и комиссар отряда, секретарь Вырубежского райкома, тоже хорошо известный Брюханову по довоенной работе, Гаврила Тарасович Сидоренко, – с мягким, рокочущим басом, любивший свои родные украинские песни, особенно «Ой за гаем, гаем». Он был сейчас в форме батальонного комиссара, она была ему маловата и не шла, сильные кисти рук торчали из коротких рукавов; он отчаянно пытался скрыть зевоту, не спал ночь и устал от трудного ночного перехода; лошадь, на которой он возвращался с собрания в одном из сел, сломала ногу, ее пришлось пристрелить. Стараясь взбодрить себя махоркой, он почти непрерывно курил, от этого в лице у него начала проступать какая-то прозелень, и Горбань, несколько раз недовольно посмотрев в его сторону, оторвался от карты и сказал, чтобы он бросил курить и что от него уже горечью несет, рядом сидеть невозможно. Сидоренко ничего не ответил, затер окурок подошвой и вздохнул; он отлично знал мнение командира отряда о рейде и поэтому представлял себе состояние Горбаня; но так же, как и Горбань, он понимал, что хотят они или не хотят, а им придется выполнять намеченное. Все устали, и голоса доносились как-то глухо, словно издалека.
– Вот что удивительно, – сказал Сидоренко, прислонясь к широкому и уже затертому стволу старой липы, под которой он сидел. – Я на этом собрании впервые обратил внимание на детские лица. В первый раз с начала войны. Слушают старики, женщины, хорошо слушают, и среди них – дети, и вдруг вижу, что это совершенно другие дети. У них лица не детские. Хлопчики со взрослыми лицами. Вот как всех нас причастила война.
И Горбань и Брюханов одновременно подняли головы, и оба стали задумчивы и серьезны.
– Да, это верно, – после паузы сказал Брюханов, постукивая карандашом по планшету. – Человек так уж скроен, вероятно, трудно определить в нем точку равновесия между его бытом и его общественной, социальной деятельностью. У нас сейчас большие дела, думать о себе не приходится, а ведь так хочется иногда чего-то совершенно простого, ну посидеть где-нибудь в саду в расстегнутой рубашке, с папиросой и газетой. Никуда не спешить и чтобы музыка играла негромко так, приглушенно, вальс «На сопках Маньчжурии»…
Брюханов, чувствуя, что говорит длинно и многословно, и чувствуя ненужность этого многословия здесь, все не мог остановиться; запнувшись на полуслове, он сдвинул брови. Нельзя было много говорить сейчас, в мир пришли иные измерения; он с облегчением вздохнул, когда, мельком взглянув в лица, не заметил в них ни затаенной усмешки, ни желания отвести глаза в сторону. Горбань подождал, не скажет ли Брюханов еще чего, и с сожалением пододвинул к себе бумаги; короткая передышка кончилась, он про себя уже подсчитывал, сколько чего необходимо будет взять с собой, сколько запасти хлеба и патронов, сколько нужно лошадей и повозок, и как все увязать между собой; он опять склонился к столу, пробегая глазами списки.
– Как минимум, товарищ Тихонов, – обратился он к Брюханову, называя его подпольной кличкой и тем подчеркивая официальность своего обращения, – мне необходимо хотя бы еще сто подвод с лошадьми. Я прикинул, у меня годных для рейда наберется не больше семисот человек, давайте утрясать.
– Думаю, роту автоматчиков мы тебе подбросим, отберем в соседних отрядах лучших ребят. – Брюханов, возвращаясь к делу, с молчаливым одобрением отметил, что Горбань за последние месяцы во многом переменился, стал посуше, в нем появилась не сразу заметная внутренняя уверенность и значимость, столь необходимая в постоянной ответственности за жизнь людей. – Насчет подвод и лошадей, Василий Антонович, тоже решим, я думаю, лошадей сто пятьдесят добудем. Не без труда, правда… остальным отрядам в пределах Холмщины и соседних областей предстоит выполнить свое; начинаем не единичную и бессистемную, а повсеместную, одновременную и беспощадную войну по дорогам и коммуникациям врага. На данном этапе это главная наша задача. Идет крупнейшее немецкое наступление на юг и к Волге, немцы вышли в район Сталинграда…
Брюханов скользнул взглядом по лицам сосредоточенно слушавших его людей, хотел продолжить; какой-то шум невдалеке помешал ему, Горбань недовольно оглянулся. К ним подошли трое: молодой партизан, без фуражки, с кудрявой, давно не стриженной головой, Аленка, с бледным, жестко замкнувшимся лицом, и третий, командир роты Ковалев – мужчина лет сорока, туго застегнутый широким ремнем с медной бляхой и в хороших, вычищенных до блеска сапогах; кудрявый парень, заливаясь густым румянцем, опустил голову, и тогда Горбань недовольно спросил:
– По какому делу, Ковалев? Другого времени не могли найти?
– А я при чем, товарищ полковник? – быстрой скороговоркой зачастил Ковалев. – Она же его, друга сердечного, чуть-чуть не пришила, если бы я не вывернулся, тут бы ему и концы отдать.
– Подумаешь, краля, с ней и пошутить нельзя, – угрюмo сказал парень, встряхивая спутанными густыми кудрями и по-прежнему глядя в землю, явно уверенный в своей правоте. – Пущай в монастырь поступает…
– Я тебе покажу монастырь! Я тебе дам монастырь! – внезапно тоненько закричал Горбань, и кровь у него быстро подступила к щекам. – Стрекулист! Твои шутки известны, мне уже жаловались однажды. Здесь тебе не кобелиная свора. Хватит! – оборвал он, предупреждая малейшую попытку возражения. – Идите! А ты, Сидоренко, – повернул он сухую, легкую голову к комиссару, – займись ситуацией. Иди, Хмелев, после вызову.
Кудрявый парень еще потоптался на месте, нерешительно откозырял, сказал «есть», повернулся по строевому и пошел, покачивая молодым, гибким телом; Брюханов проводил его глазами и опять стал смотреть на девушку, лицо которой показалось ему знакомым, даже беспокоящим, только он никак не мог припомнить, где он мог видеть ее.
Отпустив командира роты Ковалева, Горбань устало помолчал, с некоторой, неожиданной для себя неприязнью присматриваясь к отчужденно стоявшей в стороне Аленке.
– Садись, Дерюгина. – Он отодвинулся от края скамьи, и когда она безразлично села, сложив тонкие руки у себя на коленях, он понял, что все его слова бессильны, нелепы и не нужны для нее, но по нелепому же и необъясненному закону он должен был что-то сказать. – Понимаешь, Дерюгина, война это война, она не спрашивает, кого убить, кого оставить. Хмелев, конечно, тупой парень, с другой стороны, – хороший партизан, ну, молодой, понимаешь… Ты на него не сердись, Дерюгина, не надо, он не виноват.
– Сейчас я уже не сержусь, – сказала она, – а еще полезет – застрелю. Ведь они дружками с Алешей были…
– Ну, это ты брось, Дерюгина. – Горбань придавил рукой зашелестевшие от ветра бумаги, собрал их, сложил и спрятал в сумку; он сейчас по-прежнему больше думал не о словах Аленки, а о предстоящем рейде, эту работу в голове уже нельзя было остановить. – Что делать, – опять, сказал он, – каждому свой ум не вложишь, мы Хмелева сами накажем… Я понимаю, но жизнь-то, она…
– Не нужно, товарищ полковник, никого наказывать, хлопцы у нас хорошие, а кого надо, сама проучу, – отозвалась Аленка неохотно, и Брюханов мгновенно вспомнил Густищи и Захара Дерюгина и последний с ним разговор и глядел на Аленку удивленно встрепенувшимися глазами, точно, говорил он себе, именно ее я видел несколько лет назад босоногой девчушкой у Захара, она как раз тащила куда-то голозадого мальца, а тот орал благим матом, сучил грязными ножонками, и потом видел ее перед самой войной, уже сильно подросшей, когда Захар рубил себе новую избу. Это далекое воспоминание мелькнуло размазанно и неясно, и Брюханов с жалостью подумал, что в ее тихом, остановившемся лице жизнь словно бы никак не могла пробиться, хотя и была где-то совсем рядом, и почувствовал еще большее волнение; все-таки много воды утекло, если дети на глазах успели стать взрослыми.
– Простите, – сказал он, стараясь припомнить какие-нибудь памятные и ей подробности, – значит, вы Лена Дерюгина, дочь Захара…
В его словах не было ни вопроса, ни утверждения, и Аленка промолчала; ее почему-то раздражал этот свежий, высокий мужчина с хорошим чистым лицом; она-то вспомнила его с самого начала, едва увидев, вспомнила и опять забыла, как нечто ненужное, постороннее и мешающее.
– Вы, возможно, не помните меня, – сказал Брюханов, невольно стараясь понравиться ей. – Я к вашему отцу часто наезжал, особенно когда его председателем выбрали. Да-а, а я вот вас помню, на глазах выросли.
Чувствуя ее недоброжелательство, Брюханов внутренне невольно старался его преодолеть, у него даже голос помягчел; Аленка молчала, и было непонятно, слышит ли она его вообще.
– Мы с вашим отцом еще в гражданскую с белополяками да с врангелевцами рубились, – сказал Брюханов со странным чувством какой-то непреодолимой преграды перед собой, словно стучался в плотно закрытую, глухую дверь, стучался и не мог достучаться, хотя знал, что за этой дверью притаилась живая душа. – Вот в таком же примерно возрасте, как вы сейчас… Что-нибудь известно об отце?
При его последних словах Аленка точно очнулась, она в самом деле почти не слышала Брюханова; знает отца, и ладно, подумала она, с отчаянием удерживая слезы, что ж такого? Молчал бы себе, не лез, никто на свете не хочет ее понять.
Она некрасиво сморщилась, отвернулась, ей ни о чем не хотелось думать, и хотя отец представлялся таким же далеким и нереальным, как и остальные, между ней и Брюхановым все-таки установилась своя, особая, связь, не такая, как с другими; у Аленки и правда с самого начала появилась в отношении его какая-то непонятная враждебность, ей показалось, что она больше не в силах слышать его голос. «Зачем, зачем он мне все это говорит, – думала она, – отец, какие-то врангелевцы, какой-то колхоз». Да, но она должна себя пересилить, нехорошо, ведь это не они убили Алешу, не их вина, теперь многих убивают, они же не виноваты, что она еще живая, уж лучше бы и ей закрыть глаза и чтобы ничего больше не было.
Она встала, одернула гимнастерку, стараясь выровняться в плечах и груди.
– Товарищ полковник, – сказала Аленка, официально подчеркнуто обращаясь к Горбаню, – пошлите меня куда-нибудь на задание, не могу я тут больше…
Стиснув руки на груди, она хотела добавить что-то еще, но голос сорвался, и она, справившись с собой, лишь спросила, можно ли ей идти, и пошла, тонкая и высокая.
– Вот видишь, любила, значит, – сказал Сидоренко неизвестно кому и стал закуривать; Горбань молча склонился над картой, Брюханов, хмурясь, неожиданно предложил;
– Послушай, полковник, давай-ка Дерюгину к нам в штаб, надо ей сменить обстановку. На новом месте она скорее в себя придет, забудется, тут ей все парня-то этого будет напоминать.
Горбань на минуту замешкался, хотел возразить (Брюханов видел это по его лицу), потер горбинку носа; в сущности, сейчас один человек, любой человек, мало что значил, да и не время было думать о каждой отдельной судьбе; ему даже в некоторое удивление была слабость Брюханова, ну, несчастье, ну, дочь старого дружка, впрочем, все эти связи и есть самое главное, на них держится основное в жизни, внезапно подумал он, противореча себе же и с трудом пытаясь удержаться в сосредоточенности над картой, над тем хотя бы приблизительным представлением рейда, что выпал на долю его отряда, и поэтому в ответ на слова Брюханова о Дерюгиной он лишь кивнул согласно и тотчас, выпрямляя затекшую спину, вздохнул.
– Забыл сказать, Тихон Иванович, Пекарев погиб. Попросился с Сокольцевым в разведку, сколько ни отговаривали, не послушался.
– Стало быть, погиб, вот валится одно за другим, – неприятно поразился Брюханов не столько неожиданному известию, сколько тому факту, что он после первой своей короткой встречи с Пекаревым так и не выбрал времени повидаться еще раз, хотя думал об этом, все спешка, все откладывал. – Как же случилось, когда?
– Месяца полтора. – Верно связывая растерянность Брюханова с прошлым в его отношениях с Пекаревым, Горбань опять жестко отметил про себя, что такая чувствительность сейчас ни к чему. – В Белополье их застукали, в тот раз Сокольцеву удалось вывернуться, а вот Семен Емельянович до места не дотянул. Уже перед Слепней подстрелили, гнались за ними с собаками. Сокольцев успел перескочить в лес, оттуда видел все. Говорит, немцы одни ушли, в плен никого не взяли, лишь своих раненых унесли, а вот Пекарев словно сгинул, Сокольцев почти сутки потом лазил в осоке… я Сокольцеву верю, необыкновенный был парень, – закончил Горбань, достал кисет и стал скручивать цигарку.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































