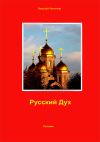Текст книги "Эпоха пустоты. Как люди начали жить без Бога, чем заменили религию и что из всего этого вышло"

Автор книги: Питер Уотсон
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Джордж Бернард Шоу, ирландец, автор примерно шестидесяти пьес, один из основателей Лондонской школы экономики, с первых дней его существования выдающийся член Фабианского общества и единственный автор, получивший и Нобелевскую премию по литературе, и Оскара (за работу над «Пигмалионом»), был и за религию, и против нее – в зависимости от определения данного термина. Он считал, что Дарвин нанес смертельный удар по христианству, но на него сильно повлияла концепция «творческой эволюции» Бергсона. Он написал книгу «Квинтэссенция ибсенизма», в которой давал свою интерпретацию Ибсена: тот стремился спасти свое поколение от материализма; он видел цель жизни в самоусовершенствовании, в стремлении к полноте; нравственность не есть нечто фиксированное, но она развивается, стандарты не бывают вечными, современная европейская литература – лучший учитель жизни, чем Библия, а цель всего – «Моцартова радость».[183]183
J. L. Wisenthal (ed.), Shaw and Ibsen: Bernard Shaw’s The Quintessence of Ibsenism and Related Writings, Toronto: University of Toronto Press, 1979, pp. 30–51.
[Закрыть]
Шоу полагал, что жизнь и «реальность» имели по сути экспериментальный характер и что сами люди были экспериментами. Традиционные религии, по его мнению, были интеллектуально нечестными и негибкими, поскольку не могли принять во внимание эволюцию с теми многочисленными вещами, что из нее следуют, в том числе в первую очередь с тем, что реальность не поддается определению и изменчива. Если эволюция встроила неопределенность в саму реальность, не могут существовать устойчивые, неизменные нравственные императивы, встроенные в жизнь, и ничто не может иметь трансцендентной ценности. В то же время он говорил: «Нам нужна религия, если мы хотим сделать что-то достойное. Если и можно вытащить нашу цивилизацию из того ужасного положения, в котором она оказалась, это сделают только те люди, у которых есть религия».[184]184
Robert F. Whitman, Shaw and the Play of Ideas, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1977, p. 23.
[Закрыть] Ему удалось примирить между собой два этих взгляда.
Шоу привлекала идея изменчивости жизни, возможность – полная надежд – на ее улучшение, и потому он стал интересоваться политикой в той же мере, в какой интересовался театром. Для него не существовало «золотого правила» – нашу жизнь следует судить по ее воздействию на саму жизнь, на нас и других, а не по ее соответствию каким-то правилам или идеалам. «Жизнь есть осуществление воли, которая постоянно растет и не может сегодня удовольствоваться тем, что казалось таким осуществлением вчера».[185]185
Whitman, op. cit., p. 36.
[Закрыть]
По мнению Шоу, жизнь не сводилась к достижению счастья. «Нет ничего невыносимее несчастья, за исключением, быть может, счастья». Сама возможность беспокоиться о том, счастлив ты или нет, думал он, гарантированно ведет к несчастью: «Непрерывные каникулы – это неплохое рабочее определение ада». Но и работу он идеализировал не сильнее прочих людей – поскольку вообще не доверял идеализации. Счастье было для него «замкнутым на себе, преходящим, стерильным и нетворческим» состоянием, а вот творчеству он поклонялся. В пьесе «Дом, где разбиваются сердца» капитан Шатовер высказывает вместе с драматургом страх перед «проклятым счастьем… мягкости и мечты вместо сопротивления и деятельности, перед сладким вкусом плода, который скоро начнет гнить».[186]186
Ibid., p. 37.
[Закрыть]
Если бы у Шоу был лозунг или девиз, он звучал бы так: «Использование – это жизнь». Он снова и снова повторял, что «не видит великой цели» ни в погоне за своим счастьем, ни в стяжании добродетелей. Но он часто говорил о смысле жизни в «использовании»; он даже считал, что его «используют» какие-то непонятные силы ради великих целей – он был последователем Бергсона и, возможно, именно так интерпретировал действие élan vital. Традиционно такие чувства предполагали преклонение перед каким-то божеством, но Шоу утверждал, что традиционный бог христиан есть лишь одна из разновидностей идеализма.
Эту мысль лучше выражает Дон Жуан в пьесе Шоу «Человек и сверхчеловек»: «Для меня религия сводится к простому оправданию лени, поскольку признает бога, который посмотрел на этот мир и решил, что он хорош, что противоречит моему восприятию: я гляжу на мир и вижу, что его можно сделать лучше». Из этого естественным образом следует представление Шоу о грядущей жизни: это не «вечность в состоянии блаженства, где активный человек начал бы скучать до новой смерти», но «лучшая грядущая жизнь для всего мира».[187]187
Ibid., p. 41.
[Закрыть] Очевидно, что здесь он придерживается тех же взглядов, что и прагматисты.
В 1895 году он писал своему другу Фредерику Эвансу, лондонскому продавцу книг и фотографу-любителю: «Я хочу написать большую книгу о религиозности для современных людей, где все истины, спрятанные в старинных догматах, соприкоснутся с реальной жизнью, – это фактически будет евангелие от Шоу… Говорят, что я есть голос смеющегося в пустыне. Это справедливо, если думать, что я готовлю путь для чего-то получше». Шоу ставил перед собою цель помочь людям «увидеть нечто лучшее и захотеть это реализовать в жизни».[188]188
Ibid., p. 42.
[Закрыть] К этому же пришел и Бергсон. В предисловии к книге «Назад к Мафусаилу» (1920) Шоу говорит: «Я всегда понимал, что цивилизации нужна религия, и это для нее вопрос жизни и смерти, а по мере развития концепции Творческой Эволюции я увидел, что нам доступна вера, соответствующая первому условию существования всех религий, какие только знает человечество, а именно, что это будет в первую очередь религия метабиологии. Я считаю себя служителем и инструментом Творческой Эволюции. Бог есть воля… Но без рук и мозгов воля бесполезна… Такой эволюционный процесс для меня и есть бог».[189]189
Sally Peters, Bernard Shaw: The Ascent of the Superman, New Haven and London: Yale University Press, 1996, p. 95.
[Закрыть]
Глядя в будущем, Шоу мечтал о сверхчеловеке, но его энтузиазм охлаждали два практических соображения: опыт показывал, что, если к спасению следует стремиться в этом мире, а не в грядущем (именно так он думал, несмотря на свое религиозное чувство), оно должно быть доступным для всех, а не только для горстки ницшеанцев. Он также скептически относился к ницшеанскому апокалиптическому представлению о спасении: Дарвин учил, что движение человечества к любому спасению будет совершаться через «продвижение вперед на бесконечно малые величины». Здесь у Шоу философия соответствовала политике: он был социалистом и сторонником фабианства, а также эволюционистом, верившим в постепенное, а не революционное развитие.
Однако Шоу не был полным приверженцем Дарвина. Он полагал, что люди живут лишь в той мере, в какой «участвуют в жизни сообщества», но считал естественный отбор расточительным и непрямым процессом, в то время как политика была более прямой формой адаптации к нашим обстоятельствам, и это на самом деле, утверждал он, тот механизм, который мы выработали для осуществления того, что он называл, в гегелевском смысле, волей мира.[190]190
Whitman, op. cit., p. 98.
[Закрыть] Многие герои его пьес – скажем, леди Цицели Вейнфлет, Андершафт, Цезарь, святая Иоанна – идентифицируются с «существенной жизненной силой и волей вне себя». Для Шоу важнейшим актом веры в жизнь была самоотдача, не как отвержение себя или самопожертвование в христианстве, но как творческий долг. Воля занимала здесь центральное место еще и потому, что прогресс познания и цивилизации не улучшает положения вещей, он просто порождает новые нужды и с ними вместе – новые страдания и новые формы эгоизма. Так что воля здесь «по-прежнему нужна».[191]191
Ibid., p. 109.
[Закрыть]
В другом месте он писал: «Мир ожидает Человека, который избавит его от неумелого и ограниченного правительства богов».[192]192
A. M. Gibbs, The Art and Mind of Shaw, Basingstoke: Macmillan, 1983, pp. 32ff.
[Закрыть] Но одновременно Шоу готов честно признать, что «точная формула Сверхчеловека… пока еще не найдена. А пока этого не случилось, каждое рождение остается экспериментом в рамках Великого Исследования, которое совершает Жизненная Сила, стремясь открыть эту формулу». При этом он утверждал, что существует «неодолимое стремление» достичь высшего состояния, двигаться к совершенству: «На тех небесах, к которым я стремлюсь, нет иной радости, кроме радости работать, помогая Жизни в ее борьбе за движение вперед».[193]193
Whitman, op. cit., p. 131.
[Закрыть] В пьесе «Дон Жуан» есть такие слова: «Говорю вам, что пока я могу себе представить нечто лучшее, чем я сам, я не смогу успокоиться, пока не дам ему существовать или не расчищу для него дорогу… Говорю вам, что, стремясь к своему удовольствию… я никогда не знал счастья». А в 1910 году Шоу писал Толстому: «Для меня бога не существует… Нынешняя теория, согласно которой бог уже существует в совершенстве, предполагает веру в то, что бог намеренно создал нечто низшее, чем он сам… Как я полагаю, если только не предположить, что бог постоянно стремится превзойти сам себя… мы можем думать лишь о всемогущем снобе». А в послесловии к изданию книги «Назад к Мафусаилу», написанной уже в 1944 году, Шоу говорит: «таким образом, бог… не Личность, но бестелесная Цель, которая ни в каком случае не может действовать напрямую».[194]194
Ibid., p. 139.
[Закрыть]
И снова это представление влияло не только на его пьесы и мысли, но и на политическую позицию. «Этика и религия социализма стремится не к идеальному обществу через идеального индивидуума, но, напротив, к идеальному индивидууму через идеальное общество». Политика помогает обществу достичь все расширяющейся коллективной идентичности посредством эволюционного процесса, «в котором каждый новый уровень развития вбирает в себя все необходимое или «истинное» из половинчатых истин прежних стадий». «Благо» есть процесс бесконечных улучшений, «который никогда не кончится и никогда не придет к своему завершению».[195]195
Gareth Griffith, Socialism and Superior Brains: the Political Thought of Bernard Shaw, London: Routledge, 1993, p. 159.
[Закрыть]
Эти идеи вошли в его пьесы, где на первом месте стоит движение – обычно движение от отчаяния к новому синтезу, который точнее соответствует реальности, – как образ эволюции, ведущей к более полному самосознанию через диалектику акции и реакции. В пьесе «Кандида» одноименная героиня, жена клирика, которой приходится делать выбор между своим «слабым» мужем и потенциальным любовником, понимает, что научилась жить без счастья: «Жизнь достойнее этого [счастья]». Как и в других его пьесах, Шоу показывает, что это выбор между более и менее истинным, а не выбор абсолютных ценностей.[196]196
Whitman, op. cit., p. 201.
[Закрыть]
В своих пьесах Шоу ищет сверхчеловека, мудрые образцы людей (Дон Жуан, Кесарь, святая Иоанна, Андершафт, Генри Хиггинс, первые долгожители из «Назад к Мафусаилу»), которые действуют либо «на мировой исторической сцене» (в стиле Гегеля), или в частной, повседневной домашней жизни, помогая другим обычным людям (таким как Клеопатра, Барбара Андершафт, Элиза Дулиттл, Элли Данн) в большей мере участвовать в строительстве своей собственной судьбы.[197]197
Ibid., pp. 208–209.
[Закрыть]
Шоу относился к надежде серьезно – для него это было, как указал Роберт Уитман, формой моральной ответственности. «Быть в аду – это плыть по течению (отказавшись от цели); небеса – это править рулем… Жизнь есть сила, которая ставит бесконечные эксперименты по самоорганизации… стремясь создать все более и более высших индивидуумов». В отличие от Ницше, сверхчеловек у Шоу не цель и не конечный продукт, но скорее процесс, стадия развития: «Небеса не место, но направление».[198]198
Ibid., p. 226.
[Закрыть] В пьесе «Майор Барбара» (1905) Андершафт, богатый промышленник, занимающийся производством оружия, признается, что скорее готов стать вором, чем нищим, или убийцей, чем рабом, поскольку для него важно действие, которое возвратило бы ему самоуважение. Когда Казинс, помолвленный с Барбарой майор Армии Спасения, невинно спрашивает Андершафта, какая сила приводит в движение работу его фабрики, тот загадочно отвечает: «Та сила, частью которой я являюсь, – и добавляет: – Я – миллионер. Это моя религия».
Это соответствует желанию Шоу распрощаться с идеей, что мы живем на основе разума, а не повинуясь нашей воле к жизни. Но пьеса показывает, что эта сила и стремление к цели неотделимы друг от друга. Если люди хотят, чтобы мир стал лучше, нам надо создавать этот мир самим, а не сидеть, ожидая, когда это за них сделает бог. «Цель существования человека не в том, что быть «добрым» и получить награду на небесах, но в том, чтобы создавать Небеса на земле». Он писал леди Грегори: «Моя доктрина заключается в том, что бог действует методом «проб и ошибок»… Единственная надежда на человеческое спасение, как я думаю, заключается в том, чтобы человек научился воспринимать себя как эксперимент по претворению в жизнь бога».[199]199
Bernard Shaw, John Bull’s Other Island; and Major Barbara; also How He Lied to Her Husband, London: Constable, 1911.
[Закрыть]
В пьесе «Андрокл и лев» Шоу сопоставляет религию с отсутствием религии и выносит на обсуждение свою идею, что главная форма греха есть статус-кво, поскольку, как он утверждает в своем предисловии (Шоу славился своими разъяснительными и порой дидактическими предисловиями к собственным пьесам), «фундаментальное условие эволюции… состоит в том, что жизнь, включая жизнь человека, постоянно развивается и потом может сама стыдиться себя, своего настоящего и прошлого».[200]200
Whitman, op. cit., p. 236.
[Закрыть] Христианство, как он полагал, есть всего-навсего определенный этап моральной эволюции. А такая эволюция происходит лишь под действием страстных импульсов жизни – любопытства, смелости, сопротивления, «стремления найти нечто лучшее», – которым противостоят так называемые импульсы смерти: стремление к комфорту и счастью, циничный эгоизм и «мечты о легкой жизни».[201]201
Ibid., p. 242.
[Закрыть]
Для Шоу жизненная сила, реалистический взгляд и «воля работать рулем» есть троица, нужная человеку для достижения еще более высокой организации и «более полного самосознания». Поскольку жизненная сила эволюционирует, увеличение продолжительности жизни позволяет нам достигать большего. «Довольно того, что существует запредельное», – говорит Лилит в «Мафусаиле».[202]202
J. L. Wisenthal, Shaw’s Sense of History, Oxford: Clarendon Press, 1988, pp. 121ff.
[Закрыть] Слова Шоу в целом легко превращаются в хорошие цитаты. «Будущее принадлежит тем, кто предпочитает удивление и неожиданность безопасности». «Борись с такой жизнью, какая случается. А она никогда не случается такой, какую мы ожидаем». «Лучше верить в жизнь, чем в человека, в усилие, чем в результат, в процесс, чем в утопическую версию Блага».[203]203
Whitman, op. cit., p. 278.
[Закрыть]
Почти во всех пьесах Шоу главные герои претерпевают изменения, имеющие три аспекта, хотя в каждом случае это изменение в направлении к «большему». В одном смысле «больше» значит шире, богаче, полнее, более полную степень приспособленности к реальности («адаптации» в дарвинистском значении слова). Здесь есть и второй аспект: герой начинает лучше понимать, что полнота его жизни и его спасение лежат не в нем самом, а вовне. В-третьих, хотя это связано с двумя другими аспектами, это развитие взаимного просвещения, когда каждый герой находит себя в том, что ему противостоит.[204]204
Ibid., p. 286.
[Закрыть] Подобно многим другим модернистам, Шоу думал, что, если бог мертв, нет и загробного блаженства, остается лишь одна альтернатива: интенсивнее проживать эту жизнь. Его пьесы более дидактичны, чем творения большинства других драматургов и уж, конечно, чем пьесы Ибсена. Им двигали благие мотивы: Шоу хотел помочь своей аудитории сделать жизнь богаче, а потому он призывал ее – шаг за шагом – встать на путь эволюции, чтобы двигаться ввысь и к более полному самосознанию, и жить интенсивнее.
На первый взгляд кажется, что между Шоу и его русским современником Антоном Чеховым (1860–1904) не так уж много точек пересечения. Драмы и рассказы Чехова и его темы «тише», чем произведения Шоу. Но это впечатление обманчиво: этот русский писатель был глубоко погружен в русскую культуру, но нельзя сказать, что его не волновали совершенно иные вещи.
В отличие от многих других русских писателей его поколения, Чехов не принадлежал к аристократам, и в его случае это немаловажно. Его отец владел небольшой лавочкой в провинциальном городе Таганроге. Чехов говорил о первых годах своей жизни: «В детстве у меня не было детства». Ему приходилось много часов работать в лавке, и нередко крайне набожный отец его бил. В частности, в юности Чехова заставляли петь в церковном хоре, чему он сопротивлялся. Дела шли все хуже. В 1875 году семейное предприятие фактически развалилось, и отец Чехова с большей частью семьи переехал в Москву, а Антон – которому тогда было всего пятнадцать – остался в Таганроге за главного. Вскоре он начал ценить эту новую свободу (а также то, что его никто не бил и не заставлял петь в хоре). Ему понравилось исполнять те обязанности, которые на него взвалили, так что изменение обстоятельств стало для него настоящим освобождением.[205]205
Joe Andrew, Russian Writers and Society in the Second Half of the Nineteenth Century, London: Macmillan, 1982, p. 152.
[Закрыть]
Хотя этот опыт не давал ему того образования, которое он стремился получить. В Таганроге существовала довольно многочисленная община греков, и в школе, куда ходил Антон, все предметы преподавались на греческом. Юноша со всем рвением занялся самообразованием. В итоге он поступил на медицинский факультет в Москве. Ему казалось, что это удовлетворит его гуманитарные стремления, а также даст ему чувство достоинства.[206]206
Andrew, op. cit., p. 153.
[Закрыть]
Его всегда интересовала научная литература в не меньшей степени, чем беллетристика, но именно у таких людей, как Толстой, Золя, Флобер и Мопассан, он научился ставить на первое место нравственное измерение, а также с презрением относиться к миру обывателей и видеть тусклость повседневной жизни. Это один из источников его знаменитого пессимизма.
Только переехав в 1885 году в Санкт-Петербург, Чехов познакомился с рядом знаменитых писателей, которые единодушно оценили талант, стоящий за его усердными трудами. Только после этого Чехов начал считать себя писателем. Впервые он подписался своим настоящим именем под рассказом «Панихида» (1886). Постепенно разрозненные идеи собирались у него в единое целое, и можно считать «Палату № 6» (1892) поворотным моментом в его биографии. Чехов пришел к убеждению, что искусство – и жизнь в целом – лишено объединяющей центральной идеи, лишено цели и в этом смысле в итоге тривиально, но он также верил, что встреча с объективной истиной, которую он описывает в своих произведениях, есть первый шаг к тому, чтобы дать читателю или публике надежду на лучшую жизнь. Для решения этой задачи требуется, как он считал, тяжкий труд, который не менее важен, чем талант.[207]207
Ibid., p. 163.
[Закрыть] Он видел в человеке искусства не пророка или жреца, но умелого ремесленника. Критики часто утверждали, что он не умеет изображать героический характер, на что он отвечал: я был бы рад его изобразить, «если бы он встречался в реальности».
В каком-то смысле стиль и произведения Чехова можно понимать как ответ Достоевскому с его апокалиптической картиной мира без бога. Мы не упали в «бездну», считал Чехов, но скорее мы, или хотя бы русская провинция, сталкиваемся с миром пошлости – посредственности, блеклости красок и мещанства – и по большей части лишены амбиций и героизма. Христианство, которое проповедовал Толстой, по мнению Чехова, избегало тех проблем, с которыми сталкивались люди в России, особенно с убожеством существования работников, участвующих в промышленном производстве. Это показывают такие его произведения, как, например, «Скучная история» (1889), «Палата № 6» (1892) или «Случай из практики» (1898). Чехов особенно остро осознавал то, «насколько далека жизнь от жизни идеальной», что мещанство разрушает ту надежду, поддерживать которую призвано искусство, и что «никого невозможно винить в том, что происходит, разве только можно винить людей за то, что они столь слабы». Это важнейшая тема его последних двух пьес «Три сестры» и «Вишневый сад».[208]208
Ibid., p. 168.
[Закрыть]
Нелюбовь Чехова к «лихорадочной» картине Достоевского, «скучная проза» его пьес, которые «созданы именно для того, чтобы воспроизвести скучную прозу повседневной жизни», навязчивые мысли о тщете жизни, критики, по мнению которых, у него «все, похоже, кончается одинаково» и что в его пьесах не хватает фокуса – все это отражает его идею, что невозможно найти грандиозного всеобъемлющего решения для проблемы жизни, но что вместо этого надо искать «достаточно маленькие и, прежде всего прочего, практические ответы». Важны потребности людей, и великие абстрактные идеи не ответ на эти нужды. Чехов резко отличался от Достоевского и Толстого тем, что для него отсутствие бога не вело к нравственному упадку или моральному вакууму: каждый человек ищет решения для самого себя, и в этом ему помогает нравственность.
Фактически Чехов помог совершиться тому великому перевороту, который произошел после Ницше и окрасил весь ХХ век, а именно его меньше интересовали философские (включая религиозные) или социологические вопросы, чем та сфера, что находилась на стыке нравственности и (индивидуальной) психологии.[209]209
Philip Callo, Chekhov: The Hidden Ground: A Biography, London: Constable, 1998, p. 296.
[Закрыть]
Будучи самоучкой, Чехов постоянно занимался самосовершенствованием и образованием, а одновременно усвоил ту истину, что без упорного труда мало чего можно добиться. Но все это не давало ему направления. Последнее он получил после посещения исправительной колонии на острове Сахалин в северной части Тихого океана. Это место было для него не каким-то изолированном поселением отверженных, но тем местом, которое отражало недостатки и испорченность всей Российской империи. Почти мгновенно он избавился здесь от ощущения бессмысленности, и на протяжении оставшихся лет жизни его произведения были направлены на облегчение тех тяжелых условий существования, которые он здесь увидел. В начале 1890-х он расширил сферу деятельности, придя к убеждению, что практические реформы, а не просто искусство, какими бы скромными они ни были, есть единственный путь к изменению российского общества. Он отослал на Сахалин более двух тысяч книг, а также направил свою критику на интеллектуалов, которые, несмотря на свои боевые речи, делали слишком мало практических шагов для решения насущных проблем.[210]210
Andrew, op. cit., p. 184.
[Закрыть]
Чехов питал неприязнь к религиозному возрождению, наблюдавшемуся в России на рубеже ХХ века, потому что опять же не верил в «великие решения» и потому что религия, подобно капитализму, была бессмысленной растратой человеческого потенциала. Подобно героям его пьес, люди, находящиеся под гнетом религии или капитализма, «слишком слабы и напуганы, чтобы улучшать свою судьбу». «В его последних четырех пьесах счастливы только надменные и самодовольные герои либо приспособленцы, тогда как более умные люди вроде дяди Вани и Сони или трех сестер не находят удовлетворения». Русский журналист и поэт Корней Чуковский кратко охарактеризовал мировоззрение Чехова такими словами: «Его культом было сострадание конкретному человеку».
Профессор русской литературы Кильского университета Джо Эндрью добавляет, что этот «культ» простирался дальше сострадания, «потому что Чехов особенно сильно верил в потенциал героических действий в его собственной жизни, которая, в свою очередь, может послужить примером другим». Писатель прекрасно понимал, что мало кто из его соотечественников проникнется его идеями или будет мечтать о таких высотах. Но он утверждал, что надо положить начало и что «конкретный человек» очень многого может добиться в своей жизни. «Прежде всего абсолютно необходимо отбросить иллюзии, понять правду своей жизни и лишь затем думать о достойных достижениях». Эндрью говорит: «Хотя «Дядя Ваня» и «Три сестры» заканчиваются довольно мрачно, герои, действовавшие на сцене, – дядя Ваня, Соня, три сестры – по крайней мере совершили этот критически важный первый шаг… Чехов считал самым настоящим героизмом видеть мир таким, каков он есть, и при этом продолжать его любить». Это очень похоже на мысли Сантаяны. Таким образом, перед человеком стоит задача преобразовать свою жизнь – или через стремление к внутренней свободе, или с помощью практических дел на благо ближнего. Здесь нельзя отступать или опускать руки.[211]211
Ibid., p. 189.
[Закрыть]
Чехов не признавал трансцендентного смысла жизни. Человек может лишь случайным образом придать ей целостность с помощью своего труда и своего примера, которые служат благу человечества. «Нужно искать, искать самому, наедине со своей совестью», – только такая вера имеет смысл. Для Чехова сама идея «спасения» была ложной и сбивала с пути, отвлекая людей от улучшения материальных условий жизни, по которым Россия особенно сильно отставала. Апокалиптически настроенные последователи Достоевского по его мнению, не понимали сути дела. Не надо заглядывать слишком далеко, полагал писатель, мечтать об отдаленном будущем или загробной жизни, а вместо этого надо совершить описанный выше первый шаг, выйти из нашей пошлости и отойти от нее. Это путь героизма – скромные попытки улучшить повседневную жизнь для себя и других; это и следует называть героизмом. В то же время, кто знает, куда пойдет далее человек, сделавший первый шаг? Об этом свидетельствовала собственная жизнь Антона Павловича. Но в первую очередь надо сделать именно первый шаг. Таково начало героизма.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?