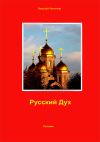Текст книги "Эпоха пустоты. Как люди начали жить без Бога, чем заменили религию и что из всего этого вышло"

Автор книги: Питер Уотсон
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
7
Ангел за щекой
«Когда человек отказывается от веры в бога, искупительную роль в его жизни начинает играть поэзия». «Главной поэтической идеей этого мира всегда была и остается идея бога». «Поэт становится “священником невидимого”». Это были высказывания Уоллеса Стивенса. «Найдя ничто, я нашел красоту» (Стефан Малларме). «Мы почувствовали, что может возникнуть новая религия, важнейшим качеством которой станет поэтическая эмоция» (Поль Валери). «Поэзия… может нас спасти; это вполне надежное средство для преодоления хаоса» (А. А. Ричардс). «Какого ангела ты скрываешь за щекой?/Какой совершенный голос поведает истину пшеницы?» (Фредерико Гарсиа Лорка).
Как уже упоминалось, на волне апокалиптической проповеди Ницше разные искусства сразу же получили такое значение, какого они лишены в наши дни. Это не значит, что сегодня искусства неважны, но что тогда они были значительно важнее. Если мы не попытаемся представить себя в той эпохе, многие аргументы данной книги утратят силу, какой они, похоже, обладали в прошлом. Нечто будет неизбежно утрачено в процессе исторического перевода.
Это особенно верно относительно поэзии. Сегодня, в начале XXI столетия, поэзия интересует меньшинство, хотя к этому меньшинству и относятся самые страстные люди. В какой-то мере это всегда и было занятием меньшинства, но в позднюю викторианскую и эдвардианскую эпохи, в десятилетия, предшествовавшие Первой мировой войне и во время самой войны от поэзии ожидали чрезвычайно многого, она казалась естественной наследницей религии. Для таких людей, как Малларме и Валери во Франции, Стефан Георге и его круг в Германии, Йейтс и Уоллес Стивенс в англоязычных странах, поэзия была «реализацией судьбы», которая порождает второе, «высшее» Я, которому дается «расширенный мир». Как говорит об этом Стивенс:
Божьи сироты. Стефан Малларме
Безмерная музыка поэзии
Должна прийти на смену
Необитаемым небесам с их гимнами.
Но начать нам следует с Малларме, поскольку, хотя он не выразил конкретных представлений в конкретной работе или конкретном стихе о том, как жить без бога, его подход оказал влияние на мысли его многочисленных последователей. В самом деле, существуют такие люди, как, скажем, Анна Балакян, занимающаяся историей символизма, которые ставят Малларме на один уровень с Фрейдом и Марксом в качестве человека, определившего наше мышление. Несомненно, Малларме оказал важное влияние на Валери, Йетса, Райнера Марию Рильке и Уоллеса Стивенса.
В своей книге «Малларме, или Поэт Небытия» (английское издание 1988, французский оригинал вышел двумя годами раньше) Жан-Поль Сартр помещает этого поэта непосредственно в историю смерти бога, во всяком случае, в ее французский вариант. Он говорит о других факторах, действующих на умы той эпохи, и о том, как их совокупность определяла восприимчивость человека середины XIX столетия. Все французские поэты той поры, говорит Сартр, были неверующими, хотя и испытывали ностальгию «по утешительной симметрии вселенной, упорядоченной богом». Многим казалось, что поэзия потеряла свое былое величие – раньше в стихах видели плод вдохновения свыше: «Поэт был только трубой, бог наполнял этот инструмент воздухом». Однако поэты после романтизма воспринимали себя как «гротескный оловяный рожок, который подражает негармоничным шумам Природы». Они были рыцарской элитой с претензией на благородство и идеализм, а Малларме был «нервным центром» этой высшей культуры. Во дни веры, писал Сартр, «поэтический дар был знаком природного аристократа… поэта волею Божией. Вдохновение было секулярным названием благодати».[273]273
Jean-Paul Sartre, Mallarme, or the Poet of Nothingness, trans. Ernest Sturm, University Park and London: Pennsylvania State University Press, 1988, p. 4.
[Закрыть]
Однако наука упразднила это представление, она подорвала основы иерархии у людей, показав, что все формы существования равны. Более того (и возможно, это еще хуже), второй закон термодинамики, сформулированный Рудольфом Клаузиусом и ставший достоянием публики в 1854 году, показывал, что «ничто не создается и не уничтожается» и что в итоге вселенную ждет тепловая смерть. Для многих это было подтверждением того, что в Природе не существует совершенного бога и что бог не в силах творить нечто новое.
Поэтому Сартр делает такой вывод: поэты, более чем кто-либо еще, – это «Божьи сироты», и даже здесь Малларме выделяется из толпы по той причине, что его мать умерла, когда ему было пять, а сестра умерла, когда ему было пятнадцать, так что их отсутствие «слилось» воедино – и это отсутствие очень важно. В жизни Малларме в большей мере, чем у других, было «ключевое отсутствие» или «парящее отсутствие», как говорил Сартр.[274]274
Sartre, op. cit., p. 94.
[Закрыть] Для Малларме, говорит Сартр, «мать никогда не прекращает умирать», и это оставило «патологический провал в его “бытии-в-мире”». Это было важно для Сартра, видевшего в Малларме герольда ХХ века, который «глубже, чем Ницше, пережил смерть бога… В то самое время как Тейлор[275]275
Тейлоризм, получивший свое название от Фредерика Уинслоу Тейлора (1856–1914), представляет собой внедрение научно обоснованного порядка в производственные процессы с целью повышения эффективности. Иногда его также называли системой Форда.
[Закрыть] думал о такой организации, которая сделает труд человека более эффективным, он организовывал язык, чтобы получать максимальную прибыль от Слов».[276]276
Ibid., p. 145.
[Закрыть]
Это позволяет поместить достижения Малларме в нужный контекст. По словам Анны Балакян, он стремился к созданию или достижению «семантического трансцендентализма, который компенсировал бы упадок метафизических устремлений».[277]277
Anna Balakian, The Fiction of the Poet: From Mallarme to the Post-Symbolist Mode, Princeton and Oxford: Princeton University Press, 1992, p. 4.
[Закрыть] Если религии оказались неэффективными, что, несомненно, ощущали многие современники Малларме, «значит, язык становится пристанищем, оплотом… на службе у воображения». Эта идея стоит за его известным высказыванием, что поэт уже не должен рассказывать, поскольку повествование предполагает преемственность, такую последовательность, которая структурирует реальность. Малларме стремился к иному, к «такой вселенной, в которой ничего невозможно предвидеть или где ничто не предопределено в ее природном контексте», где, как позднее скажет Рильке, «интерпретируемый мир» (этот мир, здесь и сейчас) занимает «место небес как убежище для выживания в расширенных границах искусства». По сути, это означает, что поэт не стремится к традиционной репрезентации, но вместо этого ищет «свежую презентацию» в «абсолютный момент во времени», который уже никогда не повторится. Более того, язык в таком новом поэтическом смысле «становится местом встречи аналогий, которое обогащает личность, подобно тому, как подкладка обогащает одежду из грубой ткани»; образы и идеи здесь скорее непрямые, нежели прямые, так что читатель совершает движение к цели вместе с поэтом.[278]278
Balakian, op. cit., p. 7.
[Закрыть] Как мы увидим, такой косвенный подход стал особенностью всего ХХ столетия.
Малларме вместе со своими горячими последователями считал, что этот метод отражает сопротивление человека духовному уничтожению, идентификацию (но только в форме намека) «les mots sans rides», «слов [а потому также и идей, моментов] без порока», поэтическую передачу «колодца смыслов», поскольку этот колодец неисчерпаем и не линеен, «но скорее подобен кольцевому вихрю в непрерывном движении».[279]279
Ibid., p. 16.
[Закрыть]
Ключевым аспектом этого метода (и он во многом доминировал в поэзии на протяжении ХХ века) было «именование» – раздача имен окружающим вещам, не интроспекция как таковая, но поиск имен для «спасительных характеристик равнодушной вселенной», поиск имен, если воспользоваться одной его знаменитой фразой, для тех цветов, «которых нет ни в одном из букетов». Именование, говорил Малларме более прямо, «не есть ссылка на форму, которая известна нам по опыту и которую мы можем распознать в естественном окружении». О том же можно сказать иначе: «Восприятие незаметного происходит не через искажающие линзы, но через рациональную адаптацию неожиданных лингвистических ассоциаций»: он также называл это просачиванием слов. По сути дела, это и есть символизм, создание «иного» мира, «промежуточное пространство», которое зависит только от силы языка и дает нам яркие переживания в реальном времени, здесь и сейчас.[280]280
Ibid., p. 17.
[Закрыть] Для Малларме, как он сам прямо признавался, этот подход заменил богословскую телеологию «куда более практичным представлением о жизни на этой планете».[281]281
Sartre, op. cit., p. 188.
[Закрыть] Он вместе со своими последователями считал, что поэзия должна избавиться от своего нарратива и миметических традиций и создавать свой собственный вымысел, собственную реальность, «онтологию, отделенную от богословского восприятия мира».[282]282
Balakian, op. cit., p. 42.
[Закрыть]
Вот что он пытался сделать в таких произведениях, как «Иродиада» и «Послеполуденный отдых фавна» – он видел в них часть новой «цельной ментальности»: ментальности именования, когда имена получают не просто новые формы, но новые тайны в неистощимом и непредсказуемом мире, поскольку человечество всегда жаждет обрести «второй шанс», вторую попытку, которая позволила бы нам не растратить понапрасну доставшееся нам наследство и не ограничиваться той жизнью, которую мы знали до сих пор. Мир состоит из залежей вторых попыток, обещаний преодолеть себя, которые мы даем, сражаясь с судьбой и стремясь создать «не поддающиеся описанию» пространства или «неопределимые рамки времени», чтобы «лишить природу процессов распада»; такое творческое присвоение имен может производить только язык.
Это отражает стремление Малларме поставить на иную основу, реформировать, видоизменить поэзию так, чтобы она соответствовала секулярному миру. Целый ряд первостепенных поэтов ХХ века принял участие в исполнении этой задачи.
Хвала и вертикальная ось. Стефан ГеоргеНо прежде чем мы к ним обратимся, нам следует поговорить об еще одном человеке, которого можно считать соперником Малларме в сфере определения задач поэзии. По известным словам Шелли, он превратил поэтов из «непризнанных законодателей мира» в политических демагогов. Это немец Стефан Георге. И слово «демагог» здесь даже недостаточно сильно.
Глаза – узкие, они становятся широкими, лишь когда управляют, —
Освещены как бы свечами изнутри.
Боль прежней жестокости
На его щеках.
Его лицо сонно ниспадает от темных волос,
Подобно королевским террасам,
К подбородку. Тот скрыт
И полон насилия, страшной ненависти.
Вокруг неподвижных губ следы
Преодоленных искушений.
Тяжелые брови несут
Благородное проклятие, подобно редким драгоценностям.
Это стихотворение, живость которого сохраняется и в переводе, написал не Георге, но оно написано о нем. Эрнст Бертрам, поэт, преподаватель литературы и видный специалист по Ницше, назвал это стихотворение «Портретом Мастера», хотя обычно он говорит о Георге как о «вервольфе».[283]283
Robert E. Norton, Secret Germany: Stefan George and His Circle, Ithaca and London: Cornell University Press, 2002, p. 504.
[Закрыть] Быть может, это преувеличение, но биография Георге воистину поразительна, не менее поразительна, чем у любого другого поэта: в своей этике «искусства для искусства» он зашел дальше всех остальных, он же изо всех сил старался сделать поэзию заменой религии.
Его удивительная карьера началась 1890-х, когда Георге – посетив Малларме в Париже, где его приняли в кружок учителя, – заявил о себе как лирический поэт, последователь французских символистов. Взявшись за поэзию, говорит его биограф Нортон, «Георге без меры, быть может, как никто другой, начал стараться подчинить каждый аспект своей жизни своей воле… Его стремление контролировать то, как его воспринимали другие, было одной из форм того радикального изобретения себя, которым отмечена вся его жизнь» (здесь он в чем-то сходен с У. Б. Йейтсом, хотя у каждого это проявлялось совершенно особым образом).[284]284
Norton, op. cit., p. xii.
[Закрыть] Парадоксальным образом, хотя он редко появлялся где-либо за пределами узкого кружка, состоявшего примерно из трех десятков поклонников, его влияние непрерывно росло и распространялось, так что оно охватило всю Германию.
Георге симпатизировал символистам, а в частности разделял их убеждение в том, что наука не улучшила мир, но обеднила, сведя все к тому, что можно измерить и просчитать, удалив из него саму возможность трансцендентного смысла. Для символистов природа была лишь оболочкой, за которой скрывалась невидимая реальность, такая реальность, к которой в виде привилегии получают доступ поэты. Нортон пишет: «Слова стихотворения действуют скорее как своеобразный проводник, который позволяет не столько насладиться изображенными вещами или даже эмоциями, которые они пробуждают, но каким-то необъяснимым способом стихи дают духовно настроиться в лад с видением поэта и, в итоге, встретиться с тем, что называют, скажем, «Идеей», «Бесконечным» или «Абсолютом». И именно поэт и только он может создать условия для такой встречи».[285]285
Ibid., p. 74.
[Закрыть]
С расстояния, находясь во втором десятилетии XXI века, само представление о «привилегированном» доступе поэта к чему бы то ни было противоречит всему духу постмодернистского постколониального демократического мира, но если мы хотим глубоко понять цели и значение Георге, нам надо перенестись в прошлое, где – как не раз говорилось в начале данной главы – искусство было куда важнее, чем сегодня, и на людей искусства смотрели совершенно иными глазами. Так, например, четыре важнейших сборника стихотворений Георге вышли под следующими красноречивыми названиями: «Гимны», «Паломничества», «Год души» и «Звезда Завета».
Георге твердо верил в то, что искусство – и его служители – самое главное в жизни или даже важнее жизни. Это ярче всего отражают строки из «Гимнов» о Фра Анджелико, который, по мнению Георге, черпал свой материал из того мира, в котором жил:
Он взял золото священных чаш,
Чтобы превратить его в белые кудри спеющей пшеницы,
Розовый у детей, рисовавших кирпичом,
А у прачек у речки – индиго.
Здесь природа стоит на службе у искусства, а художник (о чем говорится хотя бы косвенно) стоит на уровне бога. Стихотворения данного сборника в первую очередь прославляют достижения поэта. Отчасти это отражает свойственное и символистам стремление подчинить себе и даже радикально изменить внешний мир, тот физический мир, в котором мы обитаем, который воспринимается как «необратимо обесценившийся, безвкусный и злой», на смену которому должно прийти творение привилегированной группы посвященных.
Эта привилегированная группа также собиралась вокруг Георге при посредстве журнала Blätter für die Kunst («Страницы для искусства»), который был не просто периодическим изданием, но знаменем, под которым собирались последователи Георге, чтобы возвестить о нем другим. Это было тем более важно, т. к. какое-то время сборники его стихов издавались довольно скромными тиражами (скажем, 206 экземпляров «Года души») и распространялись из рук в руки среди наиболее преданных поклонников. Такое представление о привилегированном меньшинстве касалось не только Герге. Гуго фон Гофмансталь признавался ему в письме: «Я полностью согласен со всем, что вы говорите, меня также не беспокоит ни «бумага», ни публика, скорее для меня важно быть в контакте с неизбежно малым кругом людей, разделяющих мои стремления, и иметь доступ к нужным произведениям искусства [курсив мой. – Авт. ]». Журнал формулировал свою задачу так: это продвижение «духовного искусства» – eine geistige Kunst – «на основе нового понимания и нового стиля – искусства для искусства».[286]286
Ibid., p. 135.
[Закрыть]
Самые понятные стихи Георге мы найдем, вероятно, в сборнике «Год души», которые Нортон называет «меланхолическим прибоем, омывающим внутренний ландшафт ума поэта».
Ты подошел к камину,
Где все угольки уже умерли.
Единственный свет на земле —
Луна трупного цвета.
Ты погрузил бледные пальцы
Глубоко в пепел,
На ощупь пытаясь найти
То, что еще может светить.
Смотри, что советует тебе луна,
Желая тебя утешить:
Отойди от камина,
Уже поздно.
По ходу книги все купается в «сумеречном свечении», подобно расплывающимся, не привязанным к пространству чувственным женщинам с полотен Густава Климта, чьи фигуры проплывают мимо зрителя, так что чистая красота творения перевешивает любой другой возможный смысл. (Передать это всего труднее для переводчика.)
Изначально Георге пытался с помощью поэзии создать альтернативный мир, но в журнале Blätter он также развил представление о кружке, о малой привилегированной группе окружающих его людей. И идея круга посвященных включала в себя представление об иерархии, которое становилось все важнее как способ жизни, как реальная альтернатива буржуазному обществу. Георге и его последователи видели в кружке единомышленников самую подходящую среду для развития и синтеза великих и прекрасных идей. Даже внутри кружка никто не говорил о полном равенстве его членов. Его члены думали, что «маленькие» идеи менее важных членов помогут руководителям породить идеи более великие и прекрасные (разумеется, верховное место в иерархии занимал сам Георге). Менее значимые члены должны были утешаться тем, что они принимали участие в высокой жизни своих руководителей. Как говорил один из них, скромные члены кружка собирали цветочки, которые их вождь «вплетал в свой венок». У кружка всегда был центр, от которого зависели стабильность, направленность и задачи целого.[287]287
Ibid., p. 225.
[Закрыть]
Такое представление и такая организация имели смысл только на фоне еще одной особенности кружка Георге – его решительной борьбы с идеями ценности разума и рациональности. Это можно понять. Критическая мысль порождает сомнения, ставит вещи под вопрос, не признает готовых авторитетов, а потому потенциально разъединяет. Вера становится устойчивее при отсутствии критики. Группа Георге превыше всего ценила «экстатическое торжество, которое стирает все различия между отдельными людьми».[288]288
Melissa Lane and Martin A. Ruehl, A Poet’s Reich: Politics and Culture in the George Circle, Rochester, NY; Woodbridge: Camden House, 2001, pp. 91ff.
[Закрыть]
Члены кружка предлагали разную альтернативу разуму. Философ Людвиг Клагес, организатор Немецкой ассоциации графологов, считавший, что современный мир «деградирует», говорил, что художником управляет «энтузиазм». «Творческим натурам свойственна глубокая любовь к жизни. Отсюда проистекает энтузиазм – это сила самопожертвования, слияния с объектом поклонения. Вера и поклонение – душа творческого человека. Искусство не опирается на объективное знание, но на энтузиазм, радостно принимающий иллюзии и сны».
Как сказал Леонард Вульф, существовало бесчисленное количество творческих «кружков» всех оттенков, которых более или менее тесно соединяли общие идеи, но не было ничего подобного «тайной Германии» Георге, как стали называть эту группу.[289]289
Norton, op. cit., p. 230.
[Закрыть]
В отличие от некоторых других книг Георге, сборник «Ковер жизни» лишен религиозного названия, но он, тем не менее, обладает качествами священного текста. Его язык напоминает Библию, и все здесь представлено как благая весть, переданная ангелом, носителем учения о «прекрасной жизни», который разворачивает перед читателем особые представления Георге. Один из важнейших уроков ангела касается «ценности и важности подчинения высшему существу», ангел дает позволение поэту требовать подобного подчинения от своих последователей.
Малое стадо тихо следует своим путем
В величественном удалении от мирской суеты
И его знамена украшены словами:
Эллада – наша вечная любовь.
Постепенно идеал Греции кристаллизовался у Георге в цельную доктрину, которая стала убежищем смысла и определенности, а взамен требовала полной преданности.
Мы идем за нашим суровым господином
Который тщательно проверяет своих бойцов
Никакие слезы не помешают нам следовать за звездой
Ни рука друга ни поцелуй невесты.
Последователи Георге были фактически его учениками. Здесь он следовал христианской модели, хотя сам считал себя служителем красоты, к которой лишь у него одного был особый доступ. Это покажется нам анахронизмом, но здесь, по крайней мере, все было сказано откровенно. Однако скоро возникли сложности.
Шекспир, не ЯхвеСреди последователей Георге были молодые люди, просто мальчишки. Сначала говорилось, что их отбирают из-за поэтических дарований, но потом об этом забыли. Двое среди них заслуживают особого внимания. В 1898 году здесь появился Фридрих Гундельфингер. Он был таким красивым, что женщины посылали ему цветы, он завораживал людей своими речами и обладал талантом подражателя. Гундельфингер был одержим Георге, а Георге был одержим им. Георге называл его «Гундольфом».[290]290
Ibid., p. 267.
[Закрыть]
Даже здесь мы видим развитие взглядов Георге, причем его личные мысли превращались в догмы. Георге боролся за искусство против протестантизма, Пруссии и буржуазии. Это разделяли все члены кружка, причем они горели таким рвением, которое нам трудно понять сегодня. Гундольф прямо говорил: «Я хочу служить Шекспиру, а не Яхве или Ваалу». Члены кружка считали себя «высшей формой бытия», а искусство было для них не игрой, но священнодействием. В буквальном смысле слова оно было предметом жизни и смерти.[291]291
Ibid., p. 286.
[Закрыть]
Другим молодым человеком, оказавшим влияние на Георге, был совсем простой юноша. Когда в 1903 году Геогре встретил Максимилиана Кронбергера, первому было тридцать пять, а второму только что исполнилось пятнадцать. Именно преждевременная смерть Максимилиана (Георге называл его Максимином) стала вехой нового важного этапа жизни Георге, отчасти потому, что Максимин неожиданно умер от менингита, лишь на один день пережив свое шестнадцатилетие. До того момента «избранники» из кружка Георге наслаждались только лишь ощущением своего эстетического превосходства. Но смерть Максимина все изменила.
Похоже, в тот критический момент Георге пережил какой-то мистический опыт. Его биограф сообщает: «Нерациональная нематериальная сфера всегда ассоциировалась для Георге с поэзией. А теперь он начал говорить о божественности Максимина, став секулярным жрецом этой секулярной религии». Не всем это было просто принять, но поэт и переводчик Фридрих Вольтерс, один из самых ревностных последователей Георге, понимал, что его учитель ощутил прикосновение чуда – что «бог решил явиться ему в виде человека, как Максимин».[292]292
Jens Rieckmann (ed.), A Companion to the Works of Stefan George, Rochester, NY: Camden House, 2005, pp. 145ff, 189ff.
[Закрыть] С тех пор Георге стал считать себя не только поэтом, но и кем-то вроде Иисуса. От других исторических героев, занимавших подобные позиции (и часто в результате попадавших в лапы психиатров), Георге отличался тем, что его прислужники воспринимали его именно так, как он того желал.
К 1910 году Георге окружало около тридцати человек, которые являли собой, как они считали, радикальную альтернативу буржуазному (христианскому) образу жизни. У них были четко определенная цель и единство, в отличие от рыхлых соединений в буржуазном обществе, и эта группа предлагала новый образ жизни вопреки обществу, объединенная общей ненавистью к современному миру. В книге «Седьмое кольцо» (1907) Георге даже представил свою приватную эсхатологию, заявив о прекращении старого и явлении нового образа жизни учеников, окружающих своего наставника. Ученичество, о котором открыто говорили некоторые члены кружка, могло показаться совершенно чужеродной и даже смешной идеей, тем не менее оно освобождало ученика от «надменной изоляции Эго» и позволяло ему жить в поклонении и хвале, что было целью и спасением для учеников (практически все они были мужского пола).
«Ученик не должен заниматься подражанием, – говорил Гундольф. – Они должны гордиться уникальностью их учителя. Им не нужно воспроизводить его образ – но нужно скорее быть его произведением, им не нужно показывать его застывшие черты характера и жесты – но впитать в себя его кровь и дыхание, его свет и его тепло». «Ученики Führer’а [господина], – продолжает Гундольф, используя не слишком удачную метафору, – должны стать ходячими печами, которые он разогрел, материей, которую он одушевил и т. д. Только Führer или наставник может называться «личностью» в подлинном смысле этого слова… Тот, кто понимает, что он не наставник, должен научиться быть слугой или учеником – [что] лучше, нежели суетливое тщеславие».[293]293
Norton, op. cit., p. 410.
[Закрыть]
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?