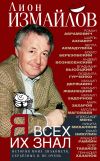Текст книги "Лазурный берег, или Поющие в терновнике 3"

Автор книги: Пола Сторидж
Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
II. ОКСФОРД
Лион
Людям, более или менее знавшим герра Лиона Мерлинга Хартгейма, он всегда представлялся воплощением деловых качеств – пунктуальности, порядочности, благоразумия, сдержанности и типично немецкой практичности.
Многим людям – и там, в Германии, и здесь, в Англии – Лион казался образцом того, что чаще всего называют «комильфо».
Да, пожалуй, так оно и было на самом деле: вряд ли можно было разыскать хотя бы одного человека, который усомнился бы в честности и искренности Лиона, в той его отличительной черте, которую сами британцы часто характеризуют как «достопочтенность».
Так все и было по крайней мере чисто внешне; но в действительности в самом Лионе давно уже шла длительная и упорная работа. Так часы, заключенные в глухую скорлупу футляра, никогда не дают какого-нибудь представления о своем внутреннем механизме.
Толчком к этой внутренней работе послужило знакомство с кардиналом. Тогда в Ватикане, в драматические июльские дни 1943 года Лион впервые почувствовал, что кроме видимых жизненных ценностей, о которых он знал с детства, кроме очевидных пружин, которые обычно управляют поступками людей и, в конечном счете, вершат их судьбы, есть еще и многие незримые…
Что за каждый свой поступок – добрый ли, злой ли – за любой поступок всегда придется платить, и платить по полному счету.
Неожиданная смерть дочерей лишний раз убедила Лиона, что это не иначе, как какое-то наказание за грех…
Не что иное как наказание.
Но за какой же грех?
Может быть, за то, что во времена Третьего Рейха он служил в вермахте?
Но ведь тогда вся Германия стояла под ружьем – разве можно было бы обвинять людей только в том, что их страна оказалась на грани катастрофы?
Все были в большей или в меньшей степени наказаны за то зло, прямыми или косвенными участниками которого они являлись…
Лион долго и мучительно размышлял над тем, чем же он прогневал Его, того, кто наказывает людей за их прегрешения, но так и не нашел никаких очевидных причин.
Нет, конечно же он, герр Мерлинг Хартгейм, был грешен – впрочем, в такой степени, в какой бывают грешны абсолютно все люди.
Безгрешных людей в мире не существует – и это очевидно.
Но он, Лион Мерлинг Хартгейм, мог с уверенностью сказать: никогда никто не мог бросить в него камень за то, что он сознательно причинил кому-нибудь зло, что он намеренно совершил дурной, скверный поступок.
Да, в его жизни порой возникали ситуации, о которых он потом очень жалел, были моменты, в которые он не хотел возвращаться даже мысленно – а у кого же, спрашивается, их нет?
Но наказание за грех – смерть обоих дочерей – оказалась несопоставимым ни с одним грехом, какой знал за собой Лион.
Он изощрялся, пытаясь вспомнить не только совершенные им когда-то дурные поступки, но и приписывая себе даже то зло, которого он никогда не совершал, однако и это не помогло ему понять, ответить на главный вопрос, который мучил его вот уже столько времени…
За что?
Оставалось только повторять старую, замусоленную истину – «пути Господни неисповедимы».
Впрочем, самому Хартгейму легче от этого не становилось.
Часто, очень часть Лион ловил себя на мысли, что он постоянно, мучительно пытается разобраться в понятиях «причины» и «следствия», то есть даже не столько в мотивах, определяющих те или иные поступки людей, а последствия этих поступков…
Неужели в мире все действительно предопределено – от самого начала и до конца?
Несомненно.
Но ведь связь между какими-то пусть даже малозначащими поступками людей и их последствиями тоже есть, это несомненно – не так ли?
Наверняка есть.
Но как же ее угадать, эту связь?
Ну, например, сцена свидетелем которой когда-то был сам Лион – это было давно, очень давно, кажется, сразу после войны, где-то в северной. Италии…
По неширокой улице на малой скорости двигался роскошный автомобиль, принадлежавший скорее всего англичанину или американцу.
На перекрестке он притормозил, стекло опустилось, и рука человека, сидевшего в нем, бросила на тротуар почти целую недокуренную, сигару.
Ее тут же подобрал нищий мальчишка, но не успел он сделать и несколько шагов, как был раздавлен армейским грузовиком…
Если бы автомобиль ехал в другое время по этой улице, если бы в нем сидел тот самый пассажир, но ему не захотелось бы курить, или если бы сигара не показалась столь скверной, и он не выбросил бы ее именно в том месте, где околачивался нищий, если бы грузовик в то же самое время не двигался по той же улице, где мальчишка бросился на дорогу…
О, сколько же этих «если бы»…
Неужели все было заранее предопределено?
Лион был уверен, что это не так.
Все имеет начало и имеет конец, и, наверняка, все эти события не могли не случиться и не привести к смерти нищего…
Сколько ни думал над подобными вещами Лион, сколько ни ломал себе голову, он приходил к одному и тому же выводу, а именно: случилось именно то, что и должно было случиться…
Часто, очень часто Лион примерял подобные, совершенно малозначащие ситуации к самому себе, пытаясь ответить на вопрос: что было бы, если бы он… Ну, скажем, шел не по той стороне улицы, где он обычно ходит, а по другой?
Или если бы он проснулся сегодня не в восемь утра, как обычно, а в десять – неужели весь день его сложился бы как-то иначе?
А если бы день его был не таким, каким был, могло ли это повлиять на его дальнейшую жизнь?
Как ни ломал он себе голову, но ответить на такой нелепый с первого взгляда вопрос так и не мог…
Джастина была неприятно поражена той холодностью, тем равнодушием, с которым Лион воспринял известие о смерти ее студийцев – ни в чем не повинных Гарри и Мэри, погибших во время взрыва в районе стадиона «Уэмбли».
Равнодушие это проистекало не потому, что Лион по природе своей был черствым человеком – скорее наоборот (как и большинство немцев, герр Хартгейм в душе был очень сентиментален).
Просто, выслушав взволнованный рассказ своей жены о произошедшем, Лион сразу же понял: случилось то, что должно было произойти…
Нет, он не был фаталистом – таковыми, как правило, становятся или ненавидящие человечество люди, злые и ожесточенные, или люди, не умеющие разбираться в жизни и потому все валящие на злой рок, фатум…
При всем желании Лиона нельзя было отнести ни к первым, ни ко вторым.
Но, узнав о нелепой смерти подопечных Джастины, он понял: их смерть была предопределена; да, они должны были умереть именно в этот день, вместе…
Было ли это наказание за грехи?
Он не думал об этом; наверное, было раз все случилось именно таким образом, а не иначе.
За что?
Лиона это не интересовало; во-первых, он не знал погибших, а во-вторых – в этой ситуации его интересовали исключительно «причина» и «следствие»…
Как бы там ни было, но, наверняка, главной мыслью, к которой пришел Лион в старости, была мысль о неминуемой, обязательной наказуемости зла.
Зло неизбежно наказывается – и, как правило, не там, в загробном мире, но тут, среди живых…
Это, наверное, закон природы…
Если тебя постигло какое-то несчастье, то обвинять в этом следует только себя, и никого иного.
Иногда Лион колебался в своих мыслях, иногда верил в них куда горячее, чем кто-либо иной…
В такие минуты он часто открывал выдвижной ящик письменного стола, доставал оттуда толстую тетрадь в истертом кожаном переплете, листал пожелтевшие от времени страницы и читал записи покойного кардинала – они придавали ему уверенность в том, что он прав…
Старинные антикварные часы в кабинете, гордость Лиона, часы, которые он непременно показывал всем немногочисленным гостям, приходившим в этот дом, пробили половину третьего.
Но Лион даже не обернулся на их бой – теперь он был занят другим, и мысли его витали далеко от будничных забот.
Сегодня он был умиротворен и на удивление спокоен – да, сегодня они с Джастиной должны были пойти в комиссию по опекунству; сегодня они впервые увидят Уолтера и Молли, а может быть – как знать? – может быть даже заберут их с собой…
Все необходимые бумаги уже собраны, отнесены в комиссию и подшиты клерком в специальную папку.
Джастина согласна.
Возможно, она все это время только делает вид, что согласна?
Да нет, вряд ли…
Не такой человек Джастина – кто-кто, а Лион это знает наверняка.
Джастина, в отличие от многих других человек искренний…
За это, наверное, и полюбил ее Лион.
Впрочем, не то, не то: ведь Лион и сам не раз говорил, что нельзя любить человека за что-то конкретное, за какой-то определенный набор качеств – скажем, за то, что он искренен, беспристрастен, добр, великодушен, красив, умен, щедр, отважен…
За это можно только уважать.
А вот любить…
Любят не за что-нибудь особенное, любят лишь за то, что человек есть на свете… Нет, опять не то…
Любовь – это чувство неосознанное, слепое, темное…
Любовь – это какое-то взаимное тяготение душевных флюидов…
Так и у них с Джастиной. Уважают ли они друг друга? Несомненно.
Во всяком случае, Джастину есть за что уважать.
Уважает ли Джастина его?
Лион при этом мысленном вопросе лишь кротко улыбнулся – о, только не надо кривить душой, только не надо говорить самому себе: «хочется верить» или «надеюсь»…
Я ведь прекрасно знаю, что я значу для Джастины, и она знает, что значит для меня…
Я люблю и любим, но она ведь в добавок и уважает меня!
Он сидел у полураскрытого окна, спиной к свету, и косые лучи неяркого оксфордского солнца падали на его плечи, на его уже дряхлую, старческую шею.
Нет, конечно же, Джастина тогда в кафе покривила душой, сказав, что ему еще рано записываться в старики, а ведь это на самом деле именно так…
Надо бы подумать и об итогах…
«Да, Лион, ты слишком стар, чтобы не думать об этом – помнишь, ты ведь сам как-то сказал, что в твоем возрасте непростительно не думать о таких вещах…»
В тот день Лион был настроен философски; видимо, причиной тому была погода – солнечная, хотя и немного ветреная: типичная погода для такого времени года.
Хартгейм поднялся со своего места и не спеша прошелся по комнате, разминая отекшие от длительного сидения на одном месте ноги.
Мысли его как-то сами собой возвращались к их последнему разговору с Джастиной, и видимо воспоминание это послужило импульсом для дальнейших размышлений.
Да, конечно же, все в жизни взаимосвязано…
Правильно сказал как-то Ральф – любой злой поступок, совершенный тобой действует по принципу бумеранга: ты «запускаешь» его, но, в отличие от бумеранга, не знаешь, с какой стороны он вернется, и через какое время…
Да, как жаль, что кардинала больше нет – Лион наверняка знал, что теперь он бы наверняка стал и для него, и для Джастины духовной опорой на старости дней…
Тяжело вздохнув, Лион прошел в свой кабинет, и там, оглядевшись по сторонам, извлек из выдвижного ящика заветную тетрадь в потертом кожаном переплете.
Раскрыв страницу, заложенную старой открыткой с видом Бонна, он принялся читать…
«Ты хочешь доставить себе искреннее удовольствие? – читал Хартгейм, – но долго ли будет жить твое тело? Заботиться о благе тела – все равно, что строить себе дом на зыбком песке. Какая же радость может быть в такой жизни, какое спокойствие? Не опасаешься ли ты рано или поздно, что песок просядет или осыплется, что рано или поздно тебе все равно придется оставить свое тело? Перенеси же дом свой на твердую почву, работай над тем, что не умирает: улучшай свою душу, освобождайся от грехов – и в этом благо… Но люди, осознавая это, тем не менее продолжают строить жилища свои на зыбком песке, не понимая, что усилия их тщетны, и что таким образом они обманывают только самих себя…»
Он на минуту отложил чтение.
Как бы то ни было, а это вряд ли может быть отнесено к нему – ведь он, Лион, никогда не ставил своей задачей заботу о благе, как выразился кардинал, «тела»…
И дом его стоит на твердом грунте.
Что есть его дом?
Он сам, любимая жена…
И, даст Бог – Эмели и Уолтер, дети. Которых он, еще не видя, уже полюбил…
Усевшись в кресле поглубже, Лион продолжил чтение:
«Дурно лгать перед людьми, но еще хуже перед самим собой. Вредна такая ложь прежде всего тем, что во лжи перед людьми другие люди уличат тебя; во лжи же перед собой тебя некому уличить. И потому берегитесь лгать перед самими собою, особенно когда дело идет о вере. Нельзя взвесить, нельзя измерить того вреда, который производили и производят ложные веры. Вера есть установление отношений человека к Богу, к миру и вытекающие из этого отношения определения своего назначения. Какова же должна быть жизнь человека, если это отношение и вытекающие из него определения – ложны? Грех обманывать самого себя, но еще больший грех – обманывать людей, которые поверили в тебя…»
Лгал ли он когда-нибудь сам себе? О, как трудно ответить на этот вопрос… Конечно же, да…
В конце концов, это была ложь во спасение…
Часто, очень часто Лион стремился думать о многих Окружающих его людях значительно лучше, чем они того заслуживали на самом деле.
И он не видит в этом большого греха.
Лион продолжал чтение:
«Дело нашей жизни на этом свете двойное. Одно – взрастить в себе свою душу, данную нам Господом нашим, другое – установить Царство Божье на земле. Делаем мы и одно, и другое одним и тем же: тем, что освобождаем в себе тот божественный свет, который изначально заложен в наши души…»
Стремится ли он, Лион Хартгейм стать лучше, чем есть на самом деле? Наверное…
Во всяком случае, мысли его постоянно заняты подобными вещами – и это уже хорошо.
Но в этот день, в день, когда в их дом должны будут впервые войти Уолтер и Эмели, Хартгейм не хотел думать о подобных вещах – тем не менее он мысленно все время примеривал размышления кардинала к самому себе.
Что поделаешь – так уж устроен человек: прочитав что-нибудь глубокомысленное, абстрактное, он тут же стремится справиться у самого себя, насколько это подходит или не подходит ему…
«Достоинство человека может состоять исключительно в его духовном начале, которое некоторыми людьми называется разумом, а некоторыми – совестью. Начало это, поднимаясь выше местного или временного, содержит в себе несомненную истину и вечную правду. И даже в среде несовершенного, в нашем мире, оно видит свое совершенство. Начало это всеобще, беспристрастно и всегда в противоречии со всем тем, что пристрастно и себялюбиво в человеческой природе. И это начало властно говорить каждому из нас, что ближний наш столь драгоценен, как и сами мы, и его права столь же священны, сколь священны и наши права. И это начало велит всем нам воспринимать истину, как бы ни была она противна нашей гордости, и быть справедливым, как бы это ни было невыгодно нам. Оно же, это начало, призывает всех нас к тому, чтобы любовно радоваться всему тому, что прекрасно, свято и счастливо, в ком бы мы ни встретили эти замечательные свойства. Это начало и есть луч, данный человеку свыше…»
– Радоваться всему тому, что прекрасно, свято и счастливо, – вполголоса повторил Лион.
Да, теперь, когда им с Джастиной осталось уже не так много, теперь, когда большая часть жизненного пути уже пройдена, остается одна радость, одно счастье – дети…
Пусть не свои, пусть усыновленные…
Но кто сказал, что от этого они станут менее дороги, менее желанны?
Лион перевернул страницу.
«Заблуждения и несогласия людей в деле искания и признания истины происходят ни от чего иного, как от недоверия к разуму; вследствие этого жизнь человеческая, руководимая чаще всего ложными представлениями, суевериями, преданиями, модами, предрассудками, насилием и всем, чем угодно, кроме разума, течет как бы сама по себе, а разум в это же время существует как бы сам по себе. Часто бывает и то, что если мышление и применяется к чему-нибудь, то не к делу искания и представления истины, а к тому, чтобы во что бы то ни стало оправдать и поддержать обычаи, предания, моду, суеверия, предрассудки… Заблуждения и несогласия людей в деле искания истины – вовсе не оттого, что разум у людей не один и не потому, что он не может показать им предельную истину, а потому, что они просто не верят в такую возможность. Да, если бы люди поверили в свой разум, то быстро бы нашли способ сверить показания своего разума с показаниями его у других людей. А нашедши этот способ взаимной проверки, быстро бы убедились, что разум – один у всех, на все человечество, и быстро бы подчинились его велениям… Когда человек начинает осознавать такие очевидные вещи ему сразу же становится легче жить… Он начинает следить за собой, он перестал гневаться на людей… Надо сказать себе, едва ты только открыл глаза: сегодня, сейчас может случиться такое, что придется иметь дело с дерзким, наглым, лицемерным, низким и докучливым человеком. Такие люди часто встречаются в нашей жизни… Такие люди не знают, что хорошо, а что – дурно. Но если я сам твердо знаю, что хорошо, а что – плохо, понимаю, что зло для меня – только то дурное дело, если я сам его совершу, – если я действительно осознаю это, то никакой дурной человек ничем и никогда не сможет повредить мне. Ведь никто на целом свете не может заставить меня делать зло. Ведь зло – всегда только от бессилия…»
– Да, – шепотом произнес Лион, обращаясь, по-видимому, то ли к покойному Ральфу, то ли к самому себе. – Да, зло – оно ведь только от бессилия…
«Конечно же, мне неприятно, что меня осуждают. Но как избавиться от этого неприятного чувства? Надо смириться, тогда, зная свои слабости, не будешь сердиться за то, что другие указывают на них. Это не всегда может быть высказано в любезной форме, но и к таким замечанием следует прислушиваться… Во всяком случае, каждый человек всегда поступает так, как ему выгодно только для себя. Если человек будет постоянно помнить об этом, то никогда и ни на кого не станет сердиться, никого не станет бранить и попрекать, потому что если человеку точно лучше сделать то, что тебе не всегда приятно, то он по-своему прав и не может поступить иначе. Если же такой человек ошибается и делает то, что для него не лучше, а хуже, то в таком случае хуже бывает только ему самому… Такого человека можно пожалеть, но никогда нельзя на него сердиться… Глубокая река не возмущается, если в нее бросить камень; если же она возмущается, то она не река, а лужа… Точно также – и человек… Умный человек никогда не будет сердиться на оскорбление. Если он – действительно умный и глубокий человек…»
Сержусь ли я, если меня обижают…
Теперь, наверное, нет…
Наверное потому, что я давно уже не чувствую ни на кого никаких обид…
Разве что, вспоминая кое-какие страницы своей прошлой жизни? Да, наверное…
Но ведь это было давно – тогда для чего, зачем сердиться?
Чтение, как часто бывало и раньше, когда Лион уединялся с этой тетрадью, все больше и больше увлекало его.
«Да, и я начал задумываться над своей жизнью… В том числе – и над той жизнью, которую многие называют повседневной… Я понял, что нельзя потакать телу, нельзя давать ему лишнее, сверх того, что ему нужно… Это – большая ошибка, потому что от роскошной жизни не прибавляется, а наоборот – убавляется удовольствие от еды, сна, от одежды, от всего, чем себя окружаешь… Стал есть лишнее, сладкое, не проголодавшись, – расстраивается желудок, и нет никакой охоты к еде и к удовольствиям… Стал ездить на роскошной машине там, где мог просто пройтись пешком, привык к мягкой постели, к нежной, сладкой пище, к роскошному убранству в доме, привык заставлять других делать то, что сам можешь сделать, – и нет больше радости отдыха после тяжелого, изнурительного труда, нет радости тепла после холода, нет крепкого, здорового сна и все больше ослабляешь себя, и не прибавляется от этого тихой радости и спокойствия… Такие блага, такой комфорт – не в радость, а только в муку… Он не приносит ничего, кроме страданий и неудобств. Людям надо учиться у животных тому, как надобно обходиться со своим телом. Только у животного есть то, что действительно нужно для его тела, и такое животное довольствуется этим; человеку же мало того, что он уже утолил свой голод и свою жажду, что он укрылся от непогоды, согрелся после холода… Нет, он придумывает различные сладкие питья и кушанья, строит дворцы и готовит лишние одежды, любит различную ненужную роскошь, от которой по большому счету ему живется не лучше, а наоборот – куда хуже… Не расчет приучать себя к роскоши, потому что, чем больше тебе для тела нужно, тем больше надо трудиться телом для этого, чтобы накормить, одеть, поместить свое тело… Ошибка эта незаметна только для таких людей, которые тем или иным обманом сумели так устроиться, чтобы другие должны были работать не на себя, а на них, так что для подобных людей это уже не расчет, а дурное, некрасивое дело… Как дым изгоняет пчел из ульев, так излишества изгоняют из человека его лучшие силы…»
Странное дело – всякий раз, перечитывая эти записи, сделанные так давно уже умершим человеком, Лион испытывал какое-то безотчетное волнение…
Сегодня оно почему-то было особенно сильным, и это поразило его.
Лион закрыл тетрадь и, положив ее в выдвижной ящик, задумался…
Лион принадлежал к тому типу людей, которые никогда категорично не осуждали других – во всяком случае, стремились к этому всеми силами.
Еще в юношеские годы, когда человек особенно восприимчив, Хартгейм услышал когда-то фразу, надолго запавшую ему в душу:
– Если тебе вдруг захочется осудить кого-нибудь, то вспомни, что не все люди обладают теми преимуществами, которыми обладаешь ты.
Фраза эта заключала в себе куда более глубокий смысл, чем можно было подумать сначала.
Тогда Лион размышлял над ее скрытым смыслом, и вскоре у него появилась привычка к сдержанности в суждениях – привычка, которая часто служила ему ключом к самым сложным и изощренным натурам и еще чаще делала его жертвой матерых надоед.
Любой, пусть даже самый недоразвитый ум всегда чувствует эту сдержанность, и если она проявляется в окружающих, то такой ум всегда стремится зацепиться за нее.
И очень часто такому сдержанному человеку начинают поверять самые страшные и сокровенные тайны, самые глубинные переживания и горести.
Впрочем, сам Лион никогда не искал подобного доверия; хотя и понимал, что сдержанность в суждениях – залог неиссякаемого доверия людей.
Однако все имеет свои границы, и если Лион был всегда более чем сдержан в суждениях об окружающих, то к себе самому порой бывал просто беспощаден.
В тот день его критическое настроение по отношению к себе только усилилось – видимо, не без влияния прочтенных только записей покойного Ральфа.
– Да, – еле слышным шепотом, обращаясь лишь к самому себе, произнес Лион, – все имеет свое начало и имеет свой конец…
Поднявшись со своего места, он прошел на балкон и, перегнувшись через перила, посмотрел на блестящие в лучах неяркого солнца лужи. – Все и во всем…
Неожиданно Лиону стало очень жалко самого себя – нестерпимо, пронзительно жалко…
Все то, к чему стремился всю свою жизнь – почет, уважение в обществе, успех – все это было достигнуто.
И что же теперь?
Надвигается старость…
Сколько ему осталось – пять, десять, пятнадцать, двадцать лет?
Никому не известно…
Как он проживет эти годы?
С трудом оторвав глаза от блестящих бликов в лужах на мостовой, он вернулся в свой кабинет.
– Нет, резюмировал свои размышления Лион, – если я… если мы не сможем заменить этим несчастным детям родителей, если мы… не станем им всем… Тогда можно будет считать, что я прожил свою жизнь напрасно…
Голос Джастины, доносившийся из прихожей, вернул его к действительности:
– Лион, нам пора…
Встрепенувшись, точно от сна, Лион поднялся и принялся одеваться.
В этот момент в комнату вошла Джастина. Она улыбалась, но Лион заметил, что жена его была сегодня немного бледнее обычного.
– Наверное, нам уже пора, – произнесла она, присаживаясь в кресло.
– Это ты насчет комиссии по опекунству? – осведомился Хартгейм.
Она кивнула.
– Да.
Посмотрев на часы, он произнес:
– Без четверти четыре… А на который час нам назначено?
– По-моему, на пять…
Достав из кармана блокнот для ежедневных записей, которые Лион вел со свойственной ему педантичностью, он развернул его на нужной странице.
– Все правильно, – подтвердил Лион. – Мистер Лоуренс, чиновник из этого ведомства, назначил нам встречу ровно на семнадцать ноль-ноль…
Джастина с уважением посмотрела на мужа: да, такая вот скрупулезность во всем – вот чего ей всегда не хватало в жизни!
– Кстати, а как его зовут?
– Уолтер, – ответил Лион, решив что его жену интересует имя мальчика, а не чиновника. – Ты ведь знаешь, я тебе столько раз говорил… Мальчика зовут Уолтер, ему четырнадцать, а сестру его зовут Эмели, Молли…
– Молли, – произнесла Джастина свистящим шепотом. – Хорошее имя… – Она немного помолчала, улыбнулась, а потом словно вспомнив что-то, произнесла: – Нет, нет, я тебя не об этом хотела спросить…
– А о чем?
– Как зовут того мистера, который…
– А, мистера Лоуренса? Сейчас посмотрю… И Лион вновь раскрыл свой блокнот.
– Элвис… Элвис Лоуренс, – ответил он. Вновь положив записную книжку в карман, Лион искоса посмотрел на жену.
Нет, конечно же, этот вопрос относительно имени чиновника из комиссии по опекунству был задан ею не потому, что Джастина действительно хотела знать его имя…
Вопрос этот она задала только потому, что таким образом хотела скрыть волнение.
Лион тоже волновался.
Еще бы – ведь сегодня состоится встреча с детьми…
Как они воспримут своих новых родителей?
Никто не мог ответить на этот вопрос – ни он, Лион, ни Джастина.
Он посмотрел на часы – было без семи минут четыре.
Лион, усевшись поглубже, положил руки на колени – точно примерный ученик на уроке в школе – раньше других выполнил задание учителя и вот теперь ждет…
Джастина подсела поближе.
– Волнуешься? – спросила она.
– Нет, нет…
Сказал – и отвернулся, чтобы по выражению его лица Джастина не смогла уловить беспокойства, которое действительно охватило Лиона; он начал волноваться сразу же, как только Джастина напомнила ему о детях.
Она нежно провела рукой по его густым, уже седым волосам.
– Знаешь – я тоже волнуюсь… – призналась она и отвернулась.
– Да?
– Ты находишь, что это неестественно?
Покачав головой, Лион произнес:
– Нет.
– Впрочем, я вижу, что и ты тоже…
– Я? – спросил Хартгейм, стараясь вложить в свои интонации как можно больше показного спокойствия.
– Ну да, – мягко произнесла Джастина. – Только не пытайся убедить меня, что это не так…
Неожиданно Лион улыбнулся.
– Да, мне что-то немного не по себе… Поцеловав мужа в лоб, Джастина промолвила:
– Не надо… Все будет хорошо – я же знаю…
Полчаса они провели молча, но точно на иголках, то и дело поглядывая на часы. Наконец Лион сказал:
– Ну все: пора…
Спустя несколько минут маленький «фиат», выехав со стоянки, описал правильный полукруг и направился в сторону центра города – к угрюмому зданию начала восемнадцатого века, где и располагалась комиссия по опекунству…
Дорога заняла немного времени – минут пятнадцать, и при желании это расстояние можно было пройти пешком.
Лион, сидя за рулем, сосредоточенно следил за дорогой, хотя она была пустынна.
Половину пути они проехали в полном молчании, и, когда машина затормозила у перекрестка, Лион, повернувшись к жене, поинтересовался:
– Ты все приготовила?
Джастина встрепенулась.
– Для детей?
– Угу…
– Да, все готово еще со вчерашнего дня…
– Где они будут жить?
– В комнате на втором этаже… Думаю, им там будет неплохо…
Джастина говорила о совершенно обыденных, казалось бы, вещах, но голос ее звучал очень напряженно.
Лион с улыбкой посмотрел на жену.
– По-прежнему волнуешься?
Она вздохнула.
– Волнуюсь…
– Я тоже…
В голосе Хартгейма прозвучали доверительные интонации.
Джастина взяла мужа за руку. – Не волнуйся, дорогой… Я думаю, что все будет хорошо…
Обыденное сознание рисует людей, так или иначе причастных к сиротским приютам, воспитательным домам, закрытым интернатам и тому подобным заведениям, существами злыми, мелочными, склочными и жадными, и особенно здесь, в Англии – видимо, эта традиция все еще сильна со времен Диккенса с его мистером Бамблом.[5]5
Один из отрицательных персонажей романа Ч. Диккенса «Оливер Твист» (прим. Переводчика)
[Закрыть]
О мистере Элвисе Лоуренсе, чиновнике комиссии по опекунству, этого нельзя было бы сказать при всем желании: мистер Лоуренс был тихим, уравновешенным, на редкость улыбчивым человеком.
Поднявшись на второй этаж, Лион и Джастина в нерешительности остановились перед дверью его кабинета.
Постояв так несколько минут, Лион твердо взялся за ручку, повернул ее и шагнул в комнату.
Следом за ним вошла и его жена.
Мистер Лоуренс, сидя за огромным столом черного дерева, что-то писал.
Лиону почему-то сразу же бросился в глаза не сам мистер Лоуренс, а стол, за которым он сидел – необъятный, с идеально отполированными поверхностями, которые отражали солнечные лучи, падавшие через окно, – за стол этот запросто можно было бы усадить еще трех таких чиновников, как мистер Лоуренс.
Заметив вошедших Лиона и Джастину, чиновник тут же отставил свои дела и, поднявшись, приветливо поздоровался.
– Добрый день, мистер Хартгейм… А это… Простите, а что тут делает великая актриса мисс О'Нил?
Видимо, мистер Лоуренс был одним из немногих давних поклонников Джастины, кто еще не знал ни о перемене в ее семейном положении и, соответственно, об изменении ее фамилии, ни того, что теперь она живет в Оксфорде. Не знал он, разумеется и того, что именно она, Джастина – жена этого почтенного немца, который усыновить детей.
Заметив Джастину, мистер Лоуренс поспешно рванулся со своего места навстречу знаменитой актрисе.
– Здравствуйте!
Она кивнула.
– Добрый день.
– Чем обязан такой чести…
Пройдя в глубь комнаты, Джастина произнесла:
– Мы с мужем, мистером Хартгеймом, решили усыновить двоих детей…
У Элвиса от удавления глаза полезли на лоб.
– Как?! – воскликнул он, обращаясь к Лиону. – Разве мисс… О, простите великодушно, – он обернулся к Джастине, – разве миссис О'Нил – ваша жена?
– Моя жена – миссис Хартгейм, – произнес Лион, довольный неизвестно чем, – и мы действительно решили усыновить этих детей…
Вид у мистера Лоуренса был очень смущенный. Указав рукой на стул, он произнес:
– Присаживайтесь, пожалуйста… Лион и Джастина сели.
Лоуренс, непонятно чему улыбаясь, достал папку, на которой черным официальным шрифтом было выведено: «Уолтер и Эмели О'Хара»
Полистав, он отложил ее на край стола и устремил на вошедших взгляд своих голубовато-водянистых глаз.
– Итак, миссис и мистер Хартгейм, – произнес он, откашлявшись, – комиссия по опекунству, рассмотрев вашу просьбу, пришла к выводу, что…
Джастина искоса посмотрела на Лиона – тот сидел прямо, положив руки на колени (как давеча в своем кабинете) и, не мигая, смотрел на чиновника…
– …пришла к выводу, что вполне может удовлетворить вашу просьбу.
Лион заулыбался.
– Спасибо…
– Не за что благодарить нас, мистер Хартгейм, – любезно отвечал мистер Лоуренс, – наоборот: я от имени правительства и Ее Величества королевы Англии, Шотландии, Ирландии и Уэльса уполномочен поблагодарить вас за то, что вы проявили гражданское мужество и пожелали усыновить двух несчастных детей… Все-таки, – в голосе чиновника прозвучали прочувственные нотки, – все-таки, что ни говорите, а в наш меркантильный век не часто можно встретить такие душевные порывы… Надеюсь, – голос мистера Лоуренса прозвучал более возвышенно, – надеюсь, миссис и мистер Хартгейм, что вы сможете заменить им и отца, и мать…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.