Текст книги "После катастрофы"
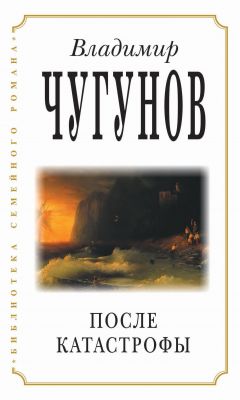
Автор книги: протоиерей Владимир Чугунов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 13 страниц)
* * *
Всё это прекратила дочь:
– Па-а, просыпайся, прилетели!
Когда оказались в очереди на выход из самолёта, в голове у Евдокимова радостно пронеслось: «Ну вот мы и дома!» И хотя после Пекина Москва представлялась захолустьем, всё-таки это был уже свой родной «странноприимный дом».
На Курском, в ожидании «Сапсана», расположились в кафе на балконе.
До подачи поезда была уйма времени, и Евдокимов решил посмотреть почту. Для этого пришлось распаковывать чемодан.
Достав планшет и подключившись к интернету, обнаружил в почтовом ящике два письма. Одно – от китайского продюсера с информацией о каналах связи, другое – от того самого «почётного гражданина города», которому накануне поездки отправил свои размышления по поводу того, что накопилось в душе и не находило выхода.
Скачав прикрепленный файл и выйдя из сети, Евдокимов открыл письмо. И, странно, чем дальше его читал, тем больше оно казалось ему неубедительным, когда желаемое пытаются выдавать за действительное, и даже чем-то вроде идиллии, присущей, по его мнению, священству вообще, живущему как бы в ином измерении. И вместе с тем письмо заставляло думать, сердиться и думать…
«Ты спрашиваешь, Анатолий, что происходит и как всё это «безобразие», как ты выражаешься, объяснить? Трудные ты задаёшь вопросы. Но я всё-таки попытаюсь на них ответить. И в первую очередь по поводу России.
Константин Леонтьев, например, считал Россию миром «особой жизни, не нашедшим ещё себе своеобразного стиля культурной государственности».
К сожалению, это мало кто принимает во внимание, а из тех, кто «принимает», далеко не все пускаются в описание особенностей этого мира, ибо привычный понятийный инструментарий для описания государственного устройства здесь «не работает» или, точнее говоря, явно недостаточен. Россия – не государство; вернее, не совсем и не только государство. Этот «целый мир особой жизни» лучше всего описывается словом «царство», но для этого понятийного комплекса совершенно не разработана система составляющих его элементов. И, честно сказать, вряд ли такая система возможна вообще, кроме как в жанре сказки, которая хотя и «ложь», «да в ней намёк – добрым молодцам урок». Пока таких молодцев не нашлось… Хотя – как сказать. Если нет учёных мужей, всерьёз занимающихся проблемой «царства», зато появляются подобные сказочным героям такие Иванушки-дураки, неучёные Иванушки, которые в своей государственной работе всё-таки ощущают себя создателями царства. Последние российские императоры явно стремились войти в образ царя – именно в «образ», в освящённый Церковью образ Русского мира. И вина в неудаче этого стремления принадлежала отнюдь не царскому дворцу.
Да, монархия к тому времени была анахронизмом; охладевшие к религии сердца, воспитанные холодноватым восхищением культуры, уже не могли так беззаветно «любить царя», как это было в русской истории, и так же нуждаться в нём. Личность, возросшая на почве культуры, с испаряющейся религиозностью и отныне лишь слабо удобренной начатками христианства, только и могла считать царя человеком, «таким же, как все», лишь рангом повыше, так сказать, высшим чиновником, но отнюдь не сакральной фигурой, скорее – символической, знаковой. Причём в глазах общества царю с каждым годом всё необходимее было доказывать своё право быть даже такой, «знаковой», фигурой. И с каждым годом в сознании общества эти «доказательства» (со стороны монарха – просто «оказательства» его самодержавности) становились всё менее убедительными. Не потому, что не имели в себе доказательной силы, а потому что общество не хотело признавать её таковою – оно само хотело царствовать. Но царствовать ему «не дано». Когда «общество» добивается, в конце концов, такого положения, когда ему позволяется воображать, что оно «само правит», им обычно управляют циничные и насмешливые люди, безжалостно приводящие его к гибели духа в наркотическом сне воображаемой «свободы».
По своей исторической сущности общество должно быть «управляемо». Это – команда на судне, ведомом капитаном. А капитан обычно «поставляется» высшей властью. В разных вариантах: как Саул, как Рюрик или Джордж Вашингтон. Или как Наполеон и Ленин – высшей волей бунта. Но выборы капитана происходят только в редких, крайних случаях и ещё реже бывают удачны. На примере Соединённых Штатов история нам демонстрирует выборный конвейер, который вообще не имеет отношения к власти, к той власти, которая просто обновляет президентов, как выцветшие вывески на фасаде процветающей фирмы. Пример удачного выбора предоставляет история России: Рюрик и царь Михаил. То есть выборы бывают удачны только в том случае, когда команда сживается, сливается в нечто гармонично согласное, и тогда выбор мудрых или просто дельных, знающих людей, одушевлённых единой духовностью, превращается в общую волю, которая и поведёт судно по безопасному курсу.
И теперь этот курс прокладывается – осторожные, ощупью, с отступлениями и ошибками, идут поиски небывалой, новой формы культурной государственности. Причём ничего не изобретается – это важно из-за отсутствия гибельной «утопичности», придуманности, свойственной всем идеологиям, – эта новая форма государственности складывается из вполне известных по отдельности элементов, в разных сочетаниях давно опробованных на Западе. Но эти элементы государственной жизни, временно облегчив на историческом пути бремя человека, войдя в законы, быт и нравы, превратились в новое бремя, не только задавившее былую «остаточную» духовность западной деятельности, но и превращающее эти «остатки» в нечто совершенно противоположное. Теперь не Запад владеет демократизмом, к которому стремился всю свою историю, а отвлечённый демократизм деспотически владеет Западом, причём ему, как и всякому деспоту, свойственна дикая, демоническая ирония: «безусловное благо» демократических институтов не только часто сокрушительно воздействует на судьбы людей, но и приводит народы к замиранию национальной жизни.
Призрак бродит по ослепшей и оглохшей Европе – призрак юридической демократии… Но власть народа, по гениальной мысли славянофилов, это – нравственная власть. И для того чтобы иметь право на эту власть, народ – в массе своей – должен быть нравственным. Самое страшное наследие советского периода – отвлечение нравственности от бытовой жизни народа, превращение её в идеологию. Подспудную, ползучую, бытовую развращённость масс ярко продемонстрировали «лихие 90-е», когда ослабла узда государственного принуждения. И только чудо промыслительной заботы, выразившейся – наряду с возросшей ролью православия – и в общем страхе перед ясной перспективой неминуемой гибели, остановило окончательное разложение государства, привело к замиранию внутренних тенденций распада. Зато разом неимоверно возросли попытки внешних воздействий – «великая ложь нашего времени» напрягла все свои силы, чтобы заставить Россию повторить её тупиковый путь.
И самое поразительное в политике Путина, что он не отметает «с порога» лживую незваную гостью, но, приглашая её в наш дом, предлагает ей свою – национальную и традиционную – интерпретацию. И даже соглашается, что в структуре западной демократии есть проверенные историей элементы, которые необходимы в современном государстве «без царя». Эти элементы государственной и общественной жизни, по его замыслу, должны сложиться в новый, небывалый рисунок заново созидающейся общности – колыбели будущего народа… Ибо надо признать, что тот русский народ, населявший некогда русское царство, остался в истории вместе с этим царством. Ныне на территории воссоздаваемой России пребывают церковный народ и некое аморфное население, подобное имперскому населению Византии. Хотя надо признать, что в этом аморфном населении (со слабой памятью своей русскости) заметны ростки некоего самоосознания, не столь уж ярко национального, но, по крайней мере, окрашенного чувством самосохранения, как это видно на примере возвращения Крыма и такого стихийного явления, как «бессмертный полк». Нынешнее хрупкое, неустойчивое состояние общества и народа не даёт никаких обещаний на удачу исторического замысла, ясно выраженного в политике Путина: восстановить в прежней крепости, силе и единомыслии основу уникальной Русской империи – русский народ. И тогда оправдается надежда на то, что на православной почве, пусть изрядно выветрившейся, эти неизбежные в современной жизни элементы республиканизма и демократии дадут иные ростки, более жизнеспособные и более жизнеспособствующие, израстят законы и обычаи, служащие человеку, а не пожирающие его. Беда в том, что оскудел русский народ верой, без которой не может быть сильного и уверенного становления нового государства.
Но как бы то ни было, что бы ни случилось с нашей страною и с нами со всеми, уже великого удивления достойно то, что совершается на наших глазах: первая в мире и истории попытка в республиканских формах и на принципах демократии уйти наконец от утопического прожектёрства, политического лукавства и честолюбивых амбиций. Это важнее и удивительнее всех революционных бурь и гроз, потрясавших человечество. Это терпеливое (поскольку и население, и общество брыкаются и «кобенятся» кто во что горазд), но грандиозное по замыслу – созидание.
Приписывать нынешней власти результаты 70-летнего атеистического режима и грандиозного, невиданного в истории по размаху десятилетнего воровства и государственного разорения ельцинской эпохи, на мой взгляд, неправомерно, хотя именно так думает большинство «простых людей», а «не простые» люди делают это главным своим аргументом в борьбе против власти, хотя им, всё прекрасно понимающим, не нравится в этой власти только одно: что она – русская. Так получилось, что Путин один оказался в роли трезвого среди пьяных на дырявой лодке и, кидаясь от одной дыры к другой, наспех латая фонтанирующие пробоины, вместо благодарности получает незаслуженные упрёки:
«Что ты мечешься? Не видишь, что ли, что мешаешь людям благородно наслаждаться жизнью… Эй, смотрите, граждане! Да этот тип нашу лодку дырявит! Ишь, сколько дыр понаделал, паразит, – жить на этой лодке страшно…»
Вместо того чтобы заняться преображением и устроением государства (задача середины 80-х), волей Промысла и образом чуда вставший во главе страны президент вынужден заниматься восстановлением государства буквально из руин – собственно говоря, строительством заново, созданием нового государственного устройства, в котором соединились бы те традиционные ценности и современные формы социальности. И самое опасное в этом строительстве наскоро, в этом спешном восстановлении – не волны псевдодемократического возмущения дисциплинарными мерами правительства, возмущения, крайне подозрительного своей неестественностью, вскормленного и подогреваемого из-за «бугра», а напряжённая обстановка в мире, ибо Америка и западные элиты всерьёз взялись за первую настоящую попытку установления недвусмысленного господства над миром.
Хотя и либеральное «раскачивание лодки» в стране не стоит недооценивать. При всей идеологической неясности политики Путина (впрочем, эта терминологическая неуловимость возникает лишь оттого, что понятийный аппарат политологии сплошь западного происхождения и не всегда может адекватно описать российские реалии) – при этой кажущейся неопределённости политические константы его деятельности ясны и, можно сказать, плакатно означены: это – порядок и свобода (по требованию момента они поочерёдно превращаются в «категорический императив» политики). И поэтому порою смешно, порою умилительно, порою грустно видеть, как правительство пытается «ввести в берега» и цивилизовать либеральный зуд огромной массы сытых и праздных людей, отстаивающих своё право на политическое хулиганство. А ведь уже в ту пору, когда либерализм в России только-только стал превращаться в некое общественное явление, Константин Леонтьев поставил ему до сих пор актуальный диагноз, указав, что либералы и демократы стремятся к разрушению своего отечества из ненависти к его вековым устоям. Не понимая богатой и самобытной культуры своего народа, презирая его предания, они всю свою слепую ненависть переносили на государственный строй, оберегающий эту культуру и эти предания. Прочная государственность России им казалась невыносимо тяжким игом, Запад – гражданским раем.
«Для нас вопрос решается так, – писал Леонтьев, – если культурная солидарность наша с Западом неотвратима и неисцелима, то национальное дело наше раз навсегда проиграно».
В наше время, похоже, со стороны либерализма речь идёт уже не о простой солидарности с Западом, а о полном ему уподоблении, что является уже совершенной утопией – не говоря даже об историческом антагонизме менталитетов, Запад просто не потерпит такого превращения России в страну западного типа. Запись в состав «золотого миллиарда» давно прекращена, и Россия нужна Западу всего лишь в качестве территории. Поэтому судьба российского либерализма заключает в себе прозрачный парадокс: если «подкопная» работа либералов окажется удачной и они доберутся-таки и сумеют открыть кингстоны государственного корабля России, они, за малыми исключениями, в массе своей окажутся на «свалке истории», как это уже однажды случилось с ними самым недвусмысленным образом. Если же их труды, то ли оплаченные, то ли просто одобрительно приветствуемые западными, так сказать, партнёрами (а скорее всего, всё это «имеет место быть»), – если их старания превратить страну в чучело-карикатуру западного мира будут терпеть одно фиаско за другим, то они могут долго и счастливо жить в охаиваемом ими государстве, которому тогда суждено будет расти и крепнуть, и даже получать от этого государства бюджетные субсидии, как партия «обиженных».
Искусственность протестных акций практически ни у кого не вызывает сомнений. И даже если они будут спорадически повторяться в будущем, судьба время от времени извне революционизируемого либерализма в России, скорее всего, пойдёт по второму варианту – ему суждено «малится» до определённой кучки чужестранцев в своей стране и примыкающим к ним вечно безголовых статистов. Их, как тараканов, ничем не выведешь – они даже в какой-то степени полезны и нужны, ибо ни государство, ни население, к сожалению, не могут быть стерильно чисты, и лучше прихрамывать либерализмом, чем страдать от язвы преступности.
Кто-то заметил, что у Путина есть один недостаток – «нежелание декларативно оформить свои идеологические предпочтения». Я же, напротив, считаю это нежелание одним из самых мудрых решений нашего президента. Дело в том, что угадать его «идеологические предпочтения» нетрудно, но – странное дело! – этого почему-то никто не хочет делать. В этом моменте сошлись две очень чуткие осторожности – и со стороны общества, и со стороны руководства – в становящемся государстве, при внешнеполитических бурях, не стоит «будить идеологического медведя». По крайней мере, пока. Но, с другой стороны, похоже, что время идеологических разногласий уходит и наступает время геополитических реальностей…
В предыдущее десятилетие, в хаосе 90-х, все государственные структуры были или полностью разрушены, или страшно ослаблены… Впрочем, если быть более точным, то постперестроечное десятилетие наследовало государственные структуры уже изрядно подточенными, проржавевшими и мало дееспособными. Поэтому, казалось бы, постперестроечное время требовало осторожного и мудрого руководства, политики «мелких шагов», но нетерпеливое демократическое хамство требовало кардинальных перемен, перемен во что бы то ни стало – «здесь и сейчас».
Советское «общество», а именно масса атеистической интеллигенции, давно уже дразнимой соблазнами западной устроенности, по советской привычке ощущало себя «народом» (пусть и «народом без национальности»), а точнее тем самым демосом, которому по праву принадлежит «кратия», незамедлительно поменяло своё бесцветное, абстрактное мировоззрение на разноцветный практический «интерес».
Остальное население СССР, объединённое зыбкой мифологемой «советский народ», к 1991 году представляло собою массу людей, не обладающих надличностным сознанием и коллективной волей.
В вызывающе раздражительной для либеральной публики смене Путина Медведевым (или, как выразился тот самый «обормот» из присланной тобою сказки, Тимочки Лёвочкой) и наоборот родился странный, никем не ожидаемый эффект – в народе появилось полузабытое ощущение постоянства власти, а значит – и долгожданной стабильности, а с нею и возможности «нормальной жизни».
Нельзя без восхищения наблюдать, как наши изруганные вдоль и поперёк органы правопорядка, часто бестолковые и насквозь коррумпированные, потихоньку наводят порядок, в том числе и в протестном движении. Подтверждается старая истина: и негодный инструмент в умелых руках своё дело делает. И на этот раз эти негодные правоохранительные органы весьма умело делают своё дело. Как деловито и неспешно, сухо и прозаично, со всей юридической тягомотиной они вытаскивают из разбушевавшейся толпы свободолюбцев особо распоясавшихся хулиганов, а заодно и коррупционеров из своей и правительственной среды – одного за другим! Загляденье.
Реакция оппозиции на первые задержания была насмешлива и горделива – мол, теперь мы настоящие борцы за свободу, Запад нас поддержит. Что ж, Запад поддержал, но то ли не очень громко, то ли не совсем уверенно – как бы догадываясь, что власть эту западную поддержку просто проигнорирует. Так и случилось. Со стороны государства вообще не было никаких громких заявлений, сенсационных разоблачений, грозных предупреждений – никакого ажиотажа. Власть демонстрировала скучную, рутинную работу своей не слишком поворотливой юстиции. Но что удивительно – именно в этой рутинной неспешности, какой-то пугающей методичности почувствовалась некая подлинная гроза (не угроза), как будто вместо декорации оппозиция налетела с разгону на неподдельную гранитную скалу.
Относительно присланной тобою рукописи следом за Достоевским могу сказать только одно: «Если бы кто-либо математически доказал мне, что истина вне Христа и это действительно оказалось так, я бы всё-таки предпочёл остаться с Христом, нежели с истиной».
А почему, подумай сам».
* * *
Евдокимов закрыл планшет, задумался, и буквально тут же ему пришла на память поездка на остров, куда после свалившейся на его семью чреды несчастий отправился по совету этого самого священника, чтобы, как тот выразился, отогреть сердце.
От Пскова до Толбы добрался на такси, договорившись с водителем по телефонному звонку прибыть за ним, когда вернётся назад.
У пристани стояли два туристических автобуса. Паломники выстроились в длинную очередь на широких деревянных мостках, метров на двадцать выдвигавшихся в озеро, с одной стороны поджимаемых высокой стеной камыша. К мосткам был пришвартован старенький катер, на который по одному поднимались по трапу пассажиры.
С другой стороны мостков на расчищенной от камышей заводи покачивались с пяток рыбачьих моторных лодок, в одной из которых сидел краснорожий мужик в фуфайке, с хищно очерченными ноздрями.
– На остров? – обратился он к Евдокимову, заметив его замешательство при взгляде на длинную очередь.
– Сколько?
– Семьсот.
– Шестьсот.
– Поехали.
Евдокимов осторожно спустился в качавшуюся на волнах железную плоскодонку. Мужик тут же вручил ему спасательный жилет, сказав, что без него перевозить пассажиров запрещено.
– Почему?
– Лодка недавно перевернулась, и все утонули.
– Как же это могло случиться?
– Подкинуло на большой волне.
– И сколько до острова плыть?
– При хорошей погоде минут двадцать, но сегодня большая волна, так что минут сорок, не меньше, проплюхаем.
«Нечего сказать, обрадовал, большая волна», – подумал Евдокимов, но идти на попятную было поздно.
Устроившись за рулём, мужик запустил двигатель и, лихо развернувшись, устремил плоскодонку по неширокому фарватеру, с обеих сторон поджимаемому плотными зарослями камышей, по верху которых гулял ветер. Поверхность воды была гладкой. Но вот камыши стали расступаться всё больше и больше, и вскоре лодка выскочила на простор безбрежного озера. Нужный Евдокимову остров был первым в гряде таких же небольших островов, и, по мере того как подбрасывало и жёстко ударяло днищем о воду посудину, так что приходилось крепко держаться за лавку, он то вырастал, то скрывался под водой.
С первой же минуты Евдокимов почувствовал тревогу, пожалуй, не меньшую, чем в самолёте, и стал молиться. Лодка, не сбавляя скорости, продолжала взлетать и со всего маху биться днищем. Брызги, вздымаясь, хлестали в лицо. Напористый ветер пронизывал насквозь, несмотря на застегнутые пуговицы ветровки. Очевидно, желая ободрить, мужик время от времени оглядывался, задирая кверху хищную ноздрю и посасывая торчащую во рту сигарету.
«Да он пьяный!» – подумал в ужасе Евдокимов, но попросить везти поаккуратнее не решился: как знать, как отнеслась бы к этому загадочная русская душа?
Остров наконец перестал нырять под воду, всё больше и больше вырастая над поверхностью, а под конец совершенно закрыл собою озеро.
Причалили к мосткам для полоскания белья. Евдокимов спросил ноздрястого, возможно ли с его помощью выбраться назад, на что получил резонный ответ:
«На свете нет ничего невозможного, только дешевле, чем за тыщу, вы отсюда не уедете».
Обычная деревенская улица привела прямо к храму. Недалеко от храма на довольно просторном пустыре уже успели воздвигнуть памятник. Во дворе храма шли строительные работы. Служба уже закончилась. И Евдокимов отправился к батюшкиному дому.
Справа и слева от открытой калитки находились три огромных дикаря, которые в старину служили для устройства фундамента церквей. От калитки, вдоль стены с двумя такими же небольшими оконцами, вела к маленькому крылечку под навесом выложенная каменными плитами, тщательно выметенная тропинка. Справа от неё небольшой садик с вишнями, яблонькой, в правом углу которого стояла банька. Дверь в сени была настежь. Чтобы войти в дом, надо было подняться по трём ступеням и повернуть налево. В саду копошились два бородатых мужичка пятидесяти и тридцати лет.
Евдокимов спросил их:
– Можно войти?
– Только разувшись.
И Евдокимов, разувшись и наклонившись, чтобы не удариться о низкий косяк двери, вошёл.
Справа от входа он увидел небольшую каменную печь, напротив, у окна, фисгармонь, за нею небольшого размера кухонный стол с начищенным самоваром посередине, макушку которого увенчивал белый фарфоровый заварной чайник. Этот стол с самоваром Евдокимов уже видел в документальных фильмах. Далее шла келья, внутренность которой ни разу не показывали, а лишь серенькую двустворчатую дверь, из которой выходил к посетителям старец. Правая створка оказалась открытой. Евдокимов через неё вошёл.
У правой стены стояла аккуратно заправленная односпальная железная кровать, прикрываемая от входа голландкой, а с другой стороны книжным шкафом со стеклянными дверками. На стене, вдоль которой стояла кровать, висел настенный коврик с прикрепленными фотографиями, иконой святителя Николая и другими бумажными иконами.
У левой стены, сплошь увешанной иконами и фотографиями, под расшитой бархатной накидкой стоял узкий комод. На комоде два старинных мощевика, церковная утварь. За комодом, в углу, аналой с серебряным крестом и напрестольным евангелием с широкой атласной закладкой. За аналоем центром иконостаса являлась икона в богатой золочёной резной оправе, перед иконой светилась лампадка. На полке, под иконой, стояла фигурка преподобного Серафима Саровского, изображавшая знаменитое моление на камне.
Справа от аналоя, под окном и в правом углу накрытые скатертями столы, на одном из которых находилась ваза с букетом гвоздик, а вся лицевая стена, а также часть правой, до самой кровати, словно бронёй, была плотно увешана старинными и современными иконами. И было такое впечатление, что именно тут, в этой келье, а не в храме, всё самое сокровенное происходило.
Достав из кармана тысячу, Евдокимов положил её в стоявшую на полу коробку, на которой было написано «на содержание дома», и, когда повернулся к выходу, нос к носу столкнулся с молодой женщиной такой удивительной красоты, что даже опешил. Женщина была в чёрной косынке, которая только подчёркивала её удивительную красоту.
Евдокимов посторонился.
И тогда, немного помедлив, как бы решая, уместно ли подобного рода рыцарство, женщина слегка нахмурилась и, дрогнув бархатными ресницами, поднялась по ступенькам, ни разу на Евдокимова не глянув. Оказалась она среднего роста, в перетянутом в узкой талии чёрном плаще.
Присущим только женщинам способом, немного наклонившись и по очереди поджав под себя ноги, она сняла руками чёрные туфли и, аккуратно поставив в сторонке, узкой изящной ножкой, обтянутой чёрным капроном, подобно балерине неслышно переступила через порог открытой двери.
При встрече с подобного рода красотой в былые времена Евдокимов в первую очередь жалел, почему принадлежит не ему, и прилагал все усилия, чтобы добиться взаимности. И, когда это удавалось, очень этим гордился. После женитьбы подобного рода отношение к женской красоте значительно притупилось, и тем не менее никогда не оставляло равнодушным. Теперь же случилось нечто иное. Прошедшая мимо женщина своей необыкновенной красотой неожиданно пролила свет в его израненную душу.
Когда вышел из дома и повернул к калитке, увидел через каменную арку кладбищенских ворот, что на могилке старца началась панихида. На фресках арки были изображены лики царских мучеников.
Могила была напротив арки, без ограды, с двумя крестами – небольшим и огромным, с резным распятием и деревянной табличкой. По утоптанной вокруг могилы земле можно было заключить, что её посещало немало паломников. И теперь собралось человек тридцать, а пока служили панихиду, подошли ещё – очевидно, прибывшие на том стареньком катере.
Панихиду отправлял местный священник, судя по мантии, иеромонах. Певчим подпевали все, кто умел. В голове могилы стоял врытый в землю изготовленный из витого железного прутка аналой.
Иеромонаху прислуживали два мальчика лет семи. Голуби стаей порхали и ходили вокруг и между ног молящихся. Один неожиданно опустился на поднятую для крестного знамения руку Евдокимова, посидел, помахивая крыльями, и, вспорхнув, с лёгким свистом опустился на землю.
По окончании панихиды выстроилась очередь для помазания елеем из лампадки, горевшей перед фотографией старца.
Евдокимов обратил внимание на молодую чету (она – в длинной ситцевой юбке, в платочке и он – с курчавой бородкой, в сандалиях на босу ногу, держит на руках ребёнка, у обоих в глазах совершенная отрешённость) и подумал, что, видимо, всё земное связано с вечностью посредством таких островов, и, сколько бы ни «взрослело» человечество, стряхивая с себя «темноту», в нём никогда не переведутся подобные этой молодой чете люди потому, что на свете ещё есть такие острова.
Мало того, в его беспокойную голову взбрела довольно странная мысль. Если все-таки не «они», а, как утверждает апостол Павел, «Бог всех заключил в непослушание» для того, чтобы «всех помиловать», это что же получается? Это же получается, что все до последнего человека на земле, в том числе и в государственном масштабе, независимо от убеждений, «заключены» в своё упорное «непослушание» и намерены стоять в нём до конца. Даже если бы кто и захотел свернуть с пути, тысячелетние традиции не позволят этого сделать, ибо это такая сила, которая даже «избранный народ» понудила на богоубийство, поскольку «заключённые в непослушание» думают, что они-то как раз и есть самые послушные, обладающие истиной в последней инстанции, и во утверждение её пролили и впредь готовы проливать реки крови.
И всё это попущено для того, чтобы в итоге всех помиловать?
Постой-постой, остановил себя Евдокимов, это что же получается? Это же получается, режь, жги, убивай, воруй, грабь, обманывай, растлевай, насилуй, распутничай, и тебе за это ничего? Ну, если ты во всю эту мерзость «заключен», какой с тебя может быть спрос? Извините, скажет на Страшном суде мучитель матери растерзанного на её глазах борзыми собаками ребёнка, или богач обобранным до нитки миллионам нищих, или убийца своим жертвам, или ростовщик – мы не виноваты в том, что нас Бог во всё это «заключил». Кабы не «заключил», мы бы этого и не делали, а коли «заключил», куда было деваться, как говорится, против Бога не попрёшь. В другом месте тот же апостол на подобное заявление с возмущением возражает: а ты, мол (тварь дрожащая), кто такой, чтобы указывать Господу Богу, и приводит в пример горшечника, который по своему усмотрению лепит горшки, не спрашивая у них согласия, для какой цели их собирается употребить. Иначе, что хочу с вами, то и делаю. И в этом, по апостолу, Божия премудрость? Ну нет, быть этого не может! А как же свобода? Или он чего-то не понимает?
По всему острову шёл листопад. С едва слышным кликом вытянулись над свинцовой поверхностью озера живые нити гусиного косяка. Солнца по-прежнему не было видно, и всё небо от края до края было затянуто грядами кучевых облаков, и всё-таки то место, где находилось солнце, Евдокимов угадал сразу. Угадал потому, что это было солнце. И он сказал тихо, так тихо, что могло услышать лишь Солнце:
«Боже, изведи из темницы душу мою».
* * *
Когда оказались в поезде, Евдокимову пришла первая «эсэмэска»:
«Мы уже дома. А вы?»
Евдокимов ответил, что они ещё в дороге и будут на месте только через три с половиной часа.
«Счастливого пути».
«Спасибо».
«Сообщи, когда будете дома».
«Ок!»
Женя поинтересовалась:
– С кем это ты переписываешься?
– С китайским продюсером.
– Чего пишет?
– Рад нашему знакомству.
– А ты что?
– Собираюсь ответить: мы тоже. Или нет?
– Па-а, ну конечно!
– Так и напишу.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































