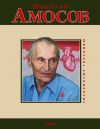Автор книги: Рейнхард Фридль
Жанр: Медицина, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
За жизнь и за смерть
Некоторым пациентам, которых вернули к жизни после остановки сердца, требуется срочная операция. Это означает экстремально высокий риск, по большей части такая необходимость возникает после инфаркта, когда фрагменты сердечной мышцы не снабжаются кровью и начинают отмирать. У сердца больше нет резервов и сил обеспечить достаточное кровоснабжение себе самому и другим органам. Пациенты страдают от недостатка кислорода, их клетки массово отмирают. А с ними – и весь человек. Эту стадию называют «сердечный шок». Смертельная нисходящая спираль должна быть прервана как можно быстрее, если мы хотим дать пациенту хоть какой-то шанс на выживание.
Введенный в искусственную кому и напичканный высокими дозами сердечных препаратов, пациент спешно доставляется в операционный блок. Здесь вся команда уже в сборе. Лежащее в основе сердечное заболевание зачастую оказывается на далеко продвинутой стадии. В таких случаях кардиохирурги стараются ограничиться самым необходимым. Поскольку чем дольше во время операции длится искусственная остановка сердца, тем дольше пациент будет подключен к аппарату обеспечения жизнедеятельности и тем серьезнее будет воздействие на и без того ослабленный организм. Иногда приходится имплантировать шунты и новый сердечный клапан. Или сразу новую аорту, как я описал в главе «Сердце на столе».
С точки зрения статистики, смертность во время операций на сердце крайне мала. Смертью «на столе» оканчиваются по большей части лишь экстремально тяжелые случаи. Например, острый инфаркт с разрывом сердечной стенки или жертва аварии с сильнейшими повреждениями сердца и легких, при которых сосуды буквально разрываются. Я помню одну молодую женщину, которую буквально сплющило в собственном автомобиле в результате страшной аварии. Ее доставили еще живую в приемный покой больницы, и коллеги отделения неотложной хирургии приступили к срочной операции, в ходе которой нужно было остановить опасные для жизни кровотечения. Но ее состояние не улучшилось. На первый взгляд, это было незаметно, но и сердце, и крупные кровеносные сосуды, ведущие к легким, были повреждены. Меня вызвали в операционную. Специалисты разных областей смотрели на сердце, которое билось едва-едва. Помещение напоминало поле боя. Из вскрытой грудной клетки торчали длинные металлические зажимы для сосудов. Соединения между сердцем и легкими были частично порваны, зрачки пациентки расширены и не реагировали на свет, что является свидетельством того, что и ее мозг больше не функционирует. Этой пациентке – и некоторым другим – я помочь не сумел.
Когда человек умирает во время операции на сердце, наступает полная тишина. И хотя мы отключаем аппараты, и больше не слышно ни гудения, ни писка, этот покой вовсе не кажется спокойным, будто остатки борьбы за пациента еще висят в воздухе. Команда еще какое-то время стоит возле стола. В зависимости от характера кто-то скорбит, кто-то чувствует усталость, разочарование, кто-то опустошен, а кто-то злится. Мы сделали все, что было в наших силах, но у неба на этого пациента другие планы.
Мне больно смотреть на мерцающее сердце. Но смотреть на то, как сердце умирает, просто невыносимо. Это зрелище пробирает до мозга костей и одновременно позволяет на духовном уровне пережить опыт конечности бытия. Некоторые сердца заявляют о своей смерти мерцанием, другие бьются до последнего. Сердце замедляется и слабеет. Но оно все еще бьется. А потом у меня создается впечатление, будто биение успокоилось. Словно оно сдалось и покорилось своей участи. За ним следуем и мы, стоящие вокруг операционного стола перед вскрытой грудной клеткой, и позволяем ему умереть. К этому моменту мы перепробовали все, что было в человеческих силах, чтобы спасти пациента, мы боролись, снова и снова пытались отлучить сердце от дыхательной трубки, три или четыре раза. Но без этой поддержки ему быстро стало хуже, оно слишком ослабло, чтобы обеспечивать весь организм, слишком ослабло, чтобы позаботиться о себе самом. Поэтому мы отделяем тело от аппарата жизнеобеспечения, зная, что оно погибнет. Такая смерть заявляет о себе. Сердце бьется, останавливается и бьется снова, а потом пауза между предыдущим и следующим ударом затягивается. А потом сердце бьется еще один раз – и больше никогда.
Если существует хотя бы малейший шанс, что сердце справится, мы подключаем пациента к непрерывному мини-аппарату жизнеобеспечения под названием экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО), также известная как экстракорпоральное жизнеобеспечение (ЭКЛС). Это экстремально инвазивный метод со множеством потенциальных осложнений, вызванных тем, что на протяжении нескольких дней или даже недель пациент подключен к аппарату. В результате часто возникают кровотечения, инфекции и инсульты. Применение ЭКМО обсуждается всей командой, поскольку этот метод имеет масштабные последствия, связанные с этикой в интенсивной медицине, и нужно ответить на множество вопросов. Имеет ли смысл продлевать жизнь пациента? Действительно ли мы тем самым повысим его шансы на выживаемость? Такие пациенты часто получают массовое переливание продуктов крови, подключены к аппарату диализа и дыхания и поддерживаются на плаву высочайшими дозами медикаментов.
Над всем этим висит вопрос – а как на это отреагирует мозг? Имела ли место реанимация и прошла ли она настолько эффективно, что риска повреждений мозга нет, или же пациент, если выживет, приобретет тяжелую степень инвалидности и будет требовать постоянного ухода за собой? Хотел бы он этого? Если после здравого размышления мы приходим к выводу, что у больного есть шанс, хоть самый малый, мы его используем. Даже учитывая вероятность того, что, проведя в реанимации несколько часов или дней, пациент все-таки умрет. Кардиохирурги – адвокаты жизни, и их задача заключается в том, чтобы спасать ее даже в ситуациях, кажущихся совершенно безнадежными. Кардиохирурги – это всегда последняя инстанция. После них медицинских возможностей больше нет. В специализированных центрах пациенты выживают даже в столь экстремальных случаях. И тогда это значит, что все было не зря!
Решение позволить пациенту умереть хирург принимает не как одинокий волк, а по возможности в компании опытных коллег, которых я обычно специально об этом прошу. Вдруг у них возникнет какая-то новая идея, новое предложение? Когда я оперирую ночью и в больнице никого нет, советуюсь со своим ассистентом и анестезиологом, и лично я не считаю это таким уж плохим вариантом, поскольку эти двое следили за ходом операции с самого начала. У них с сердцем пациента установилась связь, в отличие от человека, которого резко выдернули и вкратце описали ситуацию и который не знает предысторию (вернее, знает лишь медицинскую предысторию, а это еще далеко не все). Открытое сердце – это нечто гораздо, гораздо большее!
Возможно, это прозвучит странно, но умирающее сердце для меня ближе, нежели пациент. С этим сердцем у меня был контакт. С этим сердцем я познакомился. Его лицо более четко стоит у меня перед глазами, чем лицо человека, с которым я, возможно, перед операцией вообще не разговаривал или переговорил очень быстро, потому что это был экстренный случай. Я этого человека не знал. Но к его сердцу я приблизился, проник в его самые глубокие полости. И с его сердцем я также прощаюсь – в определенном смысле как проигравший, поскольку битву против смерти я проиграл. Чаще всего в таких случаях я сам зашиваю грудную клетку, а не оставляю это своему ассистенту. Это моя последняя услуга погибшему пациенту. В операционном блоке царит особое настроение. Иногда здесь тишина, иногда кто-то рассказывает анекдот или обсуждает футбольный матч или же все начинают преувеличенно суетиться. Нам больше нечего противопоставить смерти, приходится лишь пережить этот момент, и каждый делает это на свой манер.
Разумеется, возраст умершего тоже имеет значение. Смириться со смертью молодого человека или даже ребенка гораздо труднее. Я помню одного отца семейства. Ему было слегка за тридцать, и он несколько недель парил в реанимации между жизнью и смертью. Мы принимали его судьбу близко к сердцу, в первую очередь, из-за его троих детей, которые по воскресеньям приходили с матерью его навестить. Как будто они лишний раз хотели подчеркнуть команде врачей, для чего стоит так рьяно сражаться за его жизнь. Теплым августовским вечером мы поняли, что до завтрашнего дня он не дотянет, и вызвали его супругу. Она видела на мониторе, как сердце ее мужа бьется все медленнее. И хотя она была к этому готова, никак не могла его отпустить, барабанила кулаками по его груди и кричала: «Ты не можешь умереть! Ты не можешь оставить меня одну!»
Смотреть на это было невыносимо. Я взглянул на окно, которое было слегка приоткрыто, и стал надеяться, что остальные пациенты не услышат криков этой женщины. На подоконнике лежал мешок с жидкостью для диализа, он весил около 3 кг. Сердце умирающего билось все медленнее и медленнее. «Ты не можешь уйти! Не можешь! Останься со мной!»
Последний удар – и тишина. В комнату ворвался порыв ветра, окно отворилось настежь, пакет с жидкостью слетел с подоконника и с хлопком шмякнулся на пол. Образовалась лужа. Я переглянулся с санитаром. Мы подумали об одном и том же.
Мертвец с бьющимся сердцем
Ничто не длится вечно, а удар сердца – всего мгновение. Множество мгновений складываются в жизнь. Большинство людей полагают, что, если их сердце перестанет биться, они умрут. Сегодня мы знаем, что это не совсем так. Возможно, у них наступит лишь клиническая смерть. Это тот случай, когда остановка сердца не является окончательной, и реанимационные действия оказываются весьма эффективны. Если этого не происходит, то через 5–10 минут все органы начинают отмирать.
Только мозг может погибнуть и в одиночку – в ходе тяжелых заболеваний или несчастных случаев, например при кровотечениях или воспалении мозговой оболочки. Сердце еще бьется, и остальные органы живут. Такой пациент больше не может самостоятельно дышать, и ему требуется специальный аппарат [114, 115]. В подобных случаях врачи говорят о смерти мозга. Это самый младший член в хороводе смерти, известный современной медицине. В 1968 году его впервые определили как окончательный и необратимый конец деятельности всего мозга. После смерти мозга врачам дозволяется констатировать смерть человека и при наличии согласия изымать органы умершего вместе с бьющимся сердцем. Однако можно прожить и 20 лет с мертвым мозгом, будучи подключенным к аппарату жизнеобеспечения [114].
Несколько лет назад возникла шумиха вокруг дела 13-летней Джахи Макмат. После операции по удалению миндалин возникли осложнения, сердце остановилось, и ее реанимировали в течение 2,5 часов. Сердце стабилизировалось, а вот мозг утратил некоторые функции. У нее констатировали смерть мозга, а родственникам посоветовали разрешить изъятие органов. Ее кожа была теплой и розовой, а лицо – расслабленным. У нее собирались изъять сердце, легкие, печень, почки, поджелудочную железу и кишечник. После этого ее отключили бы от аппарата дыхания. Но родственники воспротивились. Пока сердце девочки билось, они считали Джахи живой. Последовал растянувшийся на несколько лет правовой спор о том, является девочка мертвой или лишь считается таковой. Через 4 года после операции Джахи скончалась от внутренних кровотечений [116].
Смерть мозга – это определение, и когда это определение применяется к человеку, он получает билет на тот свет. Его объявляют умершим, даже если все его органы – за исключением мозга – продолжают жить, а сердце бьется. В таком случае органы можно изъять для трансплантации. За этим стоит непреодолимое желание врачей-мечтателей спасать человеческие жизни. Хирурги-трансплантологи изымают органы и ткани у пациента со смертью мозга и пересаживают их другим людям. Это прекрасно, и я это всецело поддерживаю. Однако, с моей точки зрения, проблематичным является утверждение, что люди с живыми сердцами, ставшие донорами органов, являются умершими. Недавно одна женщина в Германии родила здорового ребенка спустя 2 дня после того, как у нее была констатировала смерть мозга вследствие воспаления мозговой оболочки [117]. Ее сердце продолжало биться, а мозг больше не работал. По моему мнению, врачи поступили правильно, позволив ребенку появиться на свет, а матери затем – умереть. Однако современная медицина задает нам новые вопросы: когда умерший действительно умерший? Могут ли мертвые рождать детей? И что сам человек думает о донорстве органов – зеленый свет или красный? Готовы ли вы похоронить своего родственника, если его мозг умер, а сердце бьется? Или сжечь его «тело»? Этот вопрос очень жесткий и болезненный, однако он показывает, сколько замешательства заключено в диагнозе «смерть мозга» [118]. Никто не хочет, чтобы его объявляли мертвым, пока он жив.
Перенести смерть из сердца в мозг – бессердечная утопия. И я считаю, что люди во всем мире это чувствуют. Как важно было бы заявить: я с удовольствием отдам свои органы, если мой мозг перестанет работать и будет ясно, что он никогда не восстановится. Я отдам свои органы, роговую оболочку глаза и все остальное добровольно и с радостью тому, кому они требуются и кто благодаря им повысит качество своей жизни. Но я делаю это не как мертвец, а как живой. Это мой последний добрый поступок в жизни, а не первый хороший поступок в качестве мертвого. Мое время вышло. Это было бы жизнеутверждающее, четкое решение. По этой причине у меня имеется удостоверение донора органов. Это решение я принял в ясном уме, и если мне суждено стать донором органов, то я бы хотел после изъятия органов умереть в этом сознании. Однако каким будет это сознание, если мое сердце бьется, а мозг отключился? По мнению немецкого фонда трансплантации органов, в общем наркозе необходимости нет, поскольку он действует преимущественно на мозг, а он в данном случае уже не функционирует, и человек не испытывает боли [119]. Кроме того, перед операцией по трансплантации органа пациента объявят умершим, даже если его сердце все еще бьется. Для того чтобы все так и осталось, применяется весь спектр интенсивной медицинской терапии (включая нейромедиаторы допамин и норадреналин, которые также оказывают влияние и на сердце), чтобы поддерживать в трупе жизнь. Не знаю, что вы чувствуете, читая эти строки, но мне это кажется до жути чудным. Если я когда-нибудь стану донором органов, мне бы очень хотелось получить перед их изъятием самую что ни на есть эффективную анестезию.
Есть дети, которые родились без головного мозга, выжили и в определенном смысле являются ра-зумными. В прошлом таких детей использовали для донорства органов, а новорожденных оперировали без должной анестезии под предлогом того, что у них нет сознания, что они еще не настоящие люди [2, 120]. Такая чудовищная жестокость демонстрирует, на что способен человек, если руководствуется исключительно доводами разума. Если опирается только на факты, которые он может овеществлять и измерять. Как хирург, я именно свободу от боли считаю одним из величайших достижений медицины.
Кому выгодно отождествлять смерть мозга со смертью всего человека? Некоторые священнослужители, врачи и политики как будто полагают, что, если они правдоподобно уговорят будущих доноров в некоей смерти мозга, им будет легче отдать свои органы. Я считаю, что все как раз наоборот. Куда правильнее было бы называть смерть мозга остановкой мозга или его отказом. В таком случае следовало бы отдать свои органы, а затем получить разрешение умереть. Когда именно наступила смерть мозга и какие детальные исследования нужно провести, об этом в разных странах существуют кардинально разные представления [121, 122]. Это можно сравнить с вопросом: «Когда начинается жизнь?» Если смерть – это смерть мозга, значит, жизнь начинается с «рождением» мозга, а в какой именно момент это происходит? Когда мозг достиг пика своего развития или когда он только начинает расти? С первыми клетками мозга, появляющимися на 25-й день после зачатия, или незадолго до рождения на 36-й неделе беременности? [123].
Современная медицина не знает всей правды ни о начале жизни, ни о ее конце. Существуют самые противоречивые взгляды с научной, религиозной и философской точки зрения. Однако, когда переход совершен, когда смерть наступила безвозвратно и все органы завершили свою прижизненную службу, врачи могут установить это с большой точностью и очень легко. На теле появляются трупные пятна, оно коченеет, а затем начинается и процесс разложения. Это верные признаки смерти, на которые сегодня при осмотре тела опирается любой врач. Но так было не всегда, и многие люди в прежние времена боялись, что их похоронят заживо, что они будут только казаться мертвыми. Такое, например, могло произойти при глубокой потере сознания или вследствие отравления, когда пульс слабеет настолько, что его невозможно прощупать. Недостаток веры в компетентность медицины в отношении подобных экзистенциальных вопросов с тех пор очень велик. Снова и снова те, кого считали умершим, выходили из своего сна, обморока, комы. Мысль о том, что их погребут заживо, и сегодня является для некоторых людей невыносимой. В своей книге «Моя жизнь с мертвецами» Альфред Рипертингер рассказывает об одном шокирующем методе преодолеть этот страх, и он до сих пор применяется в Вене, городе с болезненным шармом. Это укол в сердце [124]. В мертвое сердце наносится удар, чтобы людям, которые при жизни страдали от страха ошибочно быть принятыми за мертвого, дать окончательную уверенность, о которой они просили в своем завещании. Для этого удара в сердце, не считающимся убийством, предусмотрен специальный обоюдоострый нож, около 20 см в длину. Основываясь на своем опыте многочисленных травм от удара ножом в сердце и ударов, которые не попали точно в цель, я готов утверждать, что и метод «удар ножом» не дает 100 % гарантии. Однако даже сам Артур Шницлер (1862–1931), не только известный австрийский писатель и драматург, но и врач, имеющий степень в медицине, воспользовался этой услугой. Но писателям приписывают преизбыток фантазии, и, возможно, ближе к смерти он был в большей степени поэтом, нежели врачом.
Сердце во взгляде
Когда я вошел в дом своих родителей, испытал огромное облегчение, застав своего отца в сознании; у него даже оказалось достаточно сил, чтобы сердечно меня поприветствовать. Мама и живущие по соседству сестры заботились о нем с большой нежностью. Я хотел их всех поддержать и просто побыть с ними. А на случай, если у меня появится свободное время, прихватил с собой немного работы. Так, в чемодане лежала научная статья из журнала Nature Neuroscience, восхитившая меня уже во время первого прочтения. Путем сложного опыта было доказано, что в мозг поступают сигналы из сердца [125]. Разумеется, меня эта тема горячо интересовала, и я надеялся при случае заняться макетом, для чего предстояло погрузиться еще глубже в вообще-то чуждую для меня научную область – нейробиологию. Прошло несколько дней, наполненных суетой и общением с семьей, а я эту статью так и не достал. Папе стало немного лучше, и создавалось впечатление, что через пару недель он отпразднует свой восьмидесятый день рождения.
Я решил воспользоваться тем, что нахожусь вблизи горного перевала Бреннер, и предпринять на второй неделе своего отпуска поездку в Италию. Генуя, Портофино и, разумеется, Флоренция, где я долго ждал, чтобы меня, одного из многих тысяч ежедневных посетителей, пустили в галерею Уффици. И там стояла она, знаменитейшая скульптура в истории искусства, «Давид» Микеланджело. Она оказалась намного больше, чем я предполагал, хотя и знал, что «Давид» выше пяти метров. Разумеется, он произвел на меня впечатление, однако куда более интересными показались мне многочисленные незаконченные скульптуры Микеланджело. По ним было видно, как он работал и как из обычного камня получалась фигура. Они напоминали мне чудесный силуэт британского художника Роба Райана, сложившего из бумаги следующие слова: «Я думал это своей головой, я чувствовал это своим сердцем, но сделал я это своими руками» [126]. Мне подумалось, что в своих поисках всего сердца целиком я действую в обратном порядке.
Я бы с радостью остался в Уффици и дольше, но напор посетителей был так велик, что меня проносили мимо шедевров, будто я стоял на ленте транспортера, и вот я уже оказался у выхода. Там «Давид» в изобилии присутствовал в бесчисленных сувенирных лавках. Не удостоив их ни одним взглядом, я протиснулся сквозь толпу, резко остановился, обернулся и снова побежал к копии головы Давида. Нет, я не ошибся. У него зрачки в форме сердца! И это несмотря на то, что «Давид» абсолютно натуралистичен, с идеальной фигурой и идеальными пропорциями. Почему же гений Микеланджело отошел от стандартов в центре зрения, в зрачках?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.