Текст книги "Дом на берегу лагуны"
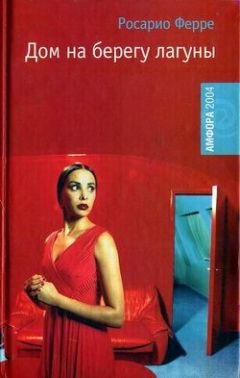
Автор книги: Росарио Ферре
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 28 страниц)
31. Запретное пиршество
Кинтин обвинил меня в смерти Маргариты, несмотря на то что именно он заговорил об операции первым. Если бы я не попросила его помочь дяде Эустакио, Маргарите не понадобилось бы переезжать к нам и сейчас она была бы жива.
Мы все оплакивали ее. Мануэль спрашивал о ней каждый вечер. Петра и Эулодия то и дело вспоминали ее – как она помогала им по дому. Только Кармелина никогда о ней не говорила. Я не видела, чтобы она уронила хоть слезинку. Она все время что-то шептала, упрекая Маргариту за то, что та ушла одна. Я была совершенно опустошена этой потерей и тем хаосом чувств, который меня окружал.
Смерть Маргариты привела к последствиям куда более тяжелым, чем можно было себе представить. Когда я вернулась из Рио-Негро, мой муж успел принять множество всяких приглашений на праздники и собрания, а у меня не было ни малейшего желания присутствовать на них.
– Я устал от всех твоих стонов и слез! – сказал он мне с той же бестактностью, какую порой демонстрировал Буэнавентура. – Хватит с меня похоронных лиц по поводу Маргариты Антонсанти.
Через месяц после похорон Маргариты Кинтину захотелось устроить прогулку на пляж Лукуми, и он велел Петре заняться приготовлениями. Петре было семьдесят шесть лет, она уже почти не работала. Но если Кинтин просил ее что-то сделать, она старалась от всего сердца.
Кинтин заказал в «Импортных деликатесах» ящик лучших вин и закусок. Петра сделала котел «ленивого» риса с мясом молочного поросенка и завернула его в банановые листья, кроме того, привязала дюжину крабов к палке, которую Брамбон должен был нести на плечах до тех пор, пока мы не доберемся на яхте до пляжа: по шесть штук с каждой стороны, для равновесия. По прибытии их надлежало сварить на открытом воздухе в банке из-под масла. Крабы были одним из любимых блюд Кинтина. Он пристрастился к ним еще ребенком, когда Ребека отправила его в нижний этаж, и уже давно их не пробовал. Инициатива Петры взять с собой крабов для пикника показалась ему замечательной.
В восемь утра мы отправились в направлении Лукуми на «Бертраме» Кинтина, который всегда стоял пришвартованным у нижнего этажа. Нас было семеро: Петра, Брамбон, Эулодия, Кармелина, Мануэль, Кинтин и я. Мы миновали главный канал – «Бертрам» проходил заросли без всякого труда – и вышли в лагуну Приливов. Пришлось задержать дыхание – такое зловоние поднималось от воды, и, постаравшись пройти ее как можно скорее, мы вышли наконец в открытое море. Потом добрались до пляжа и расположились на берегу. Мы с Мануэлем сидели в тени, полумертвые от жары. Мне было странно оказаться в этом месте столько лет спустя. Последний раз, когда я была здесь, я открыла для себя начальную школу Буэнавентуры, полную черных детишек с голубыми глазами.
Вокруг было красиво, как всегда: все тот же неяркий свет проникал сквозь ветки кустарника, все тот же прибой, будто из прозрачного кварца, ласкал белый песок. Вскоре появились негритянки в разноцветных тюрбанах – они медленно шли, переступая через вересковые заросли. Они взялись помогать Петре и Эулодии готовить еду. Я заметила одну странность: каждый раз, проходя мимо Петры, они делали какое-то движение, будто склонялись в реверансе.
Наконец женщины все приготовили. Поставили бутылку вина в ведерко со льдом, расстелили на песке салфетки и вынули еду из корзинок. Наполнили банку из-под масла водой, разожгли костер из веток и пальмовых листьев и стали бросать в кипящую воду крабов одного за другим. Я наблюдала за ними не в силах пошевелиться. Я была так угнетена, что мне не хотелось даже смотреть на еду. Кинтин, однако, пребывал в хорошем настроении. Он шутил с Петрой и Эулодией и просил женщин рассказать, каким был Буэнавентура в молодости. Когда мы наконец принялись за еду, он один съел полдюжины крабов и выпил целую бутылку вина. Он был счастлив. Было такое впечатление, что первобытный вкус мягкого и скользкого крабового мяса и прохладная изысканность рислинга заставили его забыть печальный звон колоколов, который нас всюду преследовал.
Я прилегла в тени пальмы вместе с Мануэлем и решила предаться сиесте. Кинтин надел плавки, удалившись за кусты, и отправился побродить по берегу. Петра, Брамбон и Эулодия углубились в заросли, и я подумала, что они, вероятно, собрались навестить своих друзей из соседней деревни. Кармелина осталась загорать на берегу. На ней был купальник бикини, который она сама сгнила из холстины. Смотрелась она прекрасно – будто выточена из полированного красного дерева. Я поняла, почему Кинтин сравнивал ее с нубийской скульптурой – богиней плодородия, которая стояла у нас в гостиной.
Кармелина казалась подавленной. За все время она не произнесла ни слова. Мне было жаль видеть ее такой безутешной, – ведь я думала, она тоскует по Маргарите. Вскоре она встала и пошла купаться, потом исчезла среди зарослей. Я закрыла глаза и уснула. Когда я проснулась, то увидела, как Кармелина выходит из воды. Она была такая же, как всегда, я не заметила, чтобы она нервничала или была напряжена. Немного погодя до меня дошло, что Кинтин вышел вслед за ней.
Мы погрузились на «Бертрам» и вернулись домой. В ту же ночь Кармелина исчезла из дома. Она дождалась, когда все уснули, и уплыла на легком ялике, который слуги держали привязанным под террасой. Она забрала с собой всю свою одежду, так же как, впрочем, и наш кувшин из чистого серебра. Она никому ничего не сказала и не оставила записки. Когда Петра узнала, что Кармелина исчезла, то издала страшный вопль и упала на колени. Будто обрушилась гора.
32. Дитя любви
Через девять месяцев после нашей поездки в Лукуми мы ждали на ужин гостей, и я спустилась в нижний этаж посмотреть, какими запасами вин мы располагаем. Петра сидела в общей зале с хорошеньким ребеночком на руках. Она укачивала его и приговаривала:
– У тебя будет цвет кожи как у всех Авилес, а глаза как у всех Мендисабалей. Но тебе нечего бояться, потому что скоро ты покинешь этот мир. – Через секунду она продолжила: – У меня уже все готово для твоего последнего купания: лист лавра, рута и розмарин уже в лоханке. Скоро ты соединишься со своим дедушкой.
Я отказывалась верить тому, что слышала.
– О чем ты говоришь, Петра? – спросила я. Но она была так удручена, что не заметила моего присутствия. Я позвала Эулодию и Брамбона. – Буду чрезвычайно признательна, если кто-нибудь объяснит мне, кто принес ребенка в дом, – строго сказала я.
Эулодия опустила голову и закрыла лицо руками.
– Вчера здесь была Кармелина, донья Исабель, – ответила Эулодия. – Она добралась до дома, когда у нее уже начались роды, и, едва мы вытащили ее из лодки, как ребенок уже показался между ног. Через несколько минут она родича его без единого стона. Петра сама приняла ребенка. Она отрезала пуповину кухонным ножом, нагретым на огне, и перевязала ее веревочкой от коробки с пирожными. Потом закопала плаценту в саду, чтобы ее не съели собаки. У нас и времени не было, чтобы подняться к вам и сообщить новость. А теперь Петра хочет утопить его в лоханке, чтобы никто не знал о том, что он родился.
– А где Кармелина? – спросила я.
– Ушла сегодня утром, – сказала Эулодия. – Она была такая слабая, что едва могла ходить, но оставаться не захотела. Попросила Брамбона, чтобы он отвез ее обратно в Лас-Минас, к ее двоюродной сестре. Она собирается вернуться в Нью-Йорк на будущей неделе и хотела оставить малыша у своей прабабушки. Сказала, он ей не нужен. Она уже девять месяцев живет в Гарлеме и вернулась на Остров, только чтобы родить.
Я взяла ребенка на руки, чтобы получше его рассмотреть. Он был хрупкий, как птенчик. Кожа у него была не белая, но и не темная – скорее, цвета патоки. Я заметила, что глаза у него серо-зеленые, хотя они были полузакрыты, потому что он спал глубоким сном. Было ясно, что ему не более суток от роду.
– Раз это ребенок Кармелины, мы должны сказать об этом Альвильде, чтобы она забрала его. Мы не можем оставить его здесь, а Альвильда – его бабушка. Она найдет кого-нибудь в Лас-Минасе, кто будет о нем заботиться; у Авилес полно родственников, – сказала я.
Петра поднялась со стула и потребовала, чтобы я отдала ребенка ей. Уже несколько месяцев у нее было что-то не в порядке с головой. Иногда мысли у нее путались, и она начинала заговариваться. Я не хотела ей перечить, но ребенка не отдала. Он все так же спокойно спал у меня на руках.
Петра сделала мне знак, чтобы я отошла вместе с ней в дальний угол комнаты. Она хотела сообщить мне что-то по секрету.
– Кармелина доверила мне свою тайну, прежде чем уйти, – сказала она, понизив голос. – В день, когда мы ездили на пляж Лукуми, ее кое-кто изнасиловал. Потому она и исчезла в ту же ночь, и мы ничего о ней не знали.
Я с трудом понимала, что Петра мне говорит. Иногда ее рассказы казались настоящей фантастикой; однажды она клялась, что видела цыпленка о двух головах, который клевал скорлупу, пытаясь из нее вылезти. Позже она утверждала, что видела того же самого цыпленка, который клевал себя самого, пока не заклевал насмерть. Как-то рано утром она привязала дюжину перкалевых носовых платков красного цвета к веткам кустарника, который рос вокруг дома, и обратилась к Элеггуа, чтобы тот отвел от дома злых духов. Но младенец не был выдуманным, он состоял из плоти и крови.
– Какой он хорошенький! – сказала я, гладя его щечки, гладкие, будто бархатные. – Он очень похож на Кармелину, только глаза другие – зеленые. Но позднее они наверняка станут карие, как у всех детей-мулатов.
Петра вдруг стала горько жаловаться.
– Кармелина уж очень много из себя воображает! – сказала она. – Вела бы себя скромнее, не нагуляла бы ребенка; могла бы попросить меня сделать отвар из листьев руты, чтобы выкинуть.
Увидев ее в таком состоянии, я начала беспокоиться. Что же все-таки произошло во время нашей прогулки в Лукуми? Отчаяние Петры было слишком искренним, чтобы его выдумать. Может, конечно, кто-то и вправду изнасиловал Кармелину. Лукуми – место уединенное, там может произойти все что угодно. Во всяком случае, подумала я, будет разумнее убедить Петру, что мы ей верим, – это хоть как-то успокоит ее.
– Пойдем поговорим с Кинтином, – сказала я ей. – Может, он поможет нам раскрыть эту тайну.
Мы вместе поднялись по лестнице на первый этаж. Я несла ребенка на руках, а Петра шла за мной. Кинтин был в кабинете – читал вечернюю газету. Мы вошли и закрыли за собой дверь. Он сидел на зеленом кожаном диване с бокалом вина в руке. Я подумала: будет лучше обратить все это в шутку, не придавать происшедшему серьезного значения.
– Разреши представить тебе малыша Кармелины, – сказала я, показывая ему ребенка. – Ты только подумай, что говорит Петра! Это якобы твой сын, потому что у него зеленые глаза! – Кинтин онемел и выронил бокал. Вино растеклось по ковру у его ног, будто пятно крови.
– Поверить не могу, что ты сын Буэнавентуры! – закричала на него Петра. – Ты обязан был заботиться о моей внучке, а сам изнасиловал ее тогда, в Лукуми. – Кинтин смотрел на нее обескуражено, но не возражал.
– Это правда – то, что говорит Петра? – спросила я, пораженная.
– Да, Исабель, – ответил он, опустив голову. – Дьявол попутал. Кармелина позвала меня выкупаться в зарослях, и я не смог устоять от искушения. Все началось как игра, а когда я спохватился, было уже слишком поздно. Знаю, я не имею права на твое прощение, но сделаю все возможное, чтобы воспитать ребенка как своего сына.
Успокоенная словами Кинтина, Петра вернулась в нижний этаж с ребенком на руках. Я вышла из кабинета вслед за ней, хлопнув дверью.
– Кармелина вернется в Нью-Йорк, – успокаивала меня потом Петра. – Тебе не о чем беспокоиться. В любом случае тут нет твоей вины. У Кармелины пожар между ног – такой уж ее сотворил Господь.
Много дней я чувствовала себя так, будто у меня кто-то умер. Единственным утешением для меня было то, что Баби, царство ей небесное, никогда об этом не узнает, потому что иначе она бы пустила пулю в голову Кинтина. Я вернула мужу геральдический перстень Мендисабалей, служивший символом брака, и перенесла свои вещи в комнату для гостей. Если мы случайно сталкивались в коридоре, я проходила мимо, не замечая его присутствия, как если бы он вообще не существовал. Кинтин выказывал искреннее раскаяние. За ужином он клялся, что любит меня и никогда больше мне не изменит. Вообще-то говоря, дедушка Винсенсо тоже был большой ходок по этой части до самой старости, и я никогда его не критиковала. Бабушка Габриэла его простила. Почему бы и мне не сделать то же самое?
Больнее всего мне было не потому, что Кинтин был мне не верен, а из-за того, что я сама сделала с собой. Когда несколько месяцев тому назад Кинтин вновь сказал, что не хочет больше иметь детей, мне поначалу было просто горько, но потом я страшно возмутилась. Если он больше не хочет от меня детей, я тоже больше не хочу детей от него. Немного погодя я сходила к гинекологу. Кинтин уже подписал документы, – стерилизация замужней женщины возможна только при официально подтвержденном согласии мужа, – и я отдала их врачу в тот же день. На следующей неделе легла в больницу. Операция была несложная. Мне сделали небольшой надрез, перевязали фаллопиевы трубы, и на следующий день я уже выписалась из больницы.
Когда я поняла, что натворила, меня охватило отчаяние. Я спустилась к Петре в нижний этаж и попросила ее дать мне ребенка Кармелины на несколько дней, потому что, когда он рядом со мной, мне становится легче. Я укачивала его, сидя на террасе, и мои мысли блуждали по воде, словно тени. Теперь я бесплодна – по милости Кинтина. Мы, женщины, жалуемся, что природа к нам несправедлива, однако, потеряв возможность рожать детей, мы чувствуем себя ограбленными.
Чудны дела твои, Господи! В Библии сказано, что Ребекка зачала Якова, когда ей было почти девяносто лет. У меня не будет детей, проживи я хоть сто. Но Бог дал мне иную возможность: я смогу вырастить малыша Кармелины как своего ребенка.
В тот же вечер я подошла к Кинтину:
– Когда-то, много лет назад, ты убеждал меня, что только любовь может противостоять насилию. Я хочу, чтобы сейчас ты это доказал. Прошло уже три недели, а у младенца Кармелины глаза так и остались зеленые. Думаю, это достаточное доказательство того, что ребенок – твой. – И я с горечью добавила: – Если я подам в суд на развод и факт твоего адюльтера будет доказан, судья передаст мне опеку над Мануэлем, и я вместе с ним уйду из дома. Но если ты признаешь сына Кармелины и дашь ему свою фамилию, тогда я останусь.
Кинтин беспрекословно принял мои условия. Он знал, что я вполне в состоянии выполнить свою угрозу, и безумно боялся потерять Мануэля.
Мы пустили слух по Аламаресу, что, поскольку я не могла больше иметь детей, мы решили взять в Соединенных Штатах ребенка на усыновление. Через два месяца после рождения сына Кармелины мы вылетели в Нью-Йорк и тайно увезли с собой малыша. Мы хотели, чтобы его осмотрели в детской больнице, дабы убедиться, что он здоров. Вернувшись, мы сообщили всем, что усыновили ребенка. В один из вечеров я пригласила своих приятельниц, которые иногда приходили ко мне поиграть в бридж.
Кинтин не доверял Петре и всего боялся. Тайком усыновить ее праправнука, сказал он, значит обречь себя бог знает на какие домогательства. Кто знает, не захочет ли Петра, чтобы мы купили ей дом, не потребует ли она, чтобы мы помогали всем ее родственникам, которые толпами ходили посмотреть на «новорожденного принца». Они приносили ему диковинные подарки: погремушку из эбонита, полную семечек; колечко из слоновой кости, украшенное разноцветными перышками, которое крутилось возле его колыбельки, как волчок; черепаховый гребешок, который хранил от облысения. Я, со своей стороны, предпочитала смотреть в лицо реальности. Я заставила Петру поклясться, что она никогда не расскажет мальчику о его настоящем происхождении.
Мы дали ему имя Вильям, в честь Шекспира, – это имя выбрала я; и второе имя Алехандро, в честь Александра Македонского, которое выбрал Кинтин. Вильям Алехандро Мендисабаль-Монфорт был крещен епископом в соборе Сан-Хуана, а после обряда мы пригласили наших друзей на банкет у нас дома. Господь был к нам великодушен и не обошел нас своим вниманием; было справедливо разделить его с теми, кто менее удачлив.
Петра с самого начала взяла на себя все заботы о ребенке. Она возила его в английской коляске с черным верхом по авениде Понсе-де-Леон, сама стирала и гладила его вышитые батистовые распашонки и повесила ему на глею маленький гагатовый кулачок, сложенный в фигу, – на ту же самую золотую цепочку, на которой висел его крестильный крестик.
– Это на счастье, – объяснила она Кинтину, когда тот спросил: это еще что такое, – фига защитит его от дурного глаза.
Кинтину объяснение не понравилось.
– Единственный глаз, которого Вилли следует бояться, это Божье око, Петра, – торжественно сказал он. – Он видит все наши деяния, и потому, стоит нам совершить что-то плохое, мы должны будем отвечать за последствия.
Но Петра все равно прикрепляла фигу к изнанке распашонки так, чтобы Кинтин ее не видел.
Мануэль был внуком Буэнавентуры, и Петра очень любила его; но в жилах Вилли текла кровь и ее предков. В округе Аламарес не было людей африканского происхождения; негров никогда не видели ни в церкви, ни в театре «Тапиа», ни в «Рокси», ни в театре «Метро». Если бы в какую-нибудь гостиную Аламареса вошел негр, присутствующие были бы шокированы. Петре трудно было смириться с этим. Поэтому, когда после крестин она увидела, что мы укладываем Вилли в бронзовую колыбель Мендисабалей и что Кинтин спокойно воспринял присутствие на крестинах ее родственников, которые принесли подарки, она преисполнилась оптимизмом.
Мы отвели для Вилли комнату соседнюю с комнатой Мануэля, его сводного брата.
Кинтин распорядился повесить в комнате итальянский светильник-грибок из красной пластмассы, постелить ковер ярко-синего цвета и повесить льняные занавески с самолетиками и парусниками, – чтобы все было точно так же, как в комнате Мануэля. На Рождество Санта-Клаус и волхвы приносили им одинаковые подарки: два велосипеда фирмы «Швинн», один побольше, красного цвета, для Мануэля, и маленький синий для Вилли; роликовые коньки; перчатки для игры в бейсбол; лодки марки «Спелдинг»; всего было по паре, как у близнецов. Мы одевали их в одинаковые короткие штанишки и льняные курточки, которые заказывали в «Бест и компания». Они с первого класса ходили в одну и ту же начальную школу, а потом в школу святого Альбанса – лучшую частную школу в Сан-Хуане, которая находилась совсем близко от нашего дома. Там все учителя были американцы и дети учили английский язык; по-испански они говорили только на переменах, поэтому Мануэль и Вилли выросли двуязычными. Когда они подросли, то оба поехали на север и поступили в высшую школу: Мануэль в Бостонский университет, а Вилли в Институт Пратта в Нью-Йорке, он стал студентом в шестнадцать лет, поскольку блестяще учился в школе.
Никто из наших друзей не осмелился бы сделать то, что сделали мы: усыновить цветного ребенка и дать ему свое имя. Семья всюду появлялась в полном составе: в самых элегантных ресторанах Сан-Хуана, в «Бервинд кантри-клубе», на музыкальных фестивалях и в опере, и всюду мы производили фурор. Куда бы мы ни входили, люди умолкали и смотрели на нас как на ненормальных. Мы преподнесли обществу Сан-Хуана пищу для сплетен на блюдечке с голубой каемочкой. Весь город смаковал нашу историю больше, чем все скандальные любовные истории, случившиеся за последние двадцать лет. Но меня, откровенно говоря, это совершенно не волновало. Быть может, когда я стала зрелым человеком, мятежный дух Баби вселился в меня? А может, это просто подсознательное желание восстановить попранную справедливость за то оскорбление, которое общество Сан-Хуана нанесло Эсмеральде Маркес, моей лучшей подруге? Эта заноза долго раздирала мне сердце. Или потому, что я чувствовала себя счастливой, когда нянчила Вилли, когда смотрела в его сапфировые глазенки или гладила его личико цвета меда? Как бы то ни было, тогда я чувствовала себя куда лучше, чем прежде.
Я видела, как старается Кинтин не делать никакой разницы между сыновьями, и сердце мое смягчилось. Через год после того, как Вилли появился в доме на берегу лагуны, я перенесла свои вещи в нашу комнату и мы помирились.
Кинтин
Стояли последние дни лета. С небес струилось адское марево жары, как это всегда бывает в конце августа. Кинтин уже какое-то время жаловался на плохое самочувствие. Его мучили боли в груди, и он решил сходить к кардиологу. Тот смерил давление, и результат перепугал всех. Оно было очень высоким: 160 на 80. В любой момент мог случиться сердечный приступ – не напрасно он жаловался на боль в груди. Ему прописали таблетки – дисацид и прокардид, – которые ему надлежало принимать до конца жизни. Кроме того, надо было делать специальные упражнения, исключить употребление соли и стараться не нервничать.
Вот и попробуйте следовать подобным рекомендациям. Эта рукопись и есть источник всех бед, но перестать ее читать он не мог.
Кинтин никогда не думал о том, что может умереть молодым. Ему только что исполнилось пятьдесят, но он все еще не достиг ни одной цели из тех, которые перед собой ставил. Католическая религия ничем не лучше любой другой, но она помогает человеку жить в гармонии с самим собой и позволяет надеяться на бессмертие. Кинтин верил не в личное бессмертие, но в бесконечность существования энергии Космоса. Непредсказуемый процесс ее изменений – это то, что ученые, историки и художники запечатлевают, создавая нетленные произведения и совершая великие открытия. У него же сознание поражения возникало именно потому, что он так ничего и не создал. Он умрет – и его имя исчезнет с лица земли.
Исабель ходила с Кинтином к мессе, но ее набожность была весьма поверхностна. Она молилась одними губами, сердце молчало. Она опускалась рядом с ним на колени на скамеечку красного дерева и перебирала стеклянные четки, скользя взглядом по пыльным сводам собора, стараясь на чем-либо задержать внимание. Кому она молилась, Иисусу или Элеггуа? С тех пор как она попала под влияние Петры, он не знал, во что верит его жена.
Любопытно, как болезнь меняет наши представления о привычных вещах. Дела фирмы «Импортные деликатесы» стали казаться не такими уж и важными. Он больше думал о своей коллекции живописи. Если уж ему самому было не суждено стать художником, пусть по крайней мере после него останется великолепное собрание произведений искусства. Он хотел превратить свой дом в храм искусства. Это будет его собственный способ обеспечить бессмертие себе и продолжить во времени фамилию Мендисабаль. Дом на берегу лагуны, шедевр Милана Павла, был сам по себе памятник архитектуры, художественное достояние Острова. Превратить его в музей не составит большого труда. Единственное, что нужно сделать, – основать Фонд Мендисабаля для поддержания музея и для того, чтобы коллекция после его смерти оставалась нетронутой.
Приняв такое решение, Кинтин несколько успокоился. Но он боялся, что Исабель перестанет заботиться о нем так старательно, как она стала это делать после визита к врачу, когда подтвердилось, что здоровье его нарушено, – и потому решил не посвящать ее в свои планы. Исабель была к нему чрезвычайно внимательна. Она велела Кармине готовить все блюда для Кинтина без соли. Она сама покупала на рынке самые свежие продукты и самое нежное мясо. Она вставала в шесть утра и вместе с ним совершала продолжительные прогулки вокруг лагуны, которую в этот час еще покрывал легкий фиолетовый туман. Кинтин был очень благодарен ей за внимание, но чем больше она его проявляла, тем меньше он ей доверял.
Однажды ночью он не выдержал. В четыре часа утра встал и на цыпочках прошел в кабинет, чтобы взять рукопись. В коричневой папке было девять новых глав. Он сел и положил папку на колени. Не знать, что было написано на этих страницах, 0ыло все равно что сидеть на тонущем корабле, не имея возможности что-либо предпринять. Но он так и не решился их прочесть. И снова положил нераскрытую папку в потайной ящик письменного стола Ребеки.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































