Текст книги "Змей в Эссексе"
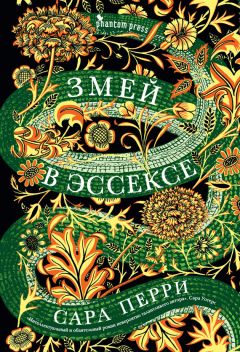
Автор книги: Сара Перри
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 24 страниц)
Эдвард Бертон сел на узкой постели и открыл на коленях бумажный пакет. Его гостья, сидевшая в кресле с высокой спинкой под рисунком собора Святого Павла, который сделал сам Эдвард, полила жареный картофель уксусом, и от пряного духа у больного впервые за несколько недель проснулся аппетит. Белокурая коса гостьи была уложена короной, и Эдвард, отламывая кусочек кляра от своей порции рыбы, подумал, что она похожа на ангела – если бы ангел проголодался и измазал подбородок маслом, а рукав зеленым горошком.
Марта смотрела, как неторопливо и спокойно он ест, и ее переполняла гордость, точь-в-точь как Люка, когда тот зашил Бертону рану. Сегодня она пришла к Эдварду в третий раз. На его щеки уже вернулся румянец. Их познакомила Морин Фрай, которая навещала Бертона не только чтобы снять швы, но и потому что приходилась родственницей Элизабет Фрай[36]36
Элизабет Фрай (1780–1845) – английская социальная активистка, реформатор тюремной системы.
[Закрыть] и в полной мере унаследовала фамильное чувство социальной ответственности. Морин была уверена, что обязанности медсестры простираются гораздо дальше перевязок и мытья залитых кровью полов. С Мартой их свел случай – собрание женщин, занимавшихся делами тред-юнионов, и за чашкой крепкого чая выяснилось, что у них есть общие знакомые. «Доктор Люк Гаррет, кто бы мог подумать!» – воскликнула Марта и покачала головой. Когда Марта впервые вместе с сестрой Фрай пришла в дом в Бетнал-Грин, где жили Эдвард с матерью, она обнаружила, что квартира у них тесная, с плохой канализацией, из-за чего в комнатах воняло аммиаком, но довольно уютная. Правда, свет с улицы едва пробивался из-за натянутых между домами веревок с постиранными простынями, похожими на знамена наступавшей армии, но зато на столике в вымытой банке из-под робертсоновского джема всегда стояли цветы. Миссис Бертон зарабатывала на жизнь стиркой и плела коврики из обрезков ткани, и от этих ковриков, устилавших пол в трех комнатушках, квартира казалась веселее. Матери и в голову не приходило, что Эдвард, быть может, так и не сумеет окончательно оправиться от болезни и вернуться в страховую компанию, где прослужил пять лет. Она стоически ухаживала за сыном.
Первый визит нельзя было назвать удовлетворительным. Эдвард был бледен и безучастен, а в миссис Бертон радость от спасения сына боролась с тревогой, оттого что он так переменился: на операционный стол лег один человек, а сняли с него совсем другого.
– Он все время молчит, – пожаловалась она, ломая руки, и взяла у сестры Фрай платок. – Как будто прежний Нед был, да с кровью весь вышел, а на его место явился новый, и мне нужно сперва с ним познакомиться, чтобы признать своим сыном.
После визита Марта несколько дней не находила себе места: как там Бертон, хорошо ли ест, не вздумает ли на пробу отправиться погулять? – так что через неделю она снова навестила его, с пакетами рыбы и жареного картофеля, сеткой апельсинов да несколькими номерами «Стрэнда», которые Фрэнсис уже прочитал и бросил.
Эдвард не спеша ел. Марте, привыкшей к Кориной нескончаемой болтовне и внезапным вспышкам радости и печали, в его обществе было спокойно. Что бы Марта ни говорила, Эдвард неизменно наклонял голову, медленно обдумывал ее слова и порой ничего не отвечал вовсе. Иногда его пронзала острая боль там, где удалили часть ребра, ткани срастались, и казалось, будто мышцы сводит судорога. Бертон ахал, хватался за пустое место, где когда-то была кость, и ждал, пока боль утихнет. В такие минуты Марта ничего не говорила, просто сидела рядом, а когда он поднимал голову, просила:
– Расскажите-ка мне еще раз, как построили мост Блэкфрайерс.
День выдался дождливым, вода собиралась в сточных канавах Тауэр-Хэмлетс, лилась с карнизов. Эдвард сказал:
– Он меня опять навещал, этот шотландец. Помолился со мной и оставил денег.
Речь шла о Джоне Голте, миссионерствовавшем в Бетнал-Грин; он проповедовал не только Евангелие, но и трезвость, и важность личной гигиены. Марта слышала о нем, видела его фотографии самых жутких лондонских трущоб и осуждала за религиозное чистоплюйство.
– Молился? Ну надо же. – Марта покачала головой и добавила: – Доброхотам нельзя доверять.
Ей претила мысль о том, что хорошего жилья достойны лишь праведники.
– Он ведь не только хочет добра, – заметил задумчиво Эдвард и, оглядев кусок картошки, отправил его в рот. – Мне кажется, он в принципе добрый человек.
– В том-то и беда! При чем тут добро? Это вопрос долга! Вы называете это добротой: принес вам денег, спросил, не сыро ли в квартире, и оставил вас на попечение Господа, каково бы оно ни было. Но ведь каждый имеет право жить достойно, это не должна быть подачка от высшего общества… Вот видите, – рассмеялась Марта, – как крепко это в нас сидит! «Высшее общество»! Да в чем оно высшее? В том, что его члены никогда не напивались до беспамятства, не творили глупостей и не ставили деньги на собак?
– Так что ж прикажете делать? – парировал Бертон со скрытой усмешкой, но Марта ее заметила. Она доела, вытерла масляный рот тыльной стороной ладони и сказала:
– Дело на мази, попомните мои слова, Эдвард Бертон. Я написала человеку, который может нам помочь, – ведь все и всегда упирается в деньги, не так ли? Деньги и власть. Бог свидетель, денег у меня нет и влияния маловато, но я сумею воспользоваться тем, что есть. – Она вспомнила о Спенсере, о том, как он чуть искоса поглядывал на нее, и немного смутилась.
– Жаль, что я ничем не могу вам помочь, – Эдвард указал на свои худые ноги, которые, казалось, похудели еще сильнее, так что теперь он не пробежал бы и десяти шагов, не задохнувшись. Лицо его на миг исказило отчаяние. Он никогда не задумывался о том, в каких ужасных условиях живет, пока эта женщина с волосами, похожими на веревки, и отрывистой речью не ступила на сплетенный его матерью половик и не разразилась гневной тирадой о том, что видела на улицах. Теперь же, бредя из одного конца Бетнал-Грин в другой, он невольно представлял, что этот мрачный лабиринт дрянных домов наделен разумом и управляет теми, кто в нем живет. По ночам, когда мать спала, он доставал рулоны белой бумаги и рисовал высокие просторные здания, залитые светом, с бегущей по трубам чистой водой.
Марта достала из-под стула зонт и со вздохом раскрыла: оконное стекло заливал дождь.
– Я сама пока ничего не знаю, – призналась она. – Не знаю, что сумею сделать. Но что-нибудь непременно изменится. Разве же вы не чувствуете?
Он не был уверен. Марта поцеловала его в щеку и пожала ему руку, словно не могла решить, что в данном случае уместнее. Эдвард окликнул ее, и она остановилась на пороге.
– Знаете, а я ведь сам во всем виноват.
– В чем? Что вы такого натворили?
Он ни разу не заговаривал с ней по собственному почину, и Марта боялась пошевелиться, чтобы его не спугнуть.
– В этом, – он коснулся груди, – я знаю, кто это сделал и почему. Я это заслужил. Ну, пусть не такое, но я все равно заслужил наказание.
Марта молча уселась на прежнее место и отвернулась от него, чтобы оторвать нитку на рукаве. Эдвард понял, что она не хочет его смущать, и в его раненом сердце шевельнулась благодарность.
– Человек я маленький, – начал он. – И жизнь у меня маленькая. Кое-что успел скопить, подумывал о своем углу, хотя мне и здесь хорошо, мы с матушкой всегда ладили. Работа у меня неплохая, правда, порою становилось так скучно, что я рисовал дома, которые никогда не построят. Теперь меня называют чудом – по крайней мере, тем, что сейчас принимают за чудеса.
– Каждая жизнь важна, – вставила Марта.
– В общем, я сам во всем виноват.
И Бертон рассказал, как счастлив был за письменным столом в Холборн-Барс, дожидаясь, пока пробьют часы и наступит свобода. Среди сослуживцев он пользовался популярностью, которой, впрочем, не добивался и которая ничуть ему не льстила. Видимо, им нравился его высокий рост, язвительность и острый ум, о котором теперь осталось лишь воспоминание. Тот Эдвард, что упал в тени собора, был ничуть не похож на молчуна, которого знала Марта. Тот, другой, все время над чем-то смеялся, отличался вспыльчивым, но отходчивым нравом. А поскольку сам ни на кого злобу не таил, то не мог и представить, чтобы его легкомысленные насмешки кого-то ранили. Но они ранили, причиняли боль.
– Это были всего лишь шутки, – сказал он. – Мы ничего такого не имели в виду. Нам казалось, он даже не обижался. Поди его пойми, этого Холла. Вид у него всегда был несчастный, так что с того?
– Холла? – спросила Марта.
– Сэмюэла Холла. Сэмом мы его никогда не называли. Это о чем-нибудь да говорит, правда?
«Он даже не обижался», – сказал Бертон, но, рассказывая об этом Марте, почему-то вспыхнул от стыда. Сэмюэл Холл, которого Господь обделил и остроумием и красотой, приходил на службу в унылом буром пальто за минуту до начала рабочего дня и уходил через минуту после конца. Холл был обидчив, прилежен и абсолютно незаметен. Но сослуживцы лезли к нему с замечаниями, пусть и безобидными, пытались его растормошить, а зачинщиком неизменно был Эдвард.
– Меня его понурый вид всегда забавлял. Понимаете? Невозможно было относиться к нему всерьез. Если бы он окочурился за столом, мы бы все покатились со смеху.
А потом унылый Сэмюэл Холл, чьи мутные глазки с обидой смотрели на мир из-за стекол очков, влюбился. Сослуживцы встретили его в мрачном баре возле набережной. Подумать только, он смеялся, и пальто на нем было не бурое, как всегда, а светлое, он целовал ручку какой-то женщине, и та не возражала. В мире не было зрелища уморительнее и абсурднее – в этом тусклом баре с теплым пивом. Бертон уже не помнил, что именно говорил и кому, но в какую-то минуту вдруг оказалось, что он обнимает эту смущенную женщину и целует с деланой галантностью, в которой сквозила насмешка.
– Я не имел в виду ничего дурного, мне хотелось лишь позабавить товарищей. В тот вечер я пошел домой и сейчас уже даже не вспомню, в каком именно баре был.
Всю следующую неделю стол Холла пустовал, но никому из сослуживцев и в голову не пришло поинтересоваться, куда он подевался и что с ним сталось. Они и подумать не могли, что он сидит в тесной своей комнатушке с одним-единственным стулом и что все обиды, копившиеся в душе Холла, как реальные, так и воображаемые, вылились в жгучую ненависть к Эдварду Бертону.
– Я остановился у собора Святого Павла, меня всегда удивляло, как же держится купол, – а вас? На ступеньках сидели черные птицы. Помню, в детстве меня учили, как определять, ворон это или грач: если птица одна – то ворон, если много – то грачи. Вдруг на меня кто-то навалился. По крайней мере, так мне показалось, – показалось, что кто-то споткнулся и упал на меня. «Смотри, куда идешь!» – сказал я, поднял глаза и увидел, что это Сэмюэл Холл. Он даже на меня не взглянул, просто убежал прочь, как будто опаздывал, а я его задержал.
Бертон пошел дальше, однако на него вдруг навалилась чудовищная усталость. Рубашка промокла. Он приложил к ней ладонь и обнаружил кровь. Тут неожиданно наступила ночь, он лег на ступени собора и уснул.
В комнате стоял полумрак, Бертон протянул руку и зажег лампу. В ее мягком свете Марта увидела, что от смущения и стыда Эдвард отвернулся от нее, на его худом скуластом лице горел румянец.
– Вина и расплата тут ни при чем, – сказала Марта. – Мир устроен иначе. Да получи мы все по заслугам… – она осеклась. Ей казалось, что он сделал ей подарок, который легко сломать. Между ними что-то изменилось, и теперь она обязана ответить ему откровенностью на откровенность. – Ведь без этого не прожить, – продолжала она, – я имею в виду, чтобы никого не обидеть. Этого не избежать, разве только от всех спрятаться и никогда ничего не делать и не говорить.
Ей хотелось, со своей стороны, тоже раскрыть ему душу, она попыталась припомнить за собой вину, и на ум ей тут же пришел Спенсер.
– Да получи мы все по заслугам, меня бы тоже не минула кара, – призналась Марта. – И куда худшая, чего уж там, нож в сердце – меньшее из зол. Вы не ведали, что творили, но я-то прекрасно знала и знаю, а все равно делаю!
И она рассказала молчаливому собеседнику о мужчине, который ее любит («Он полагает, что ему удается это скрывать, но это еще никому никогда не удавалось…»), о его робости, о том, как он увлекся добрыми делами, потому что хотел помочь и вдобавок сделать ей приятное.
– Спенсер неприлично богат, просто неприлично, у него такое состояние, что он сам не знает, скольким владеет! Если я позволяю ему себя любить и притворяюсь, будто могу ответить на его чувство, и от этого он сделает что-то хорошее – что ж тут дурного? Неужели разбитое сердце – слишком высокая цена за лучшую жизнь для горожан?
Бертон улыбнулся и поднял руку:
– Отпускаю вам грехи.
– Спасибо, святой отец, – рассмеялась Марта. – Вот что мне всегда нравилось в религии: получил отпущение – и греши себе снова. Что ж, мне пора идти, – она указала на темнеющее небо за окном, – а то опоздаю на поезд.
На прощанье Марта еще раз пожала Бертону руку, а он притянул ее к себе и поцеловал, и она впервые увидела, что когда-то в этих длинных пальцах и вытянутых под одеялом ногах таилась жизненная сила.
– Приходите еще, – попросил Бертон, – и поскорее.
После ухода Марты он долго сидел на ее стуле и планировал общий сад для соседей.
6В Колчестере накрапывал мелкий дождь, и изморось окутала город, точно белесое облако. Томас Тейлор с Корой Сиборн сидели, накрывшись куском брезента, и ели пирог. Кора приехала в город за книгами, бумагой и деликатесами, каких не найти в Олдуинтере («Хлеб и свежая рыба – это, конечно, хорошо, – заявила Кора, – но во всем Эссексе не сыщешь ни кусочка марципана к чаю»). Прохожие, должно быть, думал Тейлор, немало удивлены, видя его в обществе такой богатой – хотя и неопрятной – дамы. Он рассчитывал, что от этого выручка его увеличится. Да и с Корой им было что обсудить.
– Как поживает Марта? – поинтересовался Тейлор, назвав ее, по своему обыкновению, по имени, несмотря на то что Марта всякий раз, как приезжала в город, распекала его на все корки; впрочем, старик на нее не обижался. – Не прошла еще у нее эта блажь?
Тейлор слизнул крошку с пальца. Из-за тучи робко выглянуло солнце.
– Будь в жизни справедливость, – ответила Кора, – но, как мы с вами знаем, ее нет, Марта заседала бы в парламенте, а у вас был бы собственный дом.
Вообще-то Тейлор обитал в уютной квартирке на нижнем этаже в городском особняке, поскольку пенсия у него была неплохая, а заработки еще лучше, но не стоило разочаровывать собеседницу.
– Если бы мечты были лошадьми, – он со вздохом перевел взгляд на тележку, которая позже доставит его домой, – я бы сколотил состояние на навозе. А как поживают деревенские – я имею в виду, в Олдуинтере? Не заполз к ним ночью змей, не сожрал их, пока они спали?
Тейлор лязгнул зубами, надеясь рассмешить Кору, но та нахмурилась, на лоб набежали морщины.
– Вы не боитесь злых духов? – Она обвела рукой развалины, с которых свисали мокрые обрывки занавесок, а в зеркале над разрушенным камином отражались фрагменты комнат.
– Еще чего, – весело ответил старик. – Я, между прочим, человек верующий, меня всей этой чертовщиной не проймешь.
– И даже ночью вам не бывает страшно?
Ночью Тейлор, объевшись гренок с сыром, обычно лежал под толстым стеганым одеялом, а в соседней комнате храпела его дочь.
– Даже ночью, – подтвердил он. – Нет здесь никого, кроме ласточек.
Кора доела пирог и призналась:
– В деревню словно злые духи вселились. Точнее, мне кажется, местные жители сами себя убедили в этом.
Она подумала об Уилле, который не писал ей с того самого дня, как они согласились, чтобы Люк загипнотизировал Джоанну, а при встрече приветствовал ее так подчеркнуто вежливо, что все позвонки холодели.
Тейлору не понравилось, куда клонится разговор; старик ткнул пальцем в газету, которую принесла Кора, и попросил:
– Расскажите лучше, что на свете делается. Люблю быть в курсе событий.
Кора встряхнула газету и ответила:
– Все как всегда: три британских солдата убиты в окрестностях Кабула; мы проиграли тестовый матч по крикету. Хотя, – она постучала пальцем по сложенной странице, – есть и кое-что интересное, метеорологический курьез, и я сейчас не об этом нескончаемом дожде! Прочитать вам?
Тейлор кивнул, сложил руки и закрыл глаза, точно ребенок, который приготовился слушать сказку.
– «В следующие несколько недель рекомендуем синоптикам-любителям обратить пристальные взоры на небо, дабы стать свидетелями любопытного атмосферного явления. Впервые оно было отмечено в 1885 году и наблюдается только в летние месяцы между 50° северной и 70° южной широты. “Светящиеся облака”, как их называют, образуют причудливый слой, видимый лишь в сумерки. По рассказам очевидцев, облака светятся голубым мерцающим светом, по форме же более всего похожи на барашки. Споры о природе этого феномена не утихают, и некоторые ученые утверждают, будто тот факт, что впервые “светящиеся облака” заметили вскоре после извержения вулкана Кракатау в 1883 году, не просто совпадение». Вот, – дочитала Кора, – и что вы на это скажете?
– Светящиеся облака! – Тейлор раздосадованно покачал головой. – Чего только не придумают!
– Говорят, что пепел Кракатау изменил мир: и зимы последние годы не те, что раньше, теперь вот и облака, а все потому, что несколько лет назад за тысячи миль от нас случилось извержение вулкана. – Кора покачала головой. – Я всегда была уверена: нет никаких тайн, просто мы чего-то пока не знаем, однако недавно увидела такое, что поняла – и знания недостаточно.
И она рассказала о баркасе-призраке в небе над Эссексом, который видела вместе с Уильямом Рэнсомом, и о чайках, пролетавших под носом судна.
– Оказалось, это всего лишь игра света, – пояснила Кора. – Известный трюк. Но сердце дрогнуло.
– «Летучий эссексец»? – с сомнением уточнил Томас: если корабли-призраки и встречаются в природе, они уж наверняка выбрали бы место поинтереснее устья Блэкуотера. Однако толком ответить Коре он не успел: к ним подошли Чарльз и Кэтрин Эмброуз (он – под зеленым, она – под розовым зонтом), и от их появления улица словно стала светлей.
Кора поднялась поприветствовать друзей.
– Чарльз! Кэтрин! Идите же сюда, – вы ведь знакомы с Томасом Тейлором, моим другом? Мы как раз говорили об астрономии. Вы видели светящиеся облака? Или в Лондоне слишком светлые ночи?
– Я, дорогая Кора, как обычно, понятия не имею, о чем вы. – Чарльз пожал калеке руку, не глядя бросил в шляпу несколько монет и прикрыл Кору зонтом. – Уильям Рэнсом писал мне о вашем позоре. – Кора пристыженно вздохнула, но Чарльз продолжал: – Вы призываете нас не отворачиваться от современных достижений, но все же недурно было бы сперва спросить разрешения.
Заметив несчастное лицо Коры и предостерегающий взгляд жены, Чарльз запнулся, но он любил Уильяма, а тот, судя по последнему письму, отреагировал на случившееся куда резче, нежели стоило. И зачем Вы нас только познакомили, – писал преподобный, – ничего хорошего из этого не вышло: что ни день, то новая беда. Правда, вскорости прислал открытку, тон которой был бодрее: «Простите мое ворчание. Я устал. Что нового в Уайтхолле?»
– Вы извинились перед ним? – спросил Чарльз и в который раз горячо возблагодарил Господа за то, что ему так и не довелось стать отцом.
– Нет, конечно. – Кора, надеясь на поддержку, взяла Кэтрин за руку. – И не собираюсь. Джоанна согласилась. Стелла тоже. Или нам надо было ждать, пока мужчина не даст письменное согласие?
– Очень красивое пальто, – поспешно заметила Кэтрин, глядя на синий жакет, сменивший стариковский твидовый балахон. В синем серые глаза Коры казались сизыми.
– Правда? – рассеянно откликнулась Кора, не в силах думать ни о чем другом, кроме того, что ее друг сейчас сидит у себя в кабинете и сердится на нее. Ей столько надо было ему сказать – но как достучаться?
Кора обернулась к Тейлору, который подбирал крошки пирога с колен и наблюдал за троицей с таким удовольствием, словно купил билет на спектакль, и пожала ему руку:
– Мне пора домой. Фрэнсис просил новую книжку о приключениях Шерлока Холмса. Он боится, что это последнее дело великого сыщика, и если его опасения оправдаются, не знаю, что нам и делать, – наверно, самим писать детективы.
– Передайте ему от меня вот это, – попросил Тейлор, знакомый с мальчиком куда лучше, чем предполагала мать: Фрэнсис любил незаметно ускользнуть из «Красного льва» и забраться в разрушенный дом. Старик протянул Коре осколок тарелки, на котором она разглядела змея, обвившегося вокруг яблони.
– Опять змеи, – заметил Чарльз. – Что-то их тут многовато. Между прочим, Кора, я с вами не договорил: мы остановились в «Георге», и, думается, вы не откажетесь выпить вина.
Однако, удобно устроившись в гостиной «Георга», обсуждали они не Уильяма, а Стеллу. Ее письма Кэтрин были проникнуты мистикой («Причем, – озадаченно заметил Чарльз, – вовсе не в том смысле, в каком ожидаешь от жены священника!»). Отныне Стелла верила не в раскаты грома над Синаем – она обожествляла синий цвет во всех его проявлениях.
– Она мне рассказала, что день и ночь размышляет об этом, берет с собой в церковь голубой камешек, целует его, а одежду может носить только голубую, любой другой цвет якобы обжигает кожу. – Кэтрин покачала головой: – Уж не заболела ли? Она всегда была глуповата, но как-то по-умному – как будто решила казаться глупой, потому что именно такие женщины больше всего нравятся мужчинам.
– И ей все время жарко, – добавила Кора, вспомнив, как в последнюю встречу взяла Стеллу за руку и подумала, что ладошки у той горячие, словно у больного ребенка. – Но не верится, что она больна: каждый раз, как я ее вижу, она все хорошеет.
Чарльз налил себе еще вина («Пожалуй, даже неплохо для эссекского паба») и, подняв бокал к свету, заметил:
– Уильям говорил, что показывал ее врачу и тот сказал, что Стелла еще не оправилась от гриппа. Он думал отправить ее куда-нибудь в теплые края, но, как поется в старой песне, скоро лето, вот и погреется на солнышке.
Кора засомневалась. Люк ей ничего не сказал – слишком уж торопился уехать из Олдуинтера, подальше от Уилла с его манерой хватать за шиворот, – но она-то заметила, как он настороженно присматривался к Стелле, пока та мило болтала о васильках, которые выращивает из семян, и своих бирюзовых сережках, как пощупал ее пульс и нахмурился.
– На днях она призналась мне, что змея не видела, зато слышала, хотя и не разобрала, что он сказал. – Кора допила вино. – Может быть, пошутила или решила мне подыграть?
– Она очень похудела, – добавил Чарльз, не доверявший тем, кто плохо ест, – но по-прежнему хороша. Иногда мне кажется, что она похожа на святую, увидевшую Христа.
– Нельзя ли показать ее Люку? – спросила Кэтрин.
– Не знаю, он же хирург, а не терапевт, но мысль хорошая, я и сама думала написать ему и попросить об этом.
Тут Кора осознала – в наступившей после дождя тишине, – как сильно привязалась к Стелле, с которой у них было так мало общего, которая обожала свою семью и свое отражение в зеркале и разбиралась в чужих делах куда лучше, чем в своих, но всем желала добра. «Должна ли я ей позавидовать? – подумала Кора. – Должна ли я желать ей смерти?» Но ничего такого она не чувствовала, а только думала: это жена Уилла и ей надо помочь.
– Мне пора, – сказала Кора, – вы же знаете, как Фрэнки считает часы, но я непременно напишу Люку и, так уж и быть, Чарльз, напишу его преподобию. Я буду послушной, обещаю.
Кора Сиборн
Дом 2 на Лугу
Олдуинтер
29 мая
Дорогой Уилл,
Чарльз велел мне перед Вами извиниться. Ну а я не буду. Я не стану извиняться за то, в чем не вижу своей вины.
Я читала Священное Писание, как Вы когда-то мне велели, и хочу заметить (см. Мф. 18:15–22), что Вы должны простить меня еще 489 раз, прежде чем выгнать прочь.
Между прочим, я знаю, что Вы говорили с моим сыном о грехе, но я же из-за этого не устраиваю Вам сцен! К чему нам ссориться из-за детей?
И почему мой разум должен склониться перед Вашим или Ваш перед моим?
Ваша Кора.
Уильям Рэнсом
Дом священника
Олдуинтер
Уважаемая миссис Сиборн,
Большое спасибо за письмо. Я Вас давно простил. Признаться, я уже забыл об инциденте, о котором, насколько я понял, Вы упоминаете, и удивлен, что Вы подняли эту тему.
Надеюсь, у Вас все благополучно.
С наилучшими пожеланиями,
Уильям Рэнсом.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































