Текст книги "Змей в Эссексе"
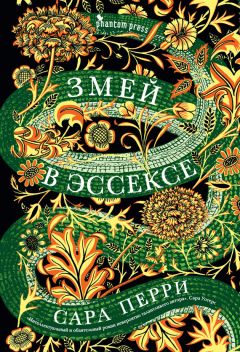
Автор книги: Сара Перри
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)
Кора в твидовом мужском пальто высматривала на лугу Уилла. Вечер был слишком теплый, чтобы поднимать воротник, лето выдалось мягким, и осень тоже наступала несмело. Но Коре было не по себе, и не только при воспоминании о том, как Уилл держал ее за талию. Ей хотелось укутаться в тяжелую одежду, обезобразить себя бесформенной тканью и массивными башмаками, не спрячь Марта ножницы, Кора обрезала бы волосы, но пришлось довольствоваться уложенными на затылке косами, точно школьница поутру.
Она так давно не видела своего друга, что боялась не узнать, и от волнения у нее пересохло во рту. Как-то он ее встретит? Будет ли к ней суров, упрекнет ли в том, как она его разочаровала? Заговорит ли с ней тепло, как когда-то, или же будет робеть (что ее всегда удручало)?
Ветер донес с Блэкуотера соленый запах; в высокой траве виднелись шляпки грибов, жемчужные, как устричные раковины. Уилл подкрался к ней неслышно, точно расшалившийся мальчишка, легонько тронул за руку выше локтя: «Право же, не стоило так наряжаться ради меня». Размеренный ритм, протяжные гласные – все это было так знакомо, так мило, что Кора позабыла страх и расправила полы пальто в реверансе.
Они с улыбкой разглядывали друг друга. Уилл был без воротничка и, как истинный сельский житель, не обращающий внимания на то, какое нынче время года, без пальто. Он закатал рукава, словно весь день работал, и расстегнул на горле пуговицы рубашки. Волосы его с тех пор, как Кора видела его в последний раз, отросли, выгорели и в свете заходящего солнца казались янтарными. На щеке все так же виднелся шрам в форме овечьего копыта, а глаза покраснели, как будто он тер их, читая вечернюю газету. «У него бессонница», – с пугающей нежностью подумала Кора.
Под его взглядом она почувствовала, как сильно подурнела: лицо приобрело землистый оттенок, оттого что она почти все лето просидела взаперти, а волосы на макушке торчали в разные стороны. Если она когда и смотрела в зеркало, то лишь для того, чтобы с полным равнодушием отметить тонкие морщинки в уголках глаз и складку между бровей. Все это Кора сейчас остро припомнила, и ее охватило облегчение. Невозможно было поверить в то минутное помрачение, что летом послужило причиной их разлуки, – ни один мужчина на свете теперь не взглянул бы на нее с вожделением. Эта мысль показалась ей такой нелепой, что она рассмеялась, и ее смех обрадовал Уилла, потому что вычеркнул прошедшие недели и вернул его в ту теплую комнату, где она когда-то впервые протянула ему руку.
– Что ж, миссис Сиборн, пойдемте, – сказал он. – Мне столько нужно вам рассказать.
Кора мгновенно почувствовала себя свободно и раскованно, она больше не боялась и не стыдилась. Они шагали быстро, нога в ногу, прочь из деревни и от реки. Прошли мимо церкви Всех Святых и не отвели глаза, поскольку не видели в вечерней прогулке ничего предосудительного.
У обоих накопилось столько забавных и печальных историй, столько небылиц и смутных предположений, что битый час они болтали без умолку. Они словно заново открывали друг друга, с удовольствием подмечали знакомые жесты, излюбленные словечки, склонность умалчивать или преувеличивать, и если один вдруг отклонялся от темы, другой тут же следовал за ним. Они наслаждались общением друг с другом, как повелось с первой встречи, и их ничуть не смущало, что негоже так часто улыбаться и так охотно смеяться, в то время как утопавшая в голубых шелковых подушках Стелла прикрывает рот платком и кашляет кровью, а Люк Гаррет в Колчестере не знает, как жить дальше. Они не столько простили, сколько забыли друг другу предательство; теперь они снова вместе, а значит, все по-старому.
– Подумать только, всего-навсегда дохлая рыба! – воскликнула Кора. – Вот вам и змей с клыками и крыльями! Никогда еще я не чувствовала себя такой идиоткой. Я ведь ходила в читальный зал (признаться, я втайне надеялась, что встречу там вас) и, как прилежная школьница, писала конспекты, разглядывала в книге ремнетела, которого тридцать лет назад выбросило на берег Бермудских островов, читала о том, что эти рыбы перед смертью плавают у поверхности. Впору извиниться перед Мэри Эннинг за то, что опозорила и ее пол, и род занятий.
– Но какая рыбина! – И Уилл описал, как лопнула блестящая кожа на рыбьем животе и как его содержимое извивалось на берегу.
Заговорили о Стелле, и Кора отвернулась: однажды она уже расплакалась при Уилле и больше не хотела.
– Она попросила показать ей предметное стекло под микроскопом, – рассказывал Уилл, в который раз изумляясь отваге жены. – Она смотрела на содержимое собственных легких, зная, что в них таится смерть, куда смелее, чем я. Мне кажется, она давно обо всем догадалась. Ей ведь и раньше доводилось такое видеть.
– Таких женщин, как Стелла, часто недооценивают. Люди думают, что если она красавица и любит наряжаться, сплетничать и болтать, то пуста, как статуэтка балерины, которая описывает пируэты на шкатулке, но мне с первого же ее письма стало ясно, как она проницательна и умна, – думаю, она и сейчас все прекрасно понимает.
– Не хуже, чем раньше, хотя кое-что изменилось. – Они дошли до опушки леса, тропинка сузилась, на дубах сидели стаи галок, а ежевика цеплялась за одежду. Ягоды сгнили на ветках, поскольку из-за «напасти» никто из жителей деревни давным-давно не ходил с корзиной в лес. – Кое-что изменилось. Меня предупреждали, но такого я не ожидал. Разумеется, Стелла верующая, иначе я бы на ней не женился, – чему вы удивляетесь? А как иначе я оставлял бы жену одну каждое воскресенье и еще половину недели, если бы она не верила в того же Бога? Да, она верующая, но верит иначе, нежели я. Ее вера всегда была, – тут Уилл замялся, подбирая слово, – благовоспитанной, что ли. Понимаете, о чем я? Сейчас все иначе, и меня это смущает. Она поет. Я просыпаюсь ночью и слышу, как она поет у себя в комнате на другом конце коридора. Мне кажется, что слухи о змее перепутались у нее в голове с библейскими легендами, и она не верит, что его больше нет.
– Вы говорите, как чиновник, а не как священник! Наверно, те женщины, которые отправились к гробнице Спасителя, – забыла, как их звали, – тоже, как и она, ослепленные сиянием славы и уже еле живые, мечтали, чтобы все это поскорее кончилось… Нет, я над вами не смеюсь и, видит Бог, никогда не смеялась над Стеллой, но коль скоро вы настаиваете на истинности собственной веры, то, по крайней мере, должны согласиться, что вера иррациональна и для нее не важны ни выглаженная сутана, ни чин богослужения.
Кора почувствовала раздражение: она и забыла, с какой легкостью они выводят друг друга из терпения. Она подумала, не продолжить ли разговор о вере, но сочла, что пока не время обсуждать непростые темы.
– Впрочем, я вас понимаю, – примирительно сказала она, – я очень вас понимаю. Ничто нас так не тревожит, как перемены в любимых. Мне часто снится кошмар (я не раз вам об этом рассказывала), как я прихожу домой, Марта и Фрэнсис снимают лица, как маски, а под ними ненависть и отвращение… – Кора вздрогнула. – Но она по-прежнему ваша Стелла, ваша звезда морей, «любовь не знает убыли и тлена».[51]51
У. Шекспир. Сонет 116 (пер. С. Я. Маршака).
[Закрыть] Так что вы намерены делать? Как думаете ее лечить?
Уилл рассказал о полном треволнений дне в больнице, о вежливости доктора Батлера и сарказме Люка, о том, как спокойно Стелла выслушала диагноз и рекомендации врачей.
– Доктор Батлер осторожен, он хочет еще раз ее осмотреть, хочет колоть ей туберкулин, популярное лекарство. Чарльз Эмброуз обещал, что все оплатит, и как я могу отказаться? Не в моем положении упиваться гордыней.
– А Люк? – спросила Кора и вспыхнула: она все еще не могла выговорить его имя, не краснея от стыда.
Уилл мог бы себя заставить простить Чертенка, но, коль скоро вера не обязывала его любить своих обидчиков, он ответил:
– Вы уж не обессудьте, но я даже рад, что он не сможет оперировать: он собирался проткнуть ей легкое, чтобы другое зажило! Не поймите меня превратно, я глубоко сожалею, что его ранили, но благополучие Стеллы заботит меня куда больше, и ни о чем другом я сейчас думать не могу.
И смешался, словно его поймали на лжи. «Ни о чем другом я сейчас думать не могу», – сказал он. Ах, если это было бы так! Если бы это было так!
– А что говорит Стелла? – Кору охватило чувство, похожее на ревность: интересно, каково это, когда тебя любят так безоглядно?
– Что Христос придет, чтобы забрать свои драгоценные камни, и что она готова, – ответил Уилл. – По-моему, ей все равно: как будет, так будет. Иногда она говорит, что на будущий год в это время заберется на Дуб изменника вместе с Джеймсом, а иногда я вхожу и вижу, как она лежит, сложив на груди руки, точно уже в гробу. И этот ее голубой, все время голубой! Посылает меня за фиалками, я объясняю, что не сезон, и она едва не плачет от злости.
Уилл поведал Коре – робко, поскольку стыдился этого, – о сделке с Богом и как он готов был, если бы получил благословение свыше, отдать жену в руки Люка, под его скальпель и иглы.
– Но тут мы узнали, что Гаррет был ранен, и если я не увидел в этом знамение, то Стелла уж точно: она вздохнула с облегчением и сказала мне, что согласилась бы на операцию, если бы я счел это необходимым, но предпочитает ввериться Господу. Иногда мне кажется, что она хочет нас оставить, хочет уйти от меня!
Кора украдкой взглянула на друга. Тот настолько редко терял самообладание, что сейчас она испугалась.
– Помню, как заболел Майкл, – заговорила Кора. – Мы завтракали, и он вдруг не смог сделать глоток. Он застыл, побагровел, вцепился в скатерть, схватился за горло – а поскольку он никогда ничего не боялся и при любых обстоятельствах контролировал себя, мы поняли, что стряслась беда. Тут в окно влетела птица. Я ничуть не суеверна, но в тот миг вспомнила примету, что если в дом влетела птица, это к покойнику. Меня охватило такое облегчение, что я просто сидела и смотрела, как он задыхается… потом, разумеется, опомнилась, мы дали ему воды, его стошнило, чуть погодя у него начались кровотечения, послали за Люком. Тогда я увидела его впервые. Признаться, я его побаивалась, – не странно ли? Никогда не знаешь, кем станет тебе незнакомец, который переступает порог твоего дома… Ах! – Кора покачала головой. – Сама не знаю, к чему я это говорю, как можно сравнивать их со Стеллой! Она совершенно иной породы! Наверно, я это к тому, что перемены всегда застают нас врасплох.
И Уилл подумал благодарно: как странно, что Кора так его понимает, хотя не согласна почти ни с чем, что он знает и ценит.
Сгущались сумерки. Розовое солнце пряталось под черной тучей, лучи его касались лишь стволов каштанов и буков, а кроны тонули во мраке, и казалось, будто на бронзовых колоннах покоится плотный черный балдахин. Кора и Уилл подошли к невысокому холму, тут и там тропинку пересекали через равные промежутки корни деревьев, образовав пологую лестницу с широкими ступенями. Все покрывал плотный ковер сочного зеленого мха.
Как бы приятно и оживленно ни текла беседа, ей не хватало доверительности их писем, в которых они так охотно говорили о «я» и «вы». Но теперь, когда вокруг сомкнулся лес, можно было коснуться самого главного, пусть нерешительно и постепенно.
– Я так обрадовался, когда вы мне написали, – робко признался Уилл. – Мне в тот день было очень грустно, и вдруг на коврике у двери я увидел ваше письмо.
– А я рада, что смирила гордыню. – Кора поставила ногу на зеленую ступеньку, примолкла на миг, а потом продолжила: – Вы так на меня рассердились за то, что Люк опробовал на Джо свои трюки. Я не обижаюсь, когда на меня сердятся, если я это действительно заслужила, но тут я ни в чем перед вами не провинилась, я лишь хотела помочь! Если бы видели то, что видела я, – как девочки смеялись, как мотали от хохота волосами…
Уилл раздраженно покачал головой:
– Ну да что теперь об этом вспоминать, дело прошлое. – Он рассмеялся и добавил: – Люблю с вами спорить, но только не о важном.
– Только о добре и зле…
– Именно так. Смотрите-ка, мы в соборе. – Высоко над головой деревья наклонились, образовав нечто вроде алтарной арки; у дуба возле тропинки отломилась ветка, оставив глубокую впадину над заостренным уступом. – Как будто Кромвель взял молоток и стамеску и уничтожил святыню.
– Я видела, что вы наконец избавились от змея, осталось только несколько чешуек, – заметила Кора. – Я заходила в церковь в тот день, как вернулась в деревню. Что же вас так рассердило?
Уилл вспомнил о постыдном случае на болоте в день летнего солнцестояния, куда он сбежал от всех, закашлялся и сказал:
– Джоанна бы мне уши надрала, не подоспей известие о смерти Крэкнелла. Смотрите-ка: надо же, каштаны лежат, а дети их не собирают.
Он наклонился, набрал горсть каштанов и протянул один Коре. Та сунула кончик пальца в трещину в зеленой оболочке и раскрыла ее, на белом шелковом ложе блестел орешек.
– Я рассердился, – признался Уилл. – Вот и все. Теперь напасть миновала, и я почти позабыл, каково это: как все сидели по домам, не пускали детей на улицу и, как я ни убеждал, что бояться нечего и все эти страхи – пустая выдумка, не верили ни единому моему слову.
– Я сразу же это заметила, – согласилась Кора, – в деревне все по-новому. Я слышала, как поет школьный хор, и только дома вспомнила, как девочки заходились смехом и как плохо все кончилось. Подумать только, когда я впервые сюда приехала, на лугу не было ни души и все на меня косились, точно я во всем виновата! Точно это я навлекла на них беду!
– Порой мне кажется, что так и было. – Уилл опустил руки, ковырнул носком мох и полушутя-полусерьезно взглянул на Кору с упреком.
Кора засмеялась:
– Напасть, быть может, и не моих рук дело, да что толку: я напутала в остальном. Вот вы написали, что не ждете от жизни нового, и я поняла, сколько ошибок натворила. Напросилась к вам в гости. Разве что не выбила окно! Настояла на том, чтобы мы переписывались, хотя жили самое большее в полумиле друг от друга! И все лишь потому, что мы однажды с вами разговорились…
– Не забывайте об овце, – вставил Уилл.
– Да, и овца, конечно же. – Они переглянулись с облегчением, словно переступили через показавшуюся на тропинке трещину. Но трещина ширилась, и они споткнулись.
– Мои окна и так были выбиты, – заметил Уилл. – Или нет, пожалуй, я их запер на шпингалет – но отчего? Отчего я так радуюсь, когда вижу вас? Ведь у меня есть все, о чем только можно мечтать…
– Меня это вовсе не удивляет. – Кора выковыряла каштан из кожуры и покатала в ладонях. – Неужто вы правда думали, что можно любить либо одно, либо другое? Уилл, милый, бедный, неужто же вы полагали, будто в вас так мало любви? Кстати, как вы думаете, что мне с этим сделать: запечь, сварить или замариновать в уксусе? – Она притворилась, будто бросает в него каштаном, но он увернулся и поднялся на ступень-другую выше Коры.
– Полно ребячиться, – раздраженно ответил Уилл. – Думаете, я не знаю, какого вы мнения обо мне – пусть даже в глубине души? Вы считаете меня спятившим на Боге полудурком, которому до вас далеко, потому что вы-то стоите на высшей ступени эволюции!
Кора мрачно взглянула на Уилла, но ему показалось, что краешек ее губ дрогнул в улыбке, и он продолжил, распаляясь, так что слова его прозвучали жестоко, чего он совсем не хотел:
– Вы только посмотрите на себя! Как бы вы ни рядились – в шелка и бриллианты или в лохмотья, которыми и Крэкнелл бы побрезговал, что бы вы ни делали – смеялись над нами или клялись в любви всем подряд, вы всегда отгораживались стеной, потому что не хуже меня знаете: молодость ваша почти миновала, а вас никто и никогда не любил так, как должен был…
– Довольно, – перебила Кора.
Искренность, к которой она стремилась в письмах, здесь, под черным лесным балдахином, ранила нестерпимо; ей хотелось вернуться на твердую почву бумаги и чернил, сбежать отсюда, чтобы не краснеть и не чувствовать за сладковатым дымом далекого пожара запах его тела под рубашкой. Возмутительно, в самом деле: пусть бы и дальше писал ей письма, а она бы и впредь не замечала, что он, оказывается, человек из плоти и крови, не чувствовала, как бешено бьется жилка на шее.
– Слезайте оттуда, – добавила Кора. – Спускайтесь. Не будем ссориться. Разве мало мы с вами ругались?
Уилл пристыженно склонился под деревом, пошарил в опавшей листве, подобрал с земли несколько каштанов и один за другим передал Коре. Она зажала каштаны в руке.
– Как жаль, что мы уже не дети! В детстве это были сокровища, их берегли, ими менялись. – Она подошла к Уиллу и села рядом с ним на мох. – Так было бы здорово вновь стать детьми и вместе играть…
– Разве невинность вернешь! – ответил Уилл, и у него вдруг закружилась голова, как будто от ее слов они оба взлетели высоко и еще не упали. – Мы утратили невинность, вы притворяетесь, не даетесь мне в руки… – Он грубовато дернул ее за рукав: – Вы что же думали, если наденете мужское пальто, то я и не вспомню, кто вы на самом деле?
– А вы вообразили, будто я надела его из-за вас? – парировала Кора. – Я и сама не вспоминаю о том, что женщина. Я перестала ею быть. Бог свидетель, я плохая мать, да и женою толком никогда не была… а вам бы хотелось, чтобы я мучилась в туфлях на высоких каблуках и запудривала веснушки? Тогда вы бы держались настороже?
– Вовсе нет. Мне кажется, это вы настороже: вы мне как-то признались, что хотели бы превратиться в чистый разум без тела, чтобы вас не тревожили собственная плоть и кровь…
– Так и есть! Я их презираю, тело всю жизнь меня предает. Оно – не я. Я здесь, я – в мыслях и словах…
– Да, – ответил Уилл, – да, безусловно, но и здесь тоже вы. – Он раздвинул полы ее пальто, вытащил блузку, заправленную в юбку, и вспомнил, как когда-то коснулся ее талии и сам себя за это стыдил. Но сейчас ему было ничуть не стыдно. Оторваться от нее было бы оскорбительно – разве можно выучить наизусть все изгибы и повороты ее мысли и ни разу не коснуться ее кожи, не узнать ее запах и вкус? Это было бы вопреки законам природы.
Сгущались сумерки; Кора лежала, откинувшись на мягкую зеленую ступеньку, и не сводила с Уилла пристального зовущего взгляда, в котором не было ни тени удивления. Он приподнял блузку и между черных ее одежд увидел мягкий живот, ослепительно белый, с серебристыми полосками, которые оставил сын. Уилл приник к ее животу губами, а она изгибалась от наслаждения.
Солнце село, лес сомкнулся над ними, и медь на колоннах деревьев покрылась патиной. Позолоченный купол исчез, остался лишь запах прелой листвы, сухой травы да паданцев, гниющих на тропинке. Кора уставила на Уилла привычный невозмутимый взгляд, и все ее существо устремилось навстречу ему, как река в половодье.
– Пожалуйста, – она потянула вверх юбку, и в ее просьбе Уиллу послышался приказ, – пожалуйста.
Он с легкостью нашел путь, скользнул рукой внутрь и принялся ее ласкать. Кора откинула голову и затихла. Он показал Коре блестящую от влаги ладонь, облизал указательный палец и дал ей облизать, чтобы разделить этот вкус.
6В ту же ночь, но чуть позже, милях в пяти от того места доктор Гаррет шагал вдоль ячменных полей, урожай с которых собрали после заморозков. Он забрал себе в голову дойти до реки Коулн и вышел глухой ночью, когда кажется невыносимой легчайшая ноша, а рассвет до нелепости далек.
Луна еще не исчезла, однако небо на востоке местами уже светлело, и над полями вставал туман. Порой его густые клубы налетали на Гаррета, холодили щеку, точно чье-то влажное дыхание, и улетучивались, как вздох. Река скрылась из виду. Впрочем, Гаррета это не заботило, равно как и то, где он очутится. Если бы мог, он бы сбежал из собственной кожи. Просторы Эссекса казались его лондонскому глазу до странности однообразными: куда ни кинь, распаханные поля, кое-где белеют под заходящей луной ячменные стерни, а в низких живых изгородях кипит жизнь. Ряды крепких дубов провожали его взглядами, точно часовые, – он здесь чужак.
Наконец он вышел на поросший густой травой косогор, с которого открывался вид на холмистые равнины и дремавшую в низине деревушку, и сел отдохнуть под дубом. Тот уже сбросил листья – от болезни ли, от невезения ли, – и на его ветвях в неверном предутреннем свете зеленела омела. Другой бы на месте Гаррета представил, как под нею на Рождество целуются влюбленные, но он знал, что омела – паразит, который высасывает из дерева все соки. Ее клубки на голых ветвях, подумал Гаррет, выглядят точь-в-точь как опухоли в легком.
Стоило ему усесться отдыхать, как он почувствовал боль, которую на ходу не замечал. Горели стертые до мозолей непривычные к долгим прогулкам ноги (в Лондоне он проходил от силы милю-другую), опухло и ныло колено, которое он ушиб, когда споткнулся о ступеньку, но сильнее всего болела раненая рука. Во время прогулки он вытянул ее вдоль тела, кровь прилила к заживавшему шраму, и теперь ладонь саднила. Там, где плоть прорезали нож и скальпель, образовалась тонкая складка, похожая на заштопанный рот. «Жил на свете человек, скрюченные ножки, и гулял он целый век по скрюченной дорожке».
Впрочем, Гаррет не досадовал на боль, она отвлекала его от мучительного отчаяния, которое преследовало его по пятам с тех самых пор, как он приехал из Лондона со ставшей никчемной рукой и письмом от Коры в кармане. «Как вы могли?» – вопрошала она, и ее гнев передавался ему. Гаррет понимал ее чувства: и правда, как он посмел? Кора как-то сказала: что проку в некрасивом и бесполезном? – а он теперь был и то и другое. Злющий коротышка, ни дать ни взять зверь, не человек, а теперь еще (он ткнул большим пальцем левой руки в раненую правую ладонь, и от боли закружилась голова) и никуда не годный.
С того самого дня, как ладонь его вспорол нож, Гаррет каждую ночь просыпался в поту, который собирался в ямке между ключицами и пропитывал подушку. «Я ни на что не гожусь, – повторял он и бил себя кулаками по вискам, пока не начинала болеть голова, – я ни на что не гожусь, ни на что!» Все, что составляло для него цель в жизни, отнято и никогда не вернется.
Иногда по утрам несколько мимолетных мгновений жизнь снова манила надеждами: вот его тетради и макеты сердца с камерами и венами, вот письмо, которое Эдвард Бертон написал ему после своего выздоровления, а рядом конверт с камешком от Коры и объяснительной запиской, сделанной ее мальчишеским почерком. Но потом он все вспоминал, понимал, что это бутафория, как в театре, и перед ним словно опускался черный занавес. Его преследовала не грусть – он, может статься, и рад был бы погрузиться в угасающую печаль наподобие той, что охватывает в парке на мемориальной скамье, но нет, его обуревала горькая ярость, а следом странное оцепенение. Иной раз собственные переживания вызывали у него легкое недоумение, и тогда Гаррет лишь пожимал плечами.
Он сидел под дубом в ожидании рассвета и неспешно думал: «Если я уже ни на что не гожусь, отчего бы не покончить с собой?» Не было долга, который обязывал его жить дальше, никакая сила не могла заставить его пройти еще хоть ярд. Не было Бога, который утешил бы его или осудил, он не держал ответ перед высшим разумом – только перед своим.
Коралловые лучи коснулись низкого облака на востоке. Люк перебирал доводы в пользу жизни и все отметал как несущественные. Некогда честолюбие вывело его из бедности и бесславия, но все это в прошлом. Теперь мысли его туманятся, текут медленно, да и то сказать: какой от них толк при искалеченной руке? Прежде его удержала бы любовь к Коре, но и это он потерял. О нет, ее отповедь не уничтожила его чувства, но теперь он их стыдился и любил ее скрытно, втайне. Станет ли она его оплакивать? Пожалуй, да, подумал он и представил, как Кора наденет черное платье, подчеркивающее белизну ее кожи, как Уильям Рэнсом поднимет глаза от книги и увидит ее на пороге: она ахнет, на щеке ее блеснет слеза. О, разумеется, она станет его оплакивать – что-что, а это она умеет.
Он представил, как встретит весть о его смерти мать. Она никогда не держала его фотографию на каминной полке – что ж, вот и повод, купит по дешевке серебряную рамку и спрячет за стеклом его черный детский локон. И Марта, конечно же, – при мысли о ней Люк даже улыбнулся. То, чем они занимались в ночь летнего солнцестояния, доставило обоим удовольствие, но это было жалкое подобие того, чего оба хотели. «Что за путаница, – подумал он, – как же мы все запутали». Если и правда у Купидона есть лук и стрелы, то кто-то выколол ему глаза, так что он стреляет вслепую и никогда не попадает в цель.
Нет решительно ни одной причины продолжать, и он сам опустит занавес. Люк устремил взгляд вверх, на ветви дуба: крепкие, чем не виселица?
Что ж, еще один миг на земле в клубах тумана; раз не надо ни бояться ада, ни чаять рая, он уйдет с эссекской глиной под ногтями и запахом утра. Люк вдохнул и почувствовал все времена года – и молодую весеннюю траву, и цветущий шиповник, и еле уловимый запах плесени на дубе, а за всем этим – острое предвестие зимы.
Поодаль показалась лисица, глаза ее в сумерках светились, точно газовые фонари. Заметив Люка, она попятилась, уселась и стала его рассматривать. Наклонила голову, гадая, кто он таков и что делает в ее угодьях, потом, наверное, решила: пусть его сидит – и, потеряв к нему интерес, зарылась носом в свой белый воротничок. Через минуту, очевидно проголодавшись, лисица оживилась и мелко-мелко поскакала вниз по склону холма – иногда, заметив что-то в траве, прыгала на добычу, сложившись, как перочинный нож, подобрав передние лапки, – и скрылась в долине, махнув напоследок ярким, высоко задранным хвостом. Люк едва не заплакал от нежности к лисице: о лучшем прощании с миром нельзя было и мечтать.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































