Текст книги "Отзвуки Шопена в русской культуре"
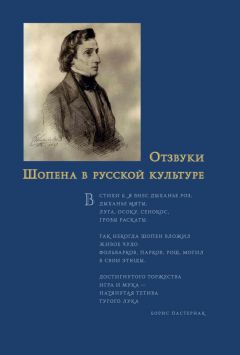
Автор книги: Сборник статей
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
Жорж Санд (восприняла это как намек на ее возраст). Я всегда была для тебя матерью.
Шопен. Пожалуй, это твоя главная ошибка…»11.
В его речи заключена вся история не только любви, но и сложных взаимоотношений между двумя творческими личностями, проявляющими собственную индивидуальность и неповторимость именно в творчестве, в интеллектуальном труде и даже в общественной деятельности. Не случайно Шопен воспринимался современниками и его возлюбленной как «хрупкое создание», «нежная душа», «маленький Шопен», «третий ребенок» и т. д. И, пожалуй, лишь Ивашкевич представил его иначе не только в творчестве, но в поступках и решениях. Отбросив клоунаду, связанную с куриным мясом во время обеда, автор незаметно переводит действие в принципиально иную сферу его восприятия. Шопен становится в конце драмы поистине трагическим героем: он – противник революций в жизни, он достойный партнер своей бунтующей возлюбленной, он высоко ценит ее любовь, но прежде всего он творец-музыкант, и в музыке он не боится революции, он готов противопоставить себя наивысшим авторитетам, даже Баху.
Эта сцена выдержана Ивашкевичем – не только знатоком людей, но и творцом удивительной гармонии художественного слова и музыки – в романтически возвышенном духе. Автор перевел разрешение конфликта в категорию будущего времени: все участники сцены, в том числе и Жорж Санд, остаются в тени. Освещены только Шопен и рояль. Он играет, и звучит его творение.
Можно считать, что важнейшим в драме Ивашкевича является анализ творческого процесса. Следует вспомнить, что никто, даже самые враждебно настроенные к Шопену персонажи не отрицают его таланта. Одна из героинь драмы – ученица Шопена Розьер, обращаясь к Жорж Санд, говорит о его творчестве так: «…вокруг Шопена тоже ощущается такая же духовная атмосфера, как вокруг тебя, или Мицкевича, или любого другого вдохновенного писателя». Жорж Санд ей, однако, возражает: «У музыкантов задача более легкая. Их понимают люди всех национальностей и даже простой народ. Их оценивают сразу, так сказать, на лету, и этим объясняется слава таких музыкантов, как Лист и Шопен. А нас по-настоящему оценит только потомство»12.
Далее следует рассказ Жорж Санд о создании ею романа «Лукреция Флориани». В нем писательница, по ее словам, передала свое отношение к Шопену, показав его в образе князя Кароля – истеричного молодого человека, который безосновательно ревновал свою возлюбленную и довел ее до смерти. Это сходство любовной истории героев произведения и их прототипов заметили их современники, а возможно, и сам Шопен, хотя и он, и Жорж Санд это отрицали.
У Ивашкевича данный факт служит опровержению утверждения Жорж Санд о том, что задача музыканта легче задачи писателя. По сути, вся драма построена на показе не менее тяжелого интеллектуального труда музыканта. Не случайно все ее действие сопровождается нестройными звуками игры на рояле. И лишь в самом конце рождается их гармония – знаменитая «Вторая соната». Ивашкевич, будучи и литератором, и музыкантом, сумел показать творческий процесс того и другого, хотя его представления об этом процессе не всегда совпадали с взглядами прототипов его героев.
Следует подчеркнуть роль автобиографического фактора «Лета в Ноане». Представляя зрителю (читателю) творческий процесс Шопена, Делакруа или Жорж Санд, писатель воспроизводил и свой собственный творческий опыт и одновременно «осовременивал» или проверял временем актуальность высказываний своих героев. Интересна в этом плане запись в дневнике Шопена от 12.10.1839 г.: «Глаза Авроры затуманены. Они блестят только тогда, когда я играю, тогда мир светел и прекрасен. Мои пальцы легко скользят по клавишам, ее перо стремительно летает по бумаге. Она может писать, слушая музыку. Музыка повсюду, рядом, нежная музыка Шопена, ясная, как слова любви. Для тебя, Аврора, я готов стлаться по земле. Ничто для меня не было бы чрезмерным, я тебе отдал бы все! Один твой взгляд, одна твоя ласка, одна твоя улыбка, когда я устаю. Я хочу жить только для тебя; для тебя я хочу играть нежные мелодии. Не будешь ли ты слишком жестокой, моя любимая, с опущенным взглядом?»13.
Для Шопена смысл творчества был в любви. Воплощаясь в конкретной женщине, в жизни, в творчестве, эта любовь приобретала глубоко философский смысл со множеством аспектов: женщина → семья → народ и родина → мир → вселенная → гармония. Жорж Санд же видела в Шопене не столько гениального могучего творца, сколько изнеженную, хрупкую, чувствительную натуру, далекую от реальной жизни. Такой психологический портрет князя Кароля, прототипом которого был Шопен, она изобразила в своем романе «Лукреция Флориани» (1846), созданном в пору расцвета их любви.
В натуре князя Кароля «было много очарования. Добрый, мягкосердечный, всегда и во всем утонченный… Он был хрупок и физически, и духовно… Он чем-то напоминал те совершенные творения, которыми живописцы средних веков украшали христианские храмы: дивноликий ангел, прекрасный, как высокая скорбная женщина, гибкий и стройный, как юный бог с Олимпа; и венчало этот неповторимый облик выражение его лица – одновременно нежное и суровое, непорочное и страстное»14.
Хотя отдельными штрихами Жорж Санд подчеркивает музыкальность Кароля, она, к сожалению, не воспроизвела в нем той творческой энергии, которая в реальности помогала «хрупкому физически» Шопену создать бессмертные музыкальные творения. В облике Кароля много возвышенного и истинного наряду с искусственным и фальшивым. Но художник вправе отходить от прототипа, поскольку пишет не биографию, а роман.
Логичным завершением любовной интриги столь различных натур как князь Кароль и актриса Лукреция был их разрыв, предопределенность которого ясна автору: «…душа, открытая миру, и душа, сосредоточенная только на самой себе, не могут слиться. Одна непременно погубит другую, оставив после нее лишь пепел»15.
В романе «Лукреция Флориани» Жорж Санд словно провидела печальный конец своей любовной истории. К счастью, в реальности «уничтожения душ» не произошло. Каждый из наших героев закончил свою жизнь согласно предназначениям судьбы: Шопен умер от туберкулеза, Жорж Санд – от старости, и оба они свою оставшуюся после их разлуки жизнь посвятили творчеству.
Следует отметить, что в эпистолярном наследии Жорж Санд Шопен представлен иначе, чем в романе, – прежде всего, как «божественный художник». И когда «он начинает играть, то так неясен и неопределенен музыкальный рисунок, что не сразу замечаешь. Перед нашими взорами постепенно возникают какие-то нежные оттенки, соответствующие пленительным модуляциям, улавливаемые слухом. Затем раздается голубая нота, и вот уже вокруг нас синева прозрачной ночи. Легкие облака принимают самые причудливые формы, они заполняют все небо, толпятся вокруг луны, а она бросает на них огромные опаловые диски и оживляет их померкшую окраску. Полное ощущение летней ночи. Мы ждем соловьиной песни…»16.
И все же любовь Жорж Санд к Шопену как великому творцу переплеталась в ее сердце с любовью иной, страстной любовью женщины и заботливой любовью матери. «Люби меня, мой ангел, мое дорогое счастье. Я люблю тебя», – читаем фрагмент ее письма к Шопену. Биограф Шопена Л. Биненталь утверждал, что в это письмо была вложена прядь волос писательницы17. Тон письма и прядь волос в конверте больше напоминают сюжет романтической литературы, которую в полной мере представляла Жорж Санд. Видимо, в реальной жизни она была другой. Об этом свидетельствует ее письмо к матери Шопена, в связи со смертью его отца: «Я не считаю возможным чем-либо утешать замечательную мать моего Фридерика – лишь уверениями в мужестве и выдержке этого замечательного ребенка (курсив мой. – С.М.). Вы знаете, сколь глубока его боль и как страдала его душа…Избавить его от столь глубокого и неутешного горя я не могу; но я могу… позаботиться о его здоровье и окружить его таким вниманием и такими заботами, как если бы это делали Вы.
Это сладостный долг, который я возлагаю на себя и который я никогда не нарушу. Я вам это обещаю… я посвящу Вашему сыну свою жизнь и… я отношусь к нему как к собственному сыну… я глубоко предана Вам как обожаемой матери моего самого дорогого друга»18.
И все же нет сомнения в том, что в ощущении мира и понимании назначения искусства у Жорж Санд и Шопена есть много общего. Об этом свидетельствуют приведенные выше фрагменты его дневника и ее писем. Разница заключалась скорее в специфике форм культуры, которую представлял каждый из них. Восторженные воспоминания о том, какими были в реальности Жорж Санд и Фридерик Шопен, оставил Генрих Гейне: «Она: у нее красивые каштановые волосы, ниспадающие до плеч; немного тусклые и сонные глаза, мягкие и спокойные; добродушная улыбка, чуть приглушенный голос, который редко слышишь, так как Жорж молчалива и больше занята наблюдениями, чем разговором. Он: это человек необыкновенной чувствительности; малейшее прикосновение к нему – это рана, малейший шум – удар грома; человек, признающий разговор только с глазу на глаз, ушедший в какую-то свою таинственную жизнь и только изредка проявляющий себя в каких-нибудь неудержимых выходках, прелестных и забавных»19.
Ивашкевич, безусловно, хорошо знал историю любви своих героев, и она, возможно, послужила ему для самоопределения своего места в культуре. Он совершенно по-своему внес в мир литературы музыку, Жорж Санд и Шопен могли служить в этом плане примером своеобразного симбиоза двух начал – художественного слова и музыки. Петр Митцнер, автор недавно вышедшей работы об Я. Ивашкевиче с выразительным названием «На пороге», решительно подчеркнул значение музыки в творчестве писателя. «Возможно, не литература, – пишет Митцнер, – не слово, а музыка лучше выражает духовность человека и позволяет ему найти общий язык с Богом»20. Решил ли этот вопрос для себя сам Ивашкевич? Через все его творчество прошла тема музыки. Его поэзия, проза, драмы, эссеистика и музыковедческие работы свидетельствуют об органической связи в его художественном сознании этих двух видов искусства. Не является исключением и драма «Лето в Ноане», в которой Шопен предстает гением музыки, а освещает его Жорж Санд.
Примечания
1 Irzykowski K. Lato w Nohant // Pion. 1936. № 51–52. S. 42.
2 Ibidem.
3 Ивашкевич Я. Собрание сочинений. Т. 8. Драмы, эссе, статьи. М., 1980. С. 73.
4 Там же.
5 Там же.
6 Цит. по: Моруа А. Жорж Санд. М., 1968. С. 226.
7 Шопен Ф. Письма. Т. 2. М., 1984. С. 185.
8 Там же. С. 209.
9 Там же. С. 210.
10 Моруа А. Указ. соч. С. 277–278.
11 Ивашкевич Я. Указ. соч. С. 59.
12 Там же. С. 23.
13 Моруа А. Указ. соч. С. 240.
14 Жорж Санд. Лукреция Флориани. М., 1976. С. 11.
15 Там же. С. 203.
16 Моруа А. Указ. соч. С. 243.
17 Шопен Ф. Письма. Т. 1. М., 1982. С. 350.
18 Шопен Ф. Письма. Т. 2. С. 69.
19 Цит. по: Моруа А. Указ. соч. С. 226.
20 Mitzner P. Na progu. Warszawa, 2003. S. 254.
Х. И. Рогацкий (Варшава). Фридерик Шопен в текстах польской культуры XX века. От Выспяньского до Дыгата
Фридерик Шопен – не только как фигура историческая, но как факт культуры, то есть фигура-символ, функционирующая в экзистенциальном, онтологическом и метафизическом пространствах, – появился в польской культуре, точнее в польском театре, в субботу 16 марта 1901 г. на сцене Краковского городского театра. В тот день проходила премьера «Свадьбы» Станислава Выспяньского, в постановке которой польский театр достиг своей художественной вершины – не достижимой ранее, а возможно, и впоследствии.
В начале третьего акта «Свадьбы» одно из действующих лиц по имени Нос в присутствии четырех других героев произносит довольно странную фразу-поток сознания, в котором появляется утверждение:
Если б жив Шопен наш был,
тоже пил бы,
тоже пил… (перевод М. Кудинова)
Действие третьего акта «Свадьбы» происходит на рассвете, первого – вечером, второго – в полночь. Место описываемых событий – деревня под Краковом, где поэт-интеллигент женится на дочери местного крестьянина. В эту ночь в деревенской хате интеллигенты, мужики и духи, возникшие из национального исторического сознания, ведут друг с другом разговоры о смысле жизни, сущности искусства и о Польше. Польши в то время не было на карте Европы – за сто лет до этого она пала жертвой соседних держав, и государственная независимость вернулась к ней только семнадцать лет спустя. Но в эту ночь появляется туманный и неопределенный шанс мгновенного освобождения отчизны. Правда, использование этого шанса было бы столь же абсурдно, сколь грех пассивности и бездействия. Поэтому рассвет, который призван был стать зарей свободы, застал всех в вихре танца в ритм музыки самого таинственного гостя из других миров – Соломенного Чехла.
Утром, само собой разумеется, герои были уставшими, не выспавшимися и просто-напросто пьяными, как это и бывает на свадьбе. Конечно, пьяным был и Нос. Это некто из кругов краковской богемы, художник или писатель. Все действующие лица «Свадьбы», драмы, основанной на случае из жизни, имеют свои прототипы в реальной жизни. Существует несколько точек зрения, объясняющих личность Носа, но большинство уверено в том, что Носа и его дилеммы не было бы без Станислава Пшибышевского1.
С. Пшибышевский (1868–1927) – выдающийся польский и немецкий писатель рубежа XIX и XX вв., метеор «Молодой Польши», крупная фигура польского, немецкого, чешского и русского модернизма2, начал свою карьеру «гениального поляка» в Берлине, написав эссе «Zur Psychologie des Individuums. Chopin und Nietzsche» («К психологии индивидуума. Шопен и Ницше», 1892), в котором модный во всей Европе философ сопоставлялся с польским романтическим индивидуалистом, и оба были признаны корифеями нового искусства. В 1898 г. Пшибышевский прибыл в Краков. Именно в этом городе началась эпоха Пшибышевского и Шопена, и именно эту эпоху воспроизводит третий акт «Свадьбы».
Нос – это Пшибышевский, двухлетний период славы которого вспыхнул в Кракове непосредственно перед выходом «Свадьбы». И Выспяньский пережил этот период, но в качестве внимательного зрителя и наблюдателя. В остальном жизнь краковской богемы, вся эта «пшибышевщина» прошла мимо него без следа. Возможно, не нашлось главного ключа к диалогу между ними. Выспяньский не пил… Многочисленные черты Носа отражают пшибышевщину. Прежде всего, пьянство. Артистическая братия пила испокон веков, но во времена Пшибышевского выпивка поднялась до высот ритуала, мистерии, лозунга «Я пью, пью, ибо вынужден пить…». Отсюда «Если б жив Шопен наш был, тоже пил бы, тоже пил…» Этот «шопенизм» – тоже эхо Пшибышевского, фанатичного апостола Шопена, а загадочное «там та рам там» в устах Носа – несомненно, не что иное, как фраза из прелюдии A-dur Шопена, которую Пшибышевский мог часами играть в момент высшего напряжения, все яростнее и отчаяннее ударяя по клавишам. Можно найти в Носе и другие черты Пшибышевского: это и манерное отчаяние («У природы свой расчет: / душу мне разбередила, / не дает в толпе мне скрыться, / хочет вытолкнуть вперед»), это и эхо сверхчеловека («У Бонапарта, вот у кого был нос») и т. д. Таким образом, этой фигурой Выспяньский открывает – для посвященных – окно во весь двухлетний буйный период краковской и всей польской артистической жизни. Нос, этот эпигон пшибышевщины, отгораживается от этой среды трагически гротескным ее изображением3.
Пшибышевский существовал, если можно так выразиться, по Шопену. Его образ жизни, казалось, брал начало в музыке. Он писал о Шопене, говорил о нем и играл его сочинения, как демон. Таким магом-виртуозом запомнил его Альфред Высоцкий: «Он что-то шептал самому себе, молился, декламировал. Мокрые всклокоченные волосы падали ему на лоб, лицо не раз кривилось в какой-то болезненной судороге, а пальцы с неописуемой яростью ударяли по клавишам, которые звучали, как колокола, как удары молотом по стальной наковальне, как громогласная походная песнь шествия куда-то в даль, в пропасть боли, тоски…». «Стах играл Шопена, и, по его словам, видел пред собой монотонные, тоскливые гоплянские равнины, трясины и голые деревья, гнущиеся от осеннего вихря и блестящие от мокрого пронзительного дождя. Или же он начинал каяться пред вознесенной дрожащей десницей старика-ксендза с золотой дароносицей, в которой отражались мерцающие огоньки восковых свечей, а публика падала ниц и пела: «Святый Боже, Святый крепкий…». Сколько раз слышал я Стаха, поющего этот прекрасный и любимый им гимн, когда он играл Шопена». «Пшибышевский выглядел после такой игры, хотя не всегда он играл в трансе, просто ужасно. Его руки дрожали, он шатался как пьяный. Правда, на пюпитре стоял полный стакан с ромом, разбавленным водой, который спешно пополняли, и Стах ежеминутно к нему прикладывался. Но он был одурманен не ромом, а этой музыкой, вырывающейся из глубин сердца, из самых потаенных уголков его сложной и немного больной души»4.
Сам Пшибышевский так писал о своей игре: «…слышится какое-то гремящее, героическое шествие, боль обнаженной души, страшная боль героического страдания, скрытого от людей в изысканной улыбке. Если же оно прорывалось в крике, то в таком, который рвет небеса на части, как на картине Эдварда Мунка». «…Все это играл человек, который сам во время игры впадал в какой-то необычайный транс и заражал им других!». ««Шопенизировать» стало у немцев поговоркой. Если кто-то использовал странную, слишком смелую метафору, если по своему усмотрению видоизменял язык или, скорее, извлекал из него неизвестные ранее свойства, говорилось, что он шопенизирует язык. Если кто-либо вел себя крайне экстравагантно, это было шопенизацией жизни. И так каждый из моих немецких современников «шопенизировал», когда в своем произведении корчился от боли, когда из его сердца вырывался душераздирающий крик, или когда он складывал руки в наисмиреннейшей, наитишайшей молитве»5.
В другом месте автор «Золотого руна» писал: «Я играю вовсе не так уж прекрасно, но люблю музыку до безумия. Все то, чего я хотел бы достичь словом, может проявиться только в музыке. Руки опускаются, когда я пытаюсь выразить хотя бы тысячную частицу того, что может выразить звук – слово навсегда останется для меня суррогатом, в душе я даже еще больше презираю литературу. К сожалению, я не мог целиком отдаться музыке, не хочу сочинять дилетантской чепухи, поэтому я вынужден писать, хотя уверен, что в музыке создал бы нечто гораздо более великое, чем в литературе»6.
Тадеуш Бой-Желеньский вспоминал об игре Пшибышевского: «Странное создавалось впечатление от прочтения заметок о его игре: одни писали о ней поэмы, тогда как другие считали ее халтурной. Разница состоит в точке зрения: это все равно, что поэта, который чудесно читает стихи, судить по технике декламации. Нам не мешали его технические погрешности; случайные фальшивые ноты и резкости, неожиданные fortissimo и яростные ритмические капризы – все это вместе сливалось в какую-то трагическую песнь, которая вырывала из человека душу. Возможно, это были вариации алкоголя на тему Шопена – транскрипция Spiritus – Шопен, наподобие Бузони – Бах, но транскрипция несравненная. А зрелище Стаха за фортепьяно – кто видел его, тот никогда не забудет. […] Ах, каким смехом разражался Стах, когда в такие минуты кто-нибудь упоминал о литературе! Каким глумливым смехом! Как презирал он все, что относилось к интеллекту, что претендовало на мысль, в такие моменты, когда он отражал лишь ультрафиолетовые ее лучи! Звук самих слов, звук, повторяемый без устали как музыкальная фраза, слово, возвышенное до уровня лозунга, под которым он пил. Ибо Стах никогда не пил без лозунга; каждый день, каждый час, практически каждая рюмка имели свой лозунг. В зависимости от текста, водка меняла свой вкус – как в той бочке, из которой Мефистофель в кабачке Ауэрбаха наливал немецким студентам разное вино. […] А когда он выпивал специально в мою честь, глядя мне в глаза своими раскосыми дьявольскими глазами, во мне все таяло от обожания и нежности, я чувствовал, что у меня вскрывается мозг, душа, сердце; что в его руках, которые в тот момент я был готов с радостью целовать, я становлюсь человеком»7.
Пшибышевский исполнял Шопена в большом спектакле длиною в жизнь, демонизировал и дурманил окружение, словно выполняя шопеновские предписания, но всю свою жизнь он также отстаивал свою идею «метамузыки» Шопена. По всей видимости, он понимал ее как некую заключенную explicite (а может, implicite?) в наследии романтического композитора прибавочную стоимость, воспроизводящую не поддающуюся определению польскую меланхолию, польский пейзаж и экзистенциальное, общечеловеческое отчаяние. В 1899 г. во Львове он так определил шопеновскую метамузыку: «За музыкой Шопена скрывается все несравненное богатство и очарование нашей земли. За этой музыкой разливается огромное море человеческой души, всеобщей души, и один только Шопен в нашей музыке имел право сказать вслед за бессмертным поэтом-пророком: «Имя мне миллион»». «Пшибышевский, собственно, не читал […] но говорил, держа рукопись перед глазами, говорил голосом, сначала тихим, приглушенным, как бы охрипшим, который со временем становился все мощнее»8.
К сожалению, у нас нет возможности проверить суждение, существовал ли в действительности этот дуэт Пшибышевский/Шопен или Шопен/Пшибышевский. Но если верить многочисленным воспоминаниям, писатель обладал неким внутренним флюидом, благодаря которому на его публичных шопеновских выступлениях можно было наблюдать явления массовой истерии, выступающей сегодня только в кругах «фанатов» массовых развлечений9. «Сосредоточенную тишину неожиданно разрывали истерические крики и спазмы. Приходилось приводить в чувство и выводить из зала чрезмерно восприимчивых обожательниц»10, – записал Стефан Кшивошевский.
Эта заметка, как, впрочем, и ряд других, принадлежит к сфере легенды. Легенды Станислава Пшибышевского и косвенно легенды Шопена. Поэтому упоминание о Шопене в «Свадьбе» Выспяньского представляется весьма значимым приемом. Реплика «Если б жив Шопен наш был, тоже пил бы, тоже пил…» – не просто эксгибиционизм и пьяный бред. Это исторический диагноз и манифест поколения, а также символ веры. Веры в необходимость быть гениальным в каждых условиях. Эта директива касается, естественно, творческой личности, то есть, по Пшибышевскому, гения и дегенерата – творца в стадии невроза. Творческая индивидуальность неизбежно «принесет себя в жертву роду», однако ранее – провозглашал Пшибышевский – «выполнит работу чувствительного барометра времени, выскажет всю правду индивидуальной и коллективной души, обнажит весь трепет и все страхи эпохи, возьмет на себя ее страдания и вселенскую боль, даст экспрессивный выход собственной тоске»11. Даже ценой лицемерия и подозрений в психопатии и шутовстве.
Для Пшибышевского встреча с наследием Шопена и его легендой вне всякого сомнения стала познанием Абсолюта, стала созерцанием бытия демиурга, производящего акт творения из ничего (creatio ex nihilo) и переживанием (и одновременно созданием) совершенного произведения, обладающего не только эстетическими, но исторически необходимыми ценностями.
Бурную полемику с подобной концепцией искусства и артистизма вел в эссеистских частях романа «Фердыдурке» (1938) Витольд Гомбрович. В IV главе («Предисловие к Филидору, приправленному ребячеством») этого выдающегося польского романа, во многом предопределившего дальнейшую эволюцию прозы XX века, он писал: «О чем, собственно, страстно мечтает тот, кто в наше время почувствовал призвание к перу, кисти или кларнету? Он прежде всего жаждет быть художником. Жаждет творить Искусство. Грезит, что Красотой, Добром и Правдой будет насыщать себя и сограждан, хочет быть жрецом и пророком, жертвуя сокровищницу своего таланта страждущему человечеству. А также, возможно, он мечтает поставить талант свой на службу Идее и Народу. Какие возвышенные цели! Какие восхитительные намерения! Разве не такова была роль Шекспиров, Шопенов? Но рассудите, и тут вся загвоздка, вы же еще не Шопены и не Шекспиры – вы еще не реализовались полностью как художники и жрецы искусства – вы на нынешней ступени вашего развития в лучшем случае только полушекспиры и четвертьшопены. […] Ошибка, которую бесцеремонно и постоянно вы совершаете, состоит в том, что вы сводите общение человека с искусством исключительно к художественной эмоции, понимая к тому же такое общение как акт крайнего индивидуализма, словно бы каждый из нас наслаждался искусством собственноручно, собственноножно, отгородившись непроницаемой стеной от других людей. В действительности, однако, тут мы имеем дело со смесью, составленной из множества эмоций, да еще и множества людей, которые, воздействуя друг на друга, творят коллективное переживание»12.
Не менее важен для Гомбровича и вопрос о функционировании художественного произведения в обществе: «Когда на эстраде пианист бренчит Шопена, вы утверждаете, что очарование шопеновской музыки в конгениальной интерпретации гениального пианиста очаровало слушателей. Но, быть может, на самом-то деле ни один слушатель очарован не был. Не исключено, если бы им не было известно, что Шопен – великий гений, а пианист – тоже, они выслушали бы эту музыку с меньшим энтузиазмом. Возможно также, что, если каждый из них, побледнев от возбуждения, рукоплещет, кричит и вскакивает, это следует приписать тому, что точно так же кричат и вскакивают все вокруг […]. Хорошо известно, человечество нуждается в мифах – оно выбирает себе кого-нибудь из множества своих творцов (кто, однако же, способен исследовать и описать пути, ведущие к такому выбору?) и возносит его над остальными, начинает заучивать его наизусть, открывает в нем собственные тайны, ему подчиняет собственные чувства – но если бы мы с тем же самым упорством взялись за вознесение другого художника, он стал бы нашим Гомером. Так неужели же вы не видите, из какого множества разнообразнейших и нередко внеэстетических элементов (перечень каковых я могу бесстрастно продолжать до бесконечности) складывается величие художника и произведения? И это сомнительное, противоречивое и трудное сожительство наше с искусством вы хотите заточить в наивную фразочку, что «вдохновенный поэт поет, а восторженный слушатель слушает»?»13.
Критика культуры в «Фердыдурке» становится критикой цивилизации, культивируемых ею системных решений и произвольной иерархизации ценностей. Юзек, главный герой и повествователь романа Гомбровича, – тридцатилетний писатель, который в гротескных обстоятельствах оказывается среди учеников шестого класса гимназии, – компрометирует романтические клише польского сознания, «незрелость» польского общества. Дискредитация государственной системы контроля над процессом созревания общества у Гомбровича эхом отзовется в «Картотеке» (1959) Тадеуша Ружевича – драме о том, как биографию заменяет собой картотека, в которой все карточки идентичны, а анонимный герой – обобщенный образ человека поколения Ружевича. Герой – мужчина «неопределенного возраста, занятий и внешности» – лежит на кровати в комнате, через которую проходят лица из разных периодов его жизни. В одной из сцен он сдает (с помощью Старца из Хора) выпускные экзамены «на аттестат зрелости» – свидетельство «интеллигентности» человека».
«УЧИТЕЛЬ: Не волнуйтесь, пожалуйста. Пожалуйста, подумайте.
СТАРЕЦ I: Что вы здесь делаете?
УЧИТЕЛЬ: У него сегодня экзамен. На аттестат зрелости.
СТАРЕЦ I: Хорошо, но почему сегодня?
УЧИТЕЛЬ: Он опоздал уже на двадцать лет. Больше я ждать не могу.
СТАРЕЦ I: А какие же у вас там вопросы?
УЧИТЕЛЬ (все время глядя в бумаги): Разные, разные. Садитесь, пожалуйста… Подготовьтесь, пожалуйста».
После ряда нелепых вопросов учителя и столь же нелепых ответов учитель задает герою решающий вопрос:
УЧИТЕЛЬ: Ага! (Вспоминает): Скажи мне еще: за что ты любишь Шопена?
СТАРЕЦ I: Шопен укрыл в цветах пушки, господин учитель, и прославил во всем мире Польшу.
УЧИТЕЛЬ: Да. Но что же ты испытываешь, слушая круглый год его музыку?
СТАРЕЦ I: Я испытываю глубокую благодарность к композитору.
УЧИТЕЛЬ (качает головой): Ну, можно ли говорить, что наша молодежь цинична и равнодушна»14.
В ответе (с использованием похвалы Шопену Роберта Шумана в 1836 г.) компрометируется система польского гимназического образования, высмеянная еще в «Фердыдурке» Гомбровича. Напрашивается вопрос: намеренно ли появляется Шопен на этом курьезном и сюрреалистическом выпускном экзамене. Если намеренно, то можно сказать, что «шопенизм» является атрибутом интеллигента, ибо аттестат зрелости – пропуск в мир интеллигенции.
К такому прочтению склоняет своего рода программное стихотворение Константы Ильдефонса Галчинского «Смерть интеллигента» (1947). Это написанный по заказу властей антиинтеллигентский пасквиль, но Галчинскому удалось метко запечатлеть опереточные позы и глупую экзальтацию представителей интеллигенции и выйти за рамки плоской публицистики. В последней строфе первой части («Житие») поэт дал емкую характеристику «польского святого», использовав известный факт из жизни Шопена (во время национально-освободительного польского восстания 1863 г. его рояль был выброшен солдатами из окна на мостовую):
Бредет в проулок тупиковый
фигура польского святого,
таща рояль Шопена15.
Тенденциозно интерпретируя эту строфу, можно увидеть образ интеллигента, который в одиночестве поднял с варшавской мостовой выброшенный на нее царскими солдафонами инструмент, на котором когда-то играл Фридерик Шопен.
Внимательное чтение стихотворения Галчинского вызывает вопрос, представляется ли в мифологизированном национальном сознании Шопен как солист или же он играет в некоем воображаемом оркестре? Ответ на этот вопрос дает небольшой альбом «Польша в картинах», вышедший в Кракове в 1957 г. На обложке значится, что альбом «разработал» Славомир Мрожек. Это одна из важнейших книг автора «Танго» и столь же важная книга о Польше. В разделе «Культура и наука» в ней помещена гравюра «Польский квартет». Исполнители: Войский (рог) – из «Пана Тадеуша» (1834) А. Мицкевича; Янко Музыкант (скрипка) – из позитивистской новеллы Г. Сенкевича, 1880; Вернигора (лира) – легендарный украинский лирник и пророк XVIII века, чей образ пером описал Юлиуш Словацкий, а кистью Я. Матейко. Вернигора появляется и в «Свадьбе» С. Выспяньского, а в фильме Анджея Вайды по мотивам «Свадьбы» (1972) призрак Вернигоры стилизован под Юзефа Пилсудского. Четвертый в квартете – Шопен, склонившийся над несуществующей на картине клавиатурой фортепьяно.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































